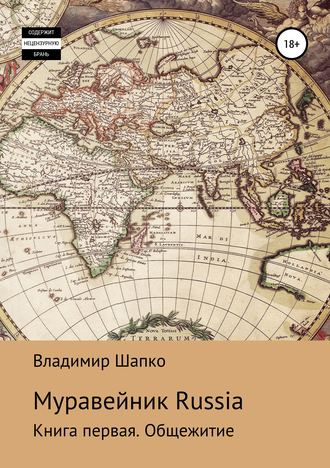
Владимир Мкарович Шапко
Муравейник Russia. Книга первая. Общежитие
На месте, возле светящегося гастронома на Броде, стоял и покуривал. Подсчитывал, сколько он мог бы на стипендию купить плавленых сырков «Дружба». Которые вон они, на витрине стоят. Пирамидой… Пожалуй,можно было бы всю пирамиду забрать. А Никулькова всё не шла. Задерживалась. Ладно. Все-таки хорошо, что можешь вот зайти в магазин и вынести. Успокаивает… Внезапно увидел Евгению на трамвайной остановке. Уже спиной к Броду, к свиданию! Как так? Пошёл. Совался к ней с разных сторон, посмеиваясь добродушно. Да ерунда! Да слону дробина! Похлопывал по плечу, укрощал. Она швырнула ему какие-то бумажки. Ну, нагнулся. А, билеты! На 20.30! Да ерунда! Да ещё успеем! Пытался развязно взять под руку. Ну, чтоб ощутить пушистое гнездо. Семейное. Руку вырвала. Тогда довольно громко спел на остановке песню. Наверняка никому не известную:
Быросьсерыдитыся, М-маша-а!
Э-песыню лучше спо-ой!
Мы с тобою, М-маша-а!
Э-встретились зимо-о-о-ой!..
Глядя на него с отвращением – Никулькова прыгнула в трамвай. И трамвай со скрежетом повёл колёсами, преодолевая поворот, как серпом по ...... И умчался – возмущённый в узкой улице…
Анекдот Серов рассказывал себе возле потухшей двери магазинчика: «И не думай, и не гадай! И не выйдет ничего!» А потом – когда всё произошло:«Ну, уж это просто ни к чему-у!..» Над головой его щёлкало красненькое словечко: «Табак». Название магазинчика. Вывеска. Вроде бы по ней бегали и с треском били какого-то красного мотылька… Срочно начал ходить по Броду. Приставать к девчонкам. На знакомство. От него бежали. Один раз чуть не заехали. Какой-то здоровенный парень. Но-но! Упал даже на ровном месте, с достоинством отходя. Ноги выше головы. Пошёл, отряхиваясь. Но-но!.. Снова пил в пельменной. Пытался будить звездочёта в графине, взбалтывал. Но свет уже притушили, дёргали, тащили скатерть из-под локтей, гнали на улицу. По ночной, в сусально-белых деревьях улице с затонувшими фонарями – плыл как небожитель. Низко раскачиваясь, блаженно пролезал и пролезал к её чёрному космосу вдали, к её сужающейся там вдали черноте… Как пришёл к Офицеру в дом – не помнил. Сам ли открывал ключом дверь, ему ли открывали – провал, чернота. В майке и трусах сидел, поматывался на краю тахты. Курил. Рассматривал под ногами у себя сопливый паркет. Проверяя, отдирал от него голые липкие ступни. То одну ступню, то другую. Так, наверное, фальшивомонетчики доводят до ума по ночам свои отпечатанные деньги. Потом задавил окурок в пепельнице и увалился к тёмной стенке. Ночью никак не мог подняться, встать с тахты. Похмельный язык был во рту как сухая вехотка. Воды! – сипел, – воды-ы! С трудом Серов сел. В залуненной столовой настенные часы Офицера щебетали как большой птичник. Пять или шесть их было. Помнили все юбилеи Офицера. Все до единого. Серов покачался перед ними, прошёл и долго глотал из-под крана на кухне воду. Снова ненадолго окунулся в механическое жаркое щебетанье, прежде чем отсечь его своей дверью. Кинул себя на тахту, опять к чёрной, ударяющей по закрытым глазам тишине.
Рано утром, сидя за завтраком в столовой с Серовым, перестав намазывать на хлеб масло, забыв о нём, Офицер напряжённо блуждал по столу взглядом. Офицер пытался понять положение, в которое он попал в собственном же доме: «…Приходишь, понимаешь, среди ночи… С какими-то порванными двумя кулями, в которых одни плавленые сырки «Дружба»… Швыряешь всё это вот на этот стол… Сверху посыпаешь мелочью – и уходишь в свою комнату… Это как понимать? Смеёшься, что ли, так над нами? Или вклад это твой?..» Все настенные часы замерли, перестав щебетать. Серов почувствовал, что краснеет. Не разучился, оказывается. А Офицер всё недоумевал: «…Куда их теперь? Я ведро с мусором выносил – ещё пятнадцать штук по лестнице собрал?.. Тётя Галя не знает, что с ними делать…»«Тётя Галя» – это жена Офицера. Чтоб Серов, значит, не забывал, как называть. Она летала.Как положено хлопотливой хозяйке. Из кухни в столовую, из столовой в кухню. Успевала даже попенять Серову, поболтать головкой. Тайком будто бы от Офицера: пьянее вина, пьянее вина! Да! Но Он – отходчивый, отходчивый!.. Серов забубнил, что отдаст. Внесёт сколько положено. Что заработает. Офицер видел полную растерянность и удручённость воспитанника. Офицер уже несколько осмелел, уже насмешничал: «В бильярдной, что ли, своей? Стукая по шарикам? Обманывая честных советских людей?» А вот это – не надо. Кому сапогами топать на плацу, а кому работать головой. Поднялся. Спасибо. Культурно приставил к столу стул. В прихожей, одеваясь, воровато обшарил свои карманы. Все. Точно до конца не веря в случившееся. И в костюме, и в полупальто… Всё правильно. Стипешки не было. Пустил всю на сырки…
Стоял на той же остановке возле главпочтамта, от которой вчера с презрением отбыла на трамвае Никулькова. Только в другую сторону стоял. К Политеху. Из магазинчика «Табак», точно переночевав в нём, сыпали мужички и разбегались. Составленной из плавленых сырков «Дружба» пирамиды в витрине гастронома – не было… Что за чёрт! Неужели оттуда снимали?.. Чо-орт! Сразу же вспомнил, как гонялся по Броду за девчонками. За Деушками. То в одну сторону торопился, там бортанут, сразу в другую. Старался везде поспеть, заплетал пьяными ножонками, маленький, ущербненький, старался в ногу с ними, в ногу, лопотал чего-то там, туго рисуя им лапами… Это как? А?Удавиться, что ли?.. Из боковой улицы опять повел серпом по … трамвай.Передавая будто бы привет от Никульковой. Расшвырнулась дверь. Как злорадно осклабилась. Прошу! Не хватало ещё только встретиться в одном трамвае. Нос к носу столкнуться. Полез. Воровато стрельнул глазами по почти пустому вагону. С облегчением уселся к окну. Трамвай загудел, набирая скорость, вверх по Ленина. Сквозь намётанную чехарду мороза по окнам, в тысячный, наверное, раз таращился на ворочающиеся в циклопьей пляске большие дома. Как Петрушка, заболтался навстречу Оперный. Серов тупо смотрел на вращающегося в голом сквере Революционера. Маленького вождя. Вождика. Похожего на загнанного на низенькую скалу козлика. Который обиделся и воображает. Что он летит по облакам… Мороз кидал белых штрихов на окна всё больше и больше, заставлял взгляд Серова вернуться в вагон и до конца пути поедать себя.
36. Срамной сон, или Выдвижение в народные депутаты
Кропин испытывал стойкое утреннее напряжение. Юношеское. Напряжение великое. В комнату опять заглянула Силкина. Верка. «Ну, как, по-прежнему? Напряжение? Говоря проще – стоит?» Кропин засмущался. «Вы бы, Вера Фёдоровна… Это ведь интимное… Это ведь…» – «Ничего,ничего.Мы должны быть в курсе. Мы поможем вам. Сейчас». Прикрыв дверь, исчезла. Чушу с диваном трясли и ворошили за стенкой как сено. Силкина ввела в комнату врача. Женщину. Молодую, в белоснежном халате. Улыбаясь, та присела к Кропину на кровать. Простыню на Кропине сразу подняло шатром.Но врачиха стала доставать из сумки медицинские принадлежности. «На что жалуетесь?» Кропин хотелобъяснить, но сразу встряла Силкина: «Понимаете, доктор, у него…» – и быстро зашептала что-то ей на ухо. Чтобы не слышал Кропин. Кропин, отвернувшись, плакал от счастья. После услышанного бровки врачихи удивленно вздёрнулись. «Да,да! – подтвердила Силкина. – Да! неутомим!.. И в таком возрасте. Ужас, знаете ли!» Кропин совсем зашелся в плаче. Врач, вернула себе деловитость. «Послушаем для начала пульс!» Откинула простыню. Повернула удивлённое лицо к Силкиной: «Однако!» Но взяла на ладонь всё напряжение. Всё напряжение Кропина. Как берут на ладонь большого налима. Чтобы покачать, прикинуть вес. Качать однако не стала, а средним пальчиком правой руки, приложившись к взбухшей вене,стала слушать, считать пульс. Вновь испытывая огромное смущение вместе с возрастающим, огромным напряжением,Кропин пытался останавливать её:«Доктор, что вы делаете, не надо!» – «Не мешайте считать пульс!» – сильнее сдавила напряжение доктор, а Силкина стала гладить Кропина по голове, успокаивать. Ничего, ничего, не надо смущаться. Здесь все свои. Члены партии.Сейчас вам станет легче. Мы теперь в курсе. Мы вам поможем. Дело житейское. Облегчим. Спокойно! Прослушала, наконец, врач пульс. «Пульс несколько учащен, но большой наполненности. Наш человек, наш! Отличный пульс!» Кропин с облегчением выдохнул и… и проснулся. Да что же это такое?! К чему это?! За стеной Переляев старался, сено ворошил интенсивней.Чёрт бы вас побрал! Через минуту Кропин резко всхрапнул. И сразу засмущался, извиняясь перед врачихой. «Ничего, ничего! – успокоила его та. – Теперь мы поставим вам градусник!» – «Зачем?» – «Надо!»Градусник она приложила прямо к напряжению. Вдоль него. «Держите!» Кропин обхватил.Удерживал. Двумя руками. Как на дереве привой. Градусник нестерпимо жёг холодом. «Не могу держать, доктор!» Вскочил, побежал куда-то, по-прежнему удерживая всё двумя руками. Бежать было неудобно. Мельтешил ногами. В коридоре общаги его догнали. Опять Силкина. Запыхалась вся.«Ай-ай! Кропин! А ещё старый партиец! Ну-ка назад! К врачу!» Схватила за всё напряжение с градусником. Дёрнув, повела Кропина, потащила. Как за оглоблю телегу. Кропин приседал, ему было нестерпимо сладостно и больно… и снова разом проснулся. Потрогал простыню… Да-а! Вот так стари-ик!..
Через час на кухне Кропин углублённо сопоставлял утренний сон и следствие его с предстоящим собранием. С собранием в общежитии. Где будут выдвигать Силкину в народные депутаты. Как голосовать после такого сна? После того, что произошло? И вообще, к чему весь этот сон? Манная помешиваемая кашка привычно всхлипывала, не мешала размышлять, делать сопоставления. Однако интересно – к чему такой сон? Вещий, что ли? Или – наоборот? Пустой, проходной?
Футбольный лоб утреннего Переляева после умывания был вытерт полотенцем до блеска. Переляев шутил, работал вилкой, жадно насыщался.После бурнойночки – набирался сил. Подмигивал.ТоКропину, то Чуше. Хохотал. А Чушины попугаи по волнующемуся халату словно бы смущались шутника,словно бы соскальзывали с халата, прятались. Всё было по-семейному. Крепкая семейка. Утром на кухне. Благодушнейший святочный дедушка или дядюшка в фартучке, в белом колпачке. И его молодые, хорошо плодящиеся детки. А где внучатки? Где они? Эй, пострелы! Кашка готова! Живо сюда!
На собрании Кропин сидел рядом с Сашей Новосёловым. Ряду так в пятом, в шестом. Точно опять надев одну на всех кумачовую юбку, за столом президиума сидели начальник автоколонны Хромов, глава треста и данного собрания Манаичев, представитель райкома, импозантный мужчина, который по-хозяйски оглядывал притихший зал, затем Тамиловский, парторг, и секретарем взята была Нырова. Сама виновница торжества, то есть Силкина, находилась через ряд от Новосёлова и Кропина, с краю, скромненько и даже стыдливо клонила голову. Но когда к трибуне чуть не за руку вывели представителя так называемого рабочего класса, какого-то парня из хромовских гаражей, и он с трудом заговорил – Новосёлов и Кропин одновременно увидели что она, Силкина, сразу закивала головкой, что губы её… шевелятся, повторяют за этим парнем слова, которые он вычитывает из бумажки. Парень мается, прямо-таки выковыривает слова из написанного, а она – шевелит за ним губами. Помогает ему. Непроизвольно. Как учителка в классе. За послушным учеником. То есть она Знает текст. Знает содержание этой нахваливающей её бумажонки. Знает наизусть. Она сама его составила, написала. Говорящий – только попугай. Послушный попугай. Она даже с ним репетировала. И парень, с трудом вычитывая, послушно бубнил: «…Вера Фёдоровна Силкина… с народом… Да… Она всегда… По какому… В чём… С чем ни обратишься к ней…всегда… поможет… разберется, решит вопрос… Я бы даже сказал, всегда…» Парень вгляделся в бумажку. Никак не мог осилить диковинного слова. Силкина готова была лезть ему в рот, чтобы растормошить там язык, чтобы он, язык, заработал, наконец. Заработал транспортёрной лентой!.. «Всегда…Уважит!.. да, всегда уважит рабочего человека!..» Парень достал платок. Вытирался. В растерянности Новосёлов и Кропин воззрились друг на друга. Но Силкина уже опомнилась, опять сидела скромненько, потупившись, и парень спасался сам, один, как мог. Было дальше и «верная… вернее, верный ленинец Вера Фёдоровна Силкина», и «авангард рабочего класса». И… «призываю… это… голосовать!»
Закончил читать парень. Перевернул в неуверенности бумажку. Однако на оборотной стороне всё… он… уже прочёл. Больше – ничего, нигде. Честно повернулся к президиуму. Ему кивнули: свободен. Так я пойду? Иди. Парень пошёл. Очень серьёзно Манаичев пригласил всех к аплодисменту. Требовательно поворачивал во все стороны свои хлопки. Затем, пока хлопали, изучал список. Обдумывал, кого дальше выпускать. Но встал и полез вдоль ряда Новосёлов. Вздёргивал руку, выкрикивал, спотыкался. Пришлось выпустить. Давай, Новосёлов.
С трибуны Новосёлов сразу заявил, что ни одно из требований предыдущего собрания, требований жильцов общежития… администрация не выполнила! Ну-у, парень! – загудел президиум. Так загудели бы, наверное, добродушные шмели. Если бы их задели, потревожили на цветущей яблоневой ветке. Да, ни одно из требований! Ни по ремонту общежития, ни по благоустройству территории, ни по столовой. Да ни по чему!
Трибуна, сама тумба всё время мешала Новосёлову. Всё время как-то оказывалась впереди него, вставала на пути. Он тянулся из-за неё, размахивал рукой, казалось, смещал, переставлял трибуну то вправо от себя, то влево. Пока вообще не бросил её и не стал говорить прямо с авансцены, придвинувшись к людям, нависая над ними:
– …По-прежнему процветает блат, кумовство, если не сказать хуже!По-прежнему лезут в общежитие какие-то шустряки, к которым потом едут их смуглые постоянные братья в больших кепках! Ни одного шофёра нашего не поселили за два месяца! Ни одного! Ни одного слесаря! А эти – пожалуйста! И большое подозрение, что многие уже с пропиской. Притом – с постоянной… Откуда?! Как?! Через кого это идёт?!
Вопрос этот не повис даже в воздухе, нет, риторический этот вопрос заползал по залу, по рядам. Как большой холодный змей. Пролезая словно у людей по спинам, под мышками, меж голых нервных женских ног. Заставляя людей подхохатывать, передёргиваться, обмирать. И завороженно ждать, когда змей этот длинный, пройдя все ряды, вымахнет, наконец, прямо в президиум: А?! Почему?! Через кого?!
Тамиловский поспешил себе и всему президиуму на помощь:
– Ну, вы это, Новосёлов, того!.. э-э… Я бы сказал, и не обоснованно, и бездоказательно. Да, бездоказательно. Мы же сейчас выдвигаем Веру Фёдоровну. В народные депутаты. Каково ваше отношение, Александр, к кандидатуре Веры Фёдоровны? Почему вы не высказываетесь по данной кандидатуре? По Вере Фёдоровне Силкиной? Выскажитесь, Александр! – И ждал, улыбаясь. Так ждут сальто-мортале от своего подопечного. Мол, вертанитесь, Александр!
– Так о ком я говорил-то?.. – деланно удивился Александр. И пошёл со сцены, добавляя не без сарказма: – Мы вот тоже думали, что Вера Фёдоровна нас с ремонтом… уважит, а она всё нас никак… не уважит… Верно я говорю? – обратился к залу.
Лимитчики сперва захохотали, потом страшно захлопали. Энергия хлопков, казалось, сметёт президиум. Весь, до последнего члена. Силкина,вся красная, кусала губки. Манаичев же с неподдельным недоумением смотрел в зал. Люди бесновались, как после танца-пляски стиляги какого-то, понимаешь. В пьесе, понимаешь, пятидесятых годов. Аплодисменты бешеные –а не поймёшь: в осуждение танца стиляги или в одобрение, в поддержку его? Сосед, райкомовец, однако уловил своё время, шепнул Манаичеву, тот тут же предоставил ему слово.
И – вот он. Высокий. Вальяжный. В демократичном сером костюме.Выходит. Руку кладёт на трибуну привычно, просто. Как кладут руку на плечо корешу. Который всегда выведет куда надо, не подведёт.
– Товарищи! Вы сами рубите сук, на котором вам сидеть! – Зубы его оказались необычайно белыми. Его улыбающийся рот казался снежной ямой!– Товарищи, неужели вы не понимаете, что в райсовете вашего района будет ваш человек. Ваш! Ведь он, ваш этот человек, может стать там… э-э… Председателем жилищной комиссии, допустим. Или, к примеру, участвовать в разработке новых положений о лимите, о лимитчиках, то есть о вас же, о вас!Не говоря уже о прописке в Москве! Не говоря уже обо всём прочем! Неужели непонятно? И всем этим будет заниматься ваш человек. Ваш! Вера Фёдоровна Силкина!
Лимитчики заслушались, а райкомовец подпускал и подпускал. Кто-то, точно толком не расслышав, отчаянно прокричал, будет ли Вера Фёдоровна заниматься пропиской лимитчиков?
Рот райкомовца отвесился очень серьёзно. Этакой тяжёлой белой канавой. Трибуна теперь была уже как бы громадной библией, на которую кладут честную руку:
– В первую очередь, товарищи. В первую очередь. Отложив все дела.Я знаю Веру Фёдоровну. Это – наш человек!
Его провожали такими же аплодисментами, как и Новосёлова. Если не более бурными. Он спустился в народ, подсел с краю к Силкиной. Очень как-то прямо и высоко подсел. Опять-таки очень бело, очень широко ей улыбался сверху. Как пломбир предлагал. Силкина, маленькая, рядом с ним приниженная, вцепилась ручками в его большой кулак. Еле сдерживая слёзы, – тискала кулак. Аплодисменты разом накрыли их с головой.
Дело было сделано. Манаичев уже командовал голосовать. Все дружно вытянулись. Не голосовали только Кропин и Новосёлов. Да за лесом рук в последнем рядусидел, матерился полупьяный опоздавший Серов.
Потом выступала сама Силкина. Горящие красные щёчки ее отрясались пудрой. Плачущий благодарный голосок её был вдохновенен, пламенной бился горлинкой.
На другой день Кропин поехал на Хорошевку, в «Хозяйственный», всё за тем же «Дихлофосом». Только новым теперь, очень сильным. Вернее нет средства, сказал сосед. Как прошуруешь— через полчаса лежат. Точно побитоевойско. Прямо с коричневыми своими щитами. Только заметай потом в совок.
Весенние, спорые, как крестьяне, омолодились тополя. Уже середина апреля. Облачка не очень чисто смели с прохладного неба. Глаза сами стремились к солнышку. На хорошо проклюнувшемся газоне скворцы бегали,кричали. Крик их казался зримым. Походил на очень чёрные, трассирующие очереди. Они словно перекидывали их друг дружке… Кропин засмотрелся,остановившись…
Вдруг увидел отпечатанных на листах кандидатов в народные депутаты. На заборе какой-то базы. Уже вывешенных мрачным рядом. Все исподлобья смотрят. Как уголовники на розыск.
Кропин уже ходил вдоль ряда, прикладывал к глазу одну из линз очков. Нет, не должна ещё быть здесь. Вчера ведь только собрание было. Рано ещё. В другой партии, наверное, появится… И – увидел. Её! Силкину! Портрет! С краю!.. В испуганной, но радующейся какой-то растерянности оборачивался к идущим людям. Вот она, смотрите. Висит. Улыбается, стерва. Нашёл!.. Двинулся куда-то. Спотыкался, высоко задирал ноги, сразу ослепнув и оглохнув. Очками промахивался мимо кармана. Это что же выходит? Как это понимать?
Вывешенный портрет Силкиной подействовал на Кропинаточно маска с хлороформом: он очнулся почему-то… впарикмахерской. Уже сидящим в кресле, уже завязанным простыней. Среди порханий и стрёкота ножниц и жарко сыплющегося одеколона…
«Как стричь?» – спросили его. «Покороче…» – неопределенно мотнул он возле головы рукой. И… снова вырубился.
Над Кропиным стали шептаться две девчонки в великих халатах. Две ученицы парикмахера. Не без трепетаприступили к учёбе. Ножницами они сперва выдёргивали клок волос с затылка Кропина, а затем разглядывали плешину. Ещё выдергивали. Ещё. То одна, то другая. И опять смотрели. Потом начали запускать в волосы машинку. Электрическую. Одна, вывесив язык, запускала, а другая осторожно переносила за ней подающий электричество провод. Девчонка надавливала, выводилаполосы наверх. Как бы прокосы давала. Голова постепенно превращалась в зебру. Бесчувственная – только спружинивала. Как тренировочная. Как болванная.
Иногда подходила сама мастер. Тетя Клава или тетя Даша. Начинала всё переделывать, перестригать. Говорила – только в нос, не для Кропина.Девчонки тянули шеи. Когда всё было кончено, голова стала походить на малярную кисть-маклицу.Хорошо отмоченную и поставленную вертикально… «Что это?» – увидел себя в зеркале Кропин. «Покороче!» – ответили ему и сдёрнули простыню. Девчонки кинулись, стали выдувать волоски.
Он вышел. Ничего не поняв. Из какого-то дома. Сразу остановился,рассматривая вывеску. Кто-то раскрыл дверь – в лицо пахнуло одеколоном парикмахерской. Словно заново. Словнодля одного Кропина. И какие-то две девчонки в халатах хитро выглядывали. Из окна… Значит это… парикмахерская. Он шагнул было к двери, но вспомнил… Да, вспомнил, что… что был уже там. Да, был. Проверяюще провёл по голове рукой. Девчонки в смущении начали отворачиваться, хихикать. Был. Точно. И… разом, с разворота рванул к Новосёлову. К Саше. Благо – воскресенье. Наверняка дома. Должен быть, во всяком случае…
Новосёлов с пэтэушниками махал метлой возле общежития. Подгонял их, вялых, недовольных.Подбадривал шутками. Подошедший Кропин повёл его в сторону.
– Где это вас?.. – глядя на голову старика, еле сдерживал смех Новосёлов.
– А! – махнул рукой Кропин. – Не в этом дело, Саша! – Озабоченно ходил. Метался возле Новосёлова. С прокосами на голове. – Здесь не решились. Понимаешь, Саша! Не решились. Силкину. А подальше пока, подальше.Возле дихлофоса. Возле этого, как его!.. возле «Хозяйственного». А дня через два и здесь уже можно будет. Понимаешь? Всю общагу заклеят. Любоваться можно будет тогда, любоваться. А пока рано ещё здесь, рано. Понимаешь? Стратегия, тактика! Пока нельзя здесь. Вчера только собрание было. Понимаешь? Нельзя. А завтра или дня через два – можно. Тогда постараются. Все стены заляпают. Вот увидишь!
Новосёлову сразу стало тоскливо. Жалко стало наивного, доверчивогостарика… И причёска эта вот его ещё. Как будто специально оболванили… И вообще всё это опять вязалось в один какой-то клубок. Названия которому Новосёлов, как всегда, не находил…
– Ну, зачем вы, Дмитрий Алексеевич… Разве вы не знаете, как это делается?.. Честное слово…
– Нет, погоди, Саша. Это что же получается?! Ещё ни кола, ни двора,как говорится, а уже всё давно распечатано, приготовлено! Выходит, всё предопределили заранее! Ещё собрания – и в помине, а уже портрет заказан, отпечатан, уже висит! А мы, как бараны....
– Не надо, Дмитрий Алексеевич…
– Да как же так, Саша!.. Да я… да я пойду сейчас – и выскажу ей всё!– кипятился Кропин. – Да как же так! Мы что – бараны, которых стригут, как кому вздумается?..
Новосёлов смотрел на дико остриженную потрясывающуюся голову старика, и ему стало жаль его до слёз… Приобнял беднягу, повёл в общежитие, к себе, чтобы успокоить как-то, поговорить, попить с ним чаю. Беззвучнопэтэушники заплясали, задёргались обезьянками. Затем побросали лопаты-мётлы в тачку, смело затарахтели следом. Новосёлов не возражал.
Кропин вышел из общежития в седьмом часу вечера. На остановке стоял словно бы с новой верой. Точно начал всё сначала. Стремился вновь заинтересоваться всем. Вот, скажем, совсем недавно прошёл дождь. Может быть, даже первый, апрельский. Три промокшие вороны сидят на проводах,как нахохлившиеся молчаливые ноты. За ожившим парком, по-весеннему рассеянным по воздуху, солнце – как оставшаяся вдали дорога…
Спросил у пожилой женщины, стоящей с большой корзиной на руке:
– Цветы продавали?
– Цветы, – хмуро ответила женщина и поправила на корзине тряпку.
– Подснежники?
– Ещё чего!.. По лесам-то лазить…
Так. Значит, уже из теплицы. Кропин хотел уточнить… но тут откуда-то на остановку, к людям, вытолкнулась пьяная. Тощая женщина в длинной вислой юбке. Прогибающаяся вся как кисть.
Промахнулась мимо отходящего автобуса. Точно теряя за собой ноги,повалились на проезжую часть дороги, подкинулась. Рукой тянулась. Будто выползала из своеймёртвой юбки.
Кропин это… как его? Как же так, боже ты мой! Он же – Кропин!Ведь он же не был бы Кропиным— если б не ринулся, не побежал! В следующий миг он уже растопыривался над женщиной, суетился. Ах ты, беда какая!Подхватил было под руку, чтобы поднять её, поставить на ноги… и получил резкий тычок в бок, чуть не опрокинувший его.
– На-ка, старик!..
Двое Сизых, невесть откуда взявшихся, сами сдёрнули пьяную с асфальта и повезли к сизому фургону. И всё они делали быстро, всё у них было отлажено. Женщину закинули в тёмное чрево кузова. Закинули как корягу.Которая медленно, жутко оживала там на полу. И точно добивая её, с железным грохотом захлопнули дверь, натренированно, только раз повернув взамке т-образным ключом. Залезли в кабину. Поехали.
На остановке Кропин дрожащими руками отирал пот. Ожидающие другого автобуса как будто не замечали старика, смотрели мимо, по сторонам. «И надо было тебе ввязываться?!» Тётка! Которая с корзиной! Смотрела с устойчивым презрением. С брезгливым превосходством. «В луже-то валандаться… В грязе… А? Не стыдно?..» Кропин отворачивался, делал вид, что не слышит.
В автобусе тётка бубнила ему в спину. Притом так, чтобы окружающие тоже поняли, о чём идёт речь. Призывала всех в свидетели. Такому полудурству. Вот только что случившемуся на остановке. Вот только что! Минуту назад!.. Не могла простить она такого старику, не могла. Ей хотелось сунуть ему в стриженый затылок. И-ишь, стиляга-а! Кропин прошёл вперёд. Вон он,вон он! Который котелок обрил! Как только автобус остановился – вышел.Тётка лезла с корзиной к окну, дергая сидящих людишек, всёпоказывала на Кропина.
Кропин сел на скамейку. Опять вытирал платком лицо. Склонённая голова его походила на только что остриженного ягнёнка. Всю жизнь теперь будет помнить тётка об этом случае. А через час-другой о нём узнает вся еёКудеевка.
Поздно вечером в звездном небе, будто в сильно траченной мольюнегреющей кисее, зябла маленькая старушка-луна. И опять ждал Кропин автобуса, чтобы ехать. Теперь, исправившись перед людьми – в глубоко насаженной шляпе. Как молдаванин. Был тих, задумчив. Задумавшиеся глаза его словно журчали, сроднившись с небом. Как две большие планеты. Руки удерживали сумку с продуктами для Кочерги.


