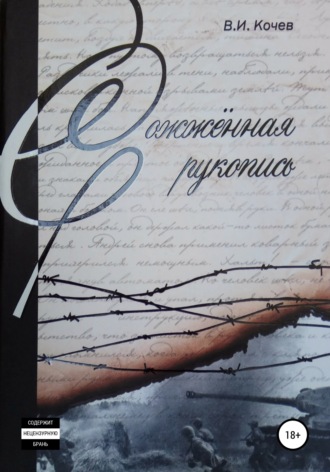
Владимир Иванович Кочев
Сожженная рукопись
Под арест, в заключение
Прощай же, свобода,
Да здравствуй, тюрьма.
Устал я, ей-Богу,
Убейте меня.
Жизнь в студенческом общежитии закончилась неожиданно. Ранним утром, когда все ещё спали, Онька проснулся, как от толчка. Над ним стоял милиционер. Сёмкину одежду прощупывал другой. У входа топтался ещё один. А тот коротконогий большевик с мощным лицом был одет, но сидел, повернувшись к арестованным спиной, будто не замечал всего, что происходит. Милиционеры повели ребят под конвоем пешком. Оказывается, в «чёрном воронке» возили лишь политических. Но не в знак уважения, а чтобы скрыть сам факт. И арестовывали их серьёзные люди – сотрудники ГПУ. А у милиционеров и наганов-то в руках не было. Но один из них предупредил: иди ровно, дёрнешься, стрельну в жопу.
Странно, Андрюша был рад. Один конец. Уж лучше смерть, чем волчья жизнь. Не паниковал и Сёма. И ему обрыдла эта двойная жизнь. Они оба крестьянские дети. «И гены у нас крестьянские», – думал Андрюша, вспоминая слова умного студента-морганиста.
Под конвоем увезли их из большого города. Так и не встретились мы с ними, а могли бы. Подростковая колония, куда попали «студенты», представляла гибрид школы с тюрьмой. Колония, как двуликий Янус, имела два лица: официальное – школьное, и фактическое – уголовное. Здесь всегда надо было держать фасон. Как же, ведь ты не фраер, всё повидал. А сколько приводов было – не сосчитать, и даже чалился. Голова вперёд, чуть ссутулен, руки в карманах. Но они всегда готовы оттуда выскочить.
«Я чо, тебе нанялся?» – говорят так равному.
«Дай закурить!» – просят у слабого.
«Ну, нету, на обыщи», – отвечает он.
«Я чо, легавый?!» – не теряя достоинства, «сильный» отходит.
Здесь, в колонии, которой боялись на воле, нежданно пришло облегчение. Не зря говорят: тюрьма – мой дом родной. Да, нету худа без добра. Тут не надо скрывать своё имя, таиться. И даже всё наоборот: чем ниже упал там, на воле, тем выше поднялся на киче. А если «завяжешь», тебя там похвалят, но тут твоё место – у самой параши.
Но не играли в эти игры ни Онька, ни Сёмка. Здесь было чем заняться после учёбы и работы. В колонии имелась огромная библиотека. Видимо, всё это изъяли при арестах и буржуев, и опальных марксистов.
Воспитатели были довольны новичками. Они зачислены были на курсы механиков и навёрстывали упущеное в школе. Учителя пророчили Андрюше даже рабфак. А колонисты звали их и уважительно и презрительно – «студенты». Воспитатели делали своё святое дело: лечили их психику, учили умных, смелых, покалеченных подростков. И достойных примеров для подражания было достаточно. Страна переживала героический подъём. Герои-папанинцы, рискуя жизнями, прокладывали Северный морской путь. Лётчики, рискуя собой, спасали обречённых. А на Черном море водолазы ЭПРОНовцы, рискуя собой, поднимали затонувшие в Гражданскую войну корабли.
«Вот где наше место. Будем водолазами, как только выйдем на волю», – решили они. Море, которого ещё и не видели, манило. А глубины страшили, но в этом и был героизм.
Но многие пацаны подражали лихим уркаганам. Они делали себе наколки на теле: кинжалы и барышень. «Студенты» тоже сделали себе наколки: маленькие якоря на левой руке. Это было как клятва верности морю. Об этом никто не знал.
Чтоб выжить в неволе – умей дать отпор
Но что-то зловещёе росло и сжималось. Первым почувствовал на себе это зло добродушный Сёмка. Он для острастки соорудил себе нож-заточку. Онька иронизировал: «Финка на воле нужна, а здесь мы дома».
Но предчувствие сбылось. Сёмке сделали «велосипед». Ночью, когда спал, в пальцы ног вставили бумажку и зажгли её. Он нервно крутил ногами невидимые педали, а злые шутники «ржали». Когда опомнился, выхватил заточку. Не ожидали шутники: страшен оказался «студент». «Поколю, суки!» – бегал он между кроватями. Но все прихери-лись – спали.
Новеньких «студентов» пробовали на слабину. К Оньке привязался Васька-Чинарик. Этот злой курильщик обычно открывал щелчком портсигар и доставал один из аккуратно сложенных окурков. В груди его что-то свистело. Хоть ростом был он ниже всех, зато лепил блатную музыку, как урка. И ещё у него было достоинство: он всех обыгрывал в орлянку. Рука счастливая. «Метнём на хруст, орёл или решётка», – предложил он новичку Студенту.
В руках у него было зажато по серебряному полтиннику. Никто не знал, что монеты эти были с секретом: один с обеих сторон с гербом, другой – наоборот. Чинарик начинал с рубля – давал выиграть. Затем ставка увеличивалась. В конце он выигрывал всё. Достав огромные карманные часы, встряхивал их, и озабоченно спешил по своим делам. Но на этот раз фокус-мокус был раскрыт. Этот новенький гад студентик на лету перехватил монету. Студент ославил Чинарика, лишил его хорошего заработка. Чинарика теперь звали Полтинник.
«Ну, блиндра, кровью харкать будешь, у параши спать», – угрожал он Андрюше. Выпустив весь запас тюремных слов, Чинарик поклялся: зацепив ноготь за зуб, щелкнул и провел пальцем по горлу.
«Не бери на «понял», хиляй на кроватку», – отмахнулся от него Студент.
Легко Андрюша разделался с этой шавкой. Но не мог такой оголец в одиночку так зло тявкать. За ними кто-то стоял. И наезды ещё будут. Для начала им могли помочиться в баланду или «навалить» в ботинок. Опустят – не поднимешься. Но случилось не так, с ними не шутили.
Как-то перед отбоем, прервав чтение, Андрюша отошёл в уборную. Неожиданно ему навстречу, откуда-то сбоку вышел Чинарик-Полтинник. Он шёл развалисто, как амбал. Смате-рившись, ударил Андрюшку в грудь, что было силы. Но удар курильщика оказался слабым, кроме того, от него попахивало водкой. Видимо, для храбрости подпоили. Оба остановились, один – в недоумении, другой, выполнив задание, ждал дальнейшего разворота сценария. И действительно, тут же появился Митька-Лоб. Он был на голову выше всех. Рот оттягивала тяжёлая челюсть, и бездумное выражение лица вызывало у его противников страх.
«Ты па-че-му забижаишь маленьких», – начиналась его заученная преамбула. Но Андрей стоял спокойно. Тогда Лоб применил следующий блатной приёмчик. «Ты мааего брата убил! – вдруг взбеленившись, он, рванув на себе рубаху, замахнулся. – Я тебе сделаю шмась». В этот момент Чинарик-Полтинник, незаметно забежав сзади, лёг под ноги Андрея. Это был следующий хулиганский приёмчик. Стоило толкнуть Оньку, и он, запнувшись, упал бы.
Но Андрюша, стреляный воробей, знал и эту шпанскую уловку. Растопыренные пальцы Митьки пролетели мимо лица Андрея. Он вовремя отстранился, при этом подтолкнув его. И Митька-Лоб сам, запнувшись, рухнул на землю. Сила удара о землю получилась двойная. Громила, распластавшись, лежал у его ног, а под ним Полтинник. Андрюша стоял неподвижно, но всё в нём кипело. Сделай Лоб хоть одно движение, и удар вдруг появившейся нечеловеческой силы обрушился бы на него. И Лоб, почувствовав звериную ловкость противника, смирно встав и вобрав голову, быстро зашагал прочь. Обгоняя его, убегал и Полтинник. По законам колонии лежачего бьют, добивают. Но Андрюша не стал это делать. Он жил по законам чести, что внушил ему его благородный пахан, Бледный.
В колонии всё оказалось непросто. «Студенты» попали в сбившуюся стаю, в которой верховодил свой вожак. Тут у каждого своё место, разорвут, если нарушишь порядок. Будут кусать и слабые, которых науськают. А паханом был Костя-Козырь. Это по его сценарию сегодня должны были покалечить новичков, которые не поклонились ему: «Выше бугра торчишь, что лишку – отрежем».
А в это же время Сёмке готовилась «тёмная» с отбиванием почек всей кодлой. Поднять и бросить на задницу, и нет следов, не будет и свидетелей.
Когда Онька вошёл в казарму, Сёмка, положив на табурет свою растопыренную ладонь, с остервенением втыкал между пальцами заточку. Игра – забава не для пугливых. А перед этим он показал обманный цыганский приём удара ножом, от которого не увернёшься. Ягнёнок показывал волчьи зубы, свора отступилась.
Но у Кости Козыря был главный ход. Он сидел в уголке, спиной к своей хевре, не обращая внимания на всё это, перекидывался в картишки. Сорвалось, он понял это раньше всех. Его карта бита. Студенты оказались кручёными фраерами.
«Но ничо, ничо, поживём, подождём, – думал Козырь. – А я тебя раздену, на цирлах будешь бегать возле меня», – грозился он, молча и зло поглядывая на новичков. Тонкого сложения был Костя, но всю колонию держал за горло. Его сила таилась в карточной колоде, почти как у Кощея Бессмертного. Он всегда её держал в кармане, нежно поглаживая каждый лист. Два пальца его рук чувствовали шероховатость, так как кожа на них срезалась, а рубашка карты крапилась.
Он обретал власть над карточными должниками. Они расплачивались услугами и снова проигрывали, попадая в его рабство. Но пока не до самого низа опустился он по тюремной лестнице. Не завёл он ещё камерного «петушка», как во взросляке.
Новичкам готовилось место шестёрок. Наживка у Козыря простая: «Трус в карты не играет». На этом и взяли бесхитростного Сёмку. В это время Онька дежурил на хозработах. К нему подбежал, озираясь, пацан: «Там со студента чешую снимают». Бросив всё, Андрюша побежал в казарму. Семка уже сидел в одних кальсонах напротив Козыря в его уголке. Проиграл всё. Не жарко в казарме, а с лица его капал пот. Под ногой он что-то утаивал.
«Заточку приготовил», – страшная догадка насторожила Оньку. Назревала развязка. Карточный долг или отыгрывается, или отрабатывается, или прощается после смерти. Два бойца Козыря, стоявшие рядом, не сочувствовали Сёмке – сами прошли через это.
Онька, вытолкнув неудачника, сам сел на его место, взяв на себя все долги. Большая игра начинается с затравки. Козырь скидывал. Дал немного выиграть: возвратил штаны, проигранные Сёмкой. И вот начал сдавать Студент – неожиданно отыграл всё. Сёмка торопливо одевался, складывая что-то в карман. Насторожился Козырь – карта удивительно шла противнику. Не знал он, что против него был применен приём-фокус Бледного. Наконец колода вернулись в руки хозяина.
«Всё, приманка съедена, пора бить наповал», – лихорадочно думал Козырь.
Но что это? Пахан колонии съёжился, уверенность, как маска, слетела. Удивление и испуг сделали лицо его детским.
«Тебе поклон от Бледного, пахана моего», – негромко и зло отчеканил Онька. Никто ничего не понял. Но всё понял Козырь: Студент незаметно подменил краплёную колоду. Колонисты со злорадством наблюдали, как бывший бугор доставал из-под матраца их ценности, которые когда-то выиграл.
«Чьё барахло? Разбирай», – командовал Студент. Но не это главное богатство Козыря. Главное – долги колонистов, в них его власть. Остановиться бы ему, не играть, но колонисты уже ждали его проигрыша. Шулер сидел на крючке. Отыгрался и тут же списался долг Чинарика-Полтинника. И он, бывшая шестёрка Козыря, уже стоял, за спиной нового пахана. Отошёл от банкрота-пахана и Лоб-боец. Все долги отыграны и списаны. Давно не было в казарме такого весёлого шума. Словно крепостным дали вольную. Козырь проиграл всё, что когда-то отнял. Осталось его раздеть. Толпа ждала этого, и откажись он – отметелили бы. Но так не случилось.
Последняя игра оказалась неожиданной. Предложил её сам Андрей: проигравший подаётся в бега. С ним что-то творилось, в нём возродилось шальное благородство Бледного. Пусть распорядится судьба. Играли в орлянку – пан или пропал. Толпа расступилась, метнули, все замерли. Козырь проиграл. Какой был весёлый шум!
Ритуал опущения хуже смерти. Он сидел, утянув голову в плечи, не в силах подняться. Был похож на крысу, загнанную в угол. Его косые глаза одновременно смотрели во все стороны пугливо и зло. Кто хотел, плевал и костил его. Чинарик кашлянул и его плевок, смачный и точный, ударил Козыря в лицо.
Тот, кто когда-то сильней пресмыкался, теперь больней унижал. Пинать его не стали, там нечего было бить. Он стал сукой, это и был настоящий Козырь.
Скрыл Онька краплёную колоду Козыря. Пожалел его – узнали, забили бы. Да и сам он переступил закон, передергивая карты. Вот и сквитались. А в орлянку уже играли по честному, на равных. Так бы сделал и Бледный, так рискнул и Андрей.
Козырь ушёл ночью тайно, как крыса. Воспитатели будто не заметили пропажи. Коллектив словно самовыздоравливал. Андрюшу и Семёна выбрали в совет отряда. Прошло ещё время, и Андрей стал председателем Совета отрядов.
Произошёл перелом в коллективе, но пока ещё не в их сознании. Идеалом многих ещё оставался удачливый блатарь, мотавший на киче срока. Наколки и золотые фиксы были в моде. А если ты чистенький, правильный – тебя заклюют.

Андрей – председатель Совета отрядов
Гитара украсит изгоям неволю
А Андрей оставался самим собой. Единственным другом, с которым делился, как с братом, был Семён. Он знал слабость своего друга. В казарме висел на стене репродуктор – чёрная картонная тарелка с подковообразным магнитом. Она что-то излучала, то музыку, то речь. К этому звуку привыкли, иногда прислушивались, но никогда не выключали – не выдёргивали вилку из розетки. Но этот примитивный репродуктор приковывал к себе Андрюшу, когда передавалась фортепьянная музыка. Он, слушая, отворачивался к стене, чтобы не увидели его влажных глаз, слезу, которую не мог сдержать. В нише коридора хранились мётлы, вёдра, лопаты. И зачем-то среди этого добра стоял рояль, чёрный, на гнутых мощных ногах. На него, как на стол, валили разный хлам. Андрей с благоговением подходил к нему и извлекал звуки, то весёлые, то мощные, трагичные. Соединить бы их в единый поток, как это делал Бледный! Нет, такому искусству учатся с детства.
Память снова возвращала его во вчерашний день. Сомнения занозой втыкались в совесть. Прав ли он был, сбежав от пахана? Пацаны-уголовники во всех щелях побывали, всё знали. Но ни с воли, ни с кича вестей и слухов о Бледном не было.
В красном уголке висела без дела гитара. Андрюша снял её со стены, и она, как живая, прижалась к нему. С тех пор до конца своих дней он не расставался с ней. Здесь эту страсть никто не осуждал. Она забирала горе и дарила надежду. Её любили все. Ловкие пальцы Андрюши умело щипали струны. Одинокие слабые звуки облекались в щемящие душу аккорды. Андрей переделывал песни, вставляя родные слова. «Казарма» молчала, когда звенела-страдала гитара, а неокрепший баритон высказывал сокровенные слова.
Появлялись новые, новые песни. Песня, как птица, не знает запретов-границ. Душа заключённого летит вместе с ней. И зря думают, что Мурка – тюремная песня. Её придумали на воле артисты, чтоб поглумиться. Нет в ней души заключённого.
Горькая весточка с воли
Когда судьба семью разбила,
когда потерян отчий кров, а
позади, – отца могила,
спасёт всех мамина любовь.
Шёл 1935 год. Андрей неожиданно получил письмо от матери. Оно было короткое. Писала его сестрёнка. Онька немедленно ответил. Получил длинное заплаканное письмо. Тут были и слезы горя, и слёзы радости. Тятя, строгий тятя умер с голоду. Та небольшая толика еды, что удавалось принести в семью, доставалась детям. Отец и мать почти совсем не ели. Вот и помер тятя. Помер, а кроткой Марфе, жене благоверной, жить наказал, деток всех отыскать – «без тебя пропадут оне».
Помер хозяин, и Онька пропал, и Гриня-малец потерялся. Горе нещадно хлестало. Но страх, что гнал их «подале» от родины, теперь, после смерти мужа, не «пужал». Бесстрашная стала Марфа. Собрала, что осталось от всех деток – Любку да Катю, вернулась в свою деревню. Родное место тянуло. Неподалёку с домом своим малуха стоит. Хозяева съехали. Скарб уж весь «расташшили». Крыша дырявая – не беда. Солнышко землю уж грело, весна подступала. Лопата в сарае нашлась, семенами родня помогла. К осени всё народилось.
Тридцать пятый год – счастливый год: кончился голод в деревне. Люди улыбчивей стали, веселее глядят. Будто туча пропала, ушла. Так что же благое случилось?
А причина банальна проста. Советское правительство, ЦК ВКП (б), наконец немного поумнело, снизило налог на огород и живность, расширились границы до разумных старых норм. И вновь деревня ожила.
В колхозе, где трудились от зари и до зари, они имели трудодни. По трудодням тем выдавали им чуть-чуть муки. А овощи и мясо они растили возле собственной избы, трудясь урывками, в свободное от колхозной повинности время. Лепота, коли раньше б так-то сделать.
Вернула Марфа из детской колонии и Гришку. Ему было девять лет.
Как это случилось, как он попал в колонию тогда?.. Он помогал семье пропитаться. Стоял в людном месте с пачкой папирос, продавая их поштучно. Но вот очередная облава – попал в милицию. Спрашивали: кто такой, да откуда. Но крепкий оказался пацанёнок. Знал, что родители без паспортов и справок, в бегах. Как ни пытали его «ласковые» легавые, не сказал, кто он и откуда.
Так попал Гришка в колонию. Знал Онька, что такое для пацанёнка тюрьма. Если не умеешь кусаться – забьют. Если и выживешь, останется след на душе. Позже Гришка вспоминал, что любимым местом в той колонии была печь. В неё, пока тёплая, забирались по очереди, чтоб согреться от трясучего холода. А обратно из печи ребята вытягивали друг дружку. А если кто большой да костистый, так и «шкуру» на челе печи оставит.
Но всё равно там клёво было. Кормили, никто не помер. Не пропал там Гришка. Не заедался, но и себя в обиду не давал, все слова нужные познал. «Как матькнешься трехатажно, все отступятся».
Злые были те парнишки только с виду. Вечером, лежа в холодных постелях, вспоминали тёплый дом, рассказывали счастливые небылицы. Там и наслушался Гришка добрых сказок про доброго, умного, нерасторопного с виду Иванушку. Эти русские мудрые сказки согревали, лечили ушибленные ребячьи души.
И если ты не одолеешь, тебя сломают, подонут
Ещё одну страничку ада
Придется грешнику познать.
Судьбе зачем то это надо,
Но ждёт, страдает дома мать.
Подростковые колонии в двадцатых и в начальных тридцатых годах, по сути, являлись школами ФЗО (фабрично-заводское обучение). Назывались они: труд-дома, труд-коммуны. Их шефами были ведомства ЧК, затем ОГПУ.
Правительство было в долгу перед подростками. И отношение к ним – мягкое. Эти пацанята имели здоровые корни, в основном это были дети репрессированных. Они учились, обретали специальность, забывали блатной мир.
Колония располагалась в старом монастыре. Тут раньше молились монахи, они лечили души грешников. Но и сейчас монастырь выполнял то же предназначение. Только вместо монахов были учителя-наставники. А прихожане, заблудшие овцы – это грешные подростки.
Россия, как разворошенный улей, успокаивалась, каждый находил своё место. Но к 1935 году снова что-то произошло. На страну накатилась вторая волна репрессий. Режим колонии ужесточили. Указ ЦИК и СНК от 7 апреля 1935 года давал крайние полномочия. По этому указу расстрель-ная статья применялась к преступникам уже с двенадцати летнего возраста.
Теперь на стенах их лагеря, бывшего монастыря, появились «попки» – охрана ГПУ с боевыми винтовками. Изменилось и название: колония для несовершеннолетних, строгого режима. Вместо убывших, которых Андрей знал, помятых да оправившихся, прибывали новенькие. Был среди них и такой, за которым числилось два убийства, но под расстрельный указ он не попал.
Теперь в этих условиях вся власть передавалась администрации колонии. Советы отрядов оставались лишь формальным приложением. Но тайная фактическая власть уходила в низы, к подонкам. Власть захватывали те, на счету которых самые изуверские грехи. Всё как во «взросляке», где власть принадлежала маститым ворам.
Андрей учился в школе, овладел профессией механика, сам проводил занятия. Он по-прежнему был председателем Совета отрядов. Теперь Его звали не по кличке – Студент, а по имени – Андрей. Вся колония была как семья. Вокруг него кучковались малолетки, находя защиту. Обычно на их большом «семейном» собрании решались все конфликты. Да и теперь формально ничего не изменилось.
Но что-то надломилось, Андрей это почувствовал, проходя по мастерским. Исчез весёлый шум, угланы глядели глазами побитых собак. Но среди них появились дерзкие – глядели зло, в упор. Это нарастали бугры, бугорки, паханы. И он, Андрей, им мешал. Но его терпели, ему немного осталось – он доматывал свой срок.
Сегодня они обходили колонию с Тихомиром Митрофа-новичем, как члены комиссии по подведению итогов соцсоревнования. Особенный был этот человек. Лицо святого, он беззащитен, а глаза знали истину. Быть бы ему священником. Впрочем, фактически он им и был. И колония находилась в монастыре. Никто не мог сказать о нём едко. Ему, как на исповеди, выкладывали обиды, а он всем находил утешение. Сейчас и он шёл растерянный. Ещё недавно он обещал: «Мы станем первой ячейкой коммунистического труда, а колонисты – братьями. Тюрьмы для малолетних уйдут в прошлое, это отрыжка капитализма». Его любимая фраза «Теперь у нас в Стране Советов нет социальной основы для преступлений» – не подтверждалась. Малолетние преступники, беспризорники, отцы которых попали под каток репрессий, вновь пополняли колонию. Но малолетки с «тяжелыми» статьями, как правило, были выходцы из благополучных семей.
В уголовный мир влекло их врождённое зло. Они опускались на дно по желанию, то была их суть, душевное уродство. Такие и захватывали власть в колониях.
В большом производственном помещёнии необычная тишина, привычного шума металла не слышно. Хозяева рабочих мест толкались возле Лётчика. «Лётчики-налётчики» – так именовал этот парень когда-то свою шайку. За ним числились, как воровская доблесть, мокрые дела. Это действовало устрашающе. Дружки его этим хвастались.
Лётчик, зажав в тисах, любовно доводил изготовленную им финку. Увидев воспитателя и председателя Совета колонии, не смутился. «Вот и поп толоконный лоб», – зло и весело выпустил он. Кто-то в тон ему хихикнул. Остальные стояли в нерешительности.
Глаза Лётчика, мутные и тёмные от расширенных зрачков, какими-то невидимыми столбами давили Андрея. Что-то несгибаемое было в этом человеке, жуткое и неотвратимое. Сегодня же пронесётся по колонии – «опустили председателя, а он и не ответил». Вот он, новый авторитет, который почти захватил колонию. Козырь ломал колонистов картёжными долгами. А этот задавит страхом. Лётчик ещё не «оперился», а слава «мокрушника» уже возвысила его над остальными.
Дружки «лепили» и о других его заслугах. Была у него маруха, как куколка наряжена, юбка до колен. Отбил у великовозрастного. Упёрся глазами, та и пошла к нему, как кролик к удаву. Не знали колонисты, что была та шмара всего лишь девочка-дурочка. А на грязных ручонках её не проходила чесотка.
Смелым считался Лётчик, но никто не знал, что был он пуглив и труслив. В хорошей семье рос, а завидовал оборванцам, которым всё нипочём, которых все боялись. Оттого и любил ножи. Дома истыкал весь диван финкой, которую выменял на мамину крепдешиновую блузку. С ножом он ходил повсюду, хотя ему никто не угрожал. И надо было проверить себя на чём-то живом. Кролик, который мирно ел морковку, попался ему в руки. Незнакомое волнение охватило его. Страх прошёл, когда от животного остались кровавые лохмотья. С тех пор и появилась в глазах его звериная жуть. Эта сила притягивала к нему таких же слабых, трусливых, подленьких.
Три человека-пацана была уже сила. Они «кучей» нападали на своего ровесника и избивали его. После стали и шманать. От хулигана до бандита – «гоп, стоп», дорожка не длинная. Стал Лётчик-налётчик и настоящим убийцей.
Выслеживали, подкрадывались к своей добыче. Кто-то из дружков бросал в глаза горсть махорки, а пока тот трёт их, Лётчик – нож ему в живот. И не сожаление оставалось в трусливой душе, а наслаждение, чувство силы и превосходства. Вот эта жуткая сила и лилась сейчас из его немигающих глаз, подчиняла слабых, обиженных.
Комиссия продолжала обходить производственные участки, а слух уже опередил их. Пацаны глядели на своего председателя глазами телят, которых поведут на бойню. «Ему не до нас, он скоро уходит на волю», – говорили бессловесно их глаза.
Андрей замкнулся, весь вечер не проронил ни слова. Напрасно Семён тормошил его. Андрей что-то решал. Утром он подошёл к своему обретённому брату, сжал крепко руку, ничего не сказав. Это было похоже на прощание. Так Сёмка и остался озадаченным.
Лётчик ходил как лев, поразивший соперника. Весёлая злость светилась в глазах его неподвижного лица. «Этот комсомолец-председатель сдрейфил, финку побоялся отобрать, хе, хе». Он увидел страх у пацанов, а значит, их воля принадлежит теперь ему. Шёл легко, как на пружинах. Теперь ходил и на обед не в строю, а отдельно. Шестёрки будут подавать ему на стол баланду. Так он весело думал, спеша в хезник.
Побрызгав и на ходу застёгивая ширинку, вдруг встал, наткнувшись, будто на стену. На пути стоял Андрей, дверь была заперта на швабру. Секунда молчания… Лётчик соображал. А глаза Андрея жестко кололи, ловя его взгляд.
«Ножичек запилил?» – голос звучал, как не свой.
«Спря-яшиваешь», – ломая язык, всё ещё весело и зло ответил Летчик, чуть приподняв левую руку, из рукава которой торчала рукоятка.
«И у меня есть», – Андрей потянул ремешок карманных часов, вместо них появилась ребристая рукоятка. Отпустил ремешок, и финка скользнула на место.
«Колемся, кто кого», – голос перехватило, внутри всё прыгало. Оба замерли. Одно движение, и схватки не миновать. Но Лётчик отпрянул, в неподвижном лице его промелькнул испуг.
«Или рвёшь чалки», – выдохнул Андрей.
«Ладно, ладно, – закивал Лётчик. Но, опомнившись, просящим голосом вымолвил: – А ты не продашь?» Спасши свою жизнь, он выпрашивал теперь и честь.
«Могила», – беззлобно заверил Андрей. Повернулся, чтоб выдернуть швабру.
«Ударь его в спину», – приказывал себе Лётчик. Но ноги его дрожали, руки бессильно висели. Он был подл, но труслив.
Андрей словно чувствовал всё это. Закрывая дверь, добавил: «А если что не так, ещё раз столкнёмся, при всех».
Он не шёл, а летел, тяжесть свалилась, мышцы радовались. А Лётчик, уже непохожий на себя, выходил из уборной. Его как будто ударили, и он всё ещё был в нокауте. Подскочив к нему, ему что-то говорил один из дружков. А он, видимо, не слышал, двигаясь, как слепой. Его всё ещё терзал страх. Дружки как-то враз потеряли к нему интерес. А он не пошёл на обед, не пошёл и на ужин. Его донимала «медвежья болезнь». Хезник стал его камерой.
Отошли от него корешки. Повеситься бы ему. Но он помнил условие: «Рвёшь чалки». Это был почётный конец.
Ночью втайне от всех пробрался он на монастырскую стену и с помощью проволоки спускался на ту сторону. Окрик «Стой!» и предупредительный выстрел не остановили его, – он отдал свою волю. Сорвавшись с середины стены, хромая, торопливо уходил. Ему оставалось шагнуть два шага, чтобы скрыться. Но, видимо, возмездие, которое должно было случиться, свершилось сейчас, здесь, на Земле. Выстрел в темноту наугад оказался точным.
ЧП в колонии – попытка побега. Подняли и построили все отряды. Обнаженный крепкий торс Лётчика был чуть-чуть замазан кровью. Казалось, он живой, и ему холодно лежать на каменном полу. Лекарь пытался зачем-то перевязать мёртвого. Бинт, обмотанный вокруг груди, спадывал. Охранник, глядя на результаты своего труда, перетаптывался с ноги на ногу. Значок «Ворошиловский стрелок», подвешенный мелкими цепочками к его груди, трясся, как от страха. Колонистов не отпускали, труп не убирали. Видимо для назидания. «Знайте, преступники, побегушник – всегда мертвяк». Приём устрашения действовал.
Никто, кроме Семёна так и не узнал истиной причины побега Лётчика. За высокие показатели в социалистическом производстве Андрею сократили срок заключения на один год. Тихомир Митрофанович, наставлял его: «А тебе Андрей, надо обязательно учиться». А он сделал необъяснимое: остался в колонии работать вольнонаёмным мастером, оставаясь и председателем совета отрядов. Причина была проста: он ждал Семёна, да и рано было ещё оставлять пацанов-малолеток, они все привыкли к нему, как братья, и он к ним.





