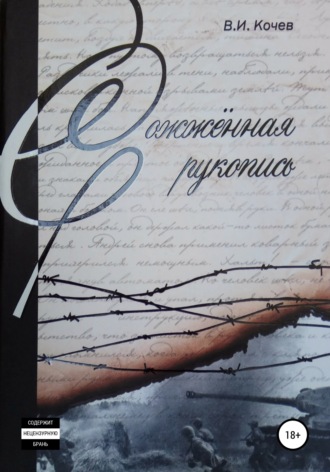
Владимир Иванович Кочев
Сожженная рукопись
Пути судьбы нам неизвестны, их путает не Бог, а черт
Товарняк тронулся. Удача снова не покидала Бледного: нашлась площадка, на которой можно стоять. Ветер рвал тепло из-под одежды. Сосны с недоумением смотрели на чумазого мужчину с портфелем, футляром, одетого в нелепое одеяние англичанина, зачем-то едущего в обратную сторону. Но пахан ушёл в себя, не чувствуя ни холода, ни голода, ни горя, хотя ехали стоя уже всю ночь. Остальные, глядя на него, терпели. Товарняк отчего-то остановился между разъездами. До следующей станции – пять-десять километров. По каким-то соображениям Бледный решил сделать остановку. Пройтись прогуляться пешком, побыть в этой дикой и чистой природе, а может быть, и запутать следы.
Солнце уходило, оставляя свои последние лучи. Стена деревьев заманчиво ждала путников. Неизвестность притягивала. Шайка углубилась в лес. Костёр распалился, и всё вокруг потемнело. Огонь притягивал и сближал. Бледный сжег свой футляр, а в портфеле оказалась копчёная колбаса, консервы и водка. Братишки повеселели, развалясь на ласковую траву, разговорились о шмарах.
Толстый ствол «сухаря» горел ровно, намереваясь греть путников до утра. Онька лежал на спине, звёзды приветливо светили из тёмного неба. Пахан лежал немного в стороне. Но центром был он, осью всей этой круговерти, тайги и неба. Этот центр перемещался вместе с ним. Его воля проникала без слов, он знал всё и не ведал страху. Уверенность пахана, сила огня, и вечность неба вливались в сознание. Онька уже не чувствовал беспокойства. Страх навсегда сгорал в костре, улетучивался вместе с искрами. Сухарь догорал, но огне-вище ровно грело накопленным жаром. Братишки спали, подставляя теплу то один, то другой бок. Беззаботно прижавшись к земле, радовался сну Сёмка. Мужская постель – это сон у огневища. Неземной казалась земля в этот бесконечный миг. Необычная тишина – можно слышать самого себя. Солнце ещё не взошло, но свет, мутный и фиолетовый проникал отовсюду.
Бледный, облокотившись, глядя на жаркие угли, напряжённо молчал.
«Ты за белых или за красных?» – вдруг спросил он. Вопрос был неожиданный и нелепый, как и его одежда.
«За каких белых, красных?» – недоумевал Онька.
«Ну, если бы сейчас вернулся восемнадцатый год?»
«Наши все за красных воевали, – чему-то радуясь и как бы оправдываясь, выпалил Онька. – Дядя Яша командир-партизан, колчаки его в перестрелке ранили, штыками лежачего кололи. Памятник им, красным героям, стоит на селе. А дядя Ваня Перекоп брал, награду за то имел. – Андрюша замолчал, волнуясь, и уже совсем тихо добавил: – А сейчас вот раскулачили».
Бледный напряженно молчал, пауза затянулась.
«А я… – с каким то отчаяньем выдохнул он и снова замолчал. Потом приподнялся и, сделав короткий кивок, отчеканил: – Белой гвардии прапорщик Кравцов, имел честь драться с красной сволочью, ранен под Перекопом».
Он раскрыл рубаху и показал рубец. Рассвет стал молочным, солнце ещё не показалось, но восток уже слепил глаза. Прапорщик Кравцов говорил и говорил, как будто сам себе. Не всё доходило до сознания Оньки, отпечатываясь в памяти. Впервые, как ту фортепьянную музыку, он услышал слова: честь, Отечество, Россия.
Семнадцатый год, февраль, революция без насилия и без крови. Словно яблоко красное вызрело и упало само в руки истины. Гимназисты на улице, красный бант на груди, и стихи и стихи, марсельеза. Царя, царский двор – всех в почётное отречение. Демос – народ принял власть. И прекрасно бы было, по-Божески: ждал Россию невиданный взлёт. Да, пришли, ворвались злопыхатели, искусали тот девственный плод. Красиво говорил Кравцов, белым стихом. И началась не война, а драка насмерть. Дралась Россия сама с собой. Братья по крови, языку и культуре убивали друг друга. И вот он, чёрный конец года двадцатого, Крым – последний оплот благородной России. Она, как в крепость, запряталась в Крым. И врата его крепко запёрты. А красные прут. Их трупы смердят у границ Перекопа. А слева и справа топкие Сиваши ограждают белых от красных. Но красные не белоручки – прошли по тем грязным разливам. Прошли там, где и дикие воины, орды не смогли пройти в прошлые века. Рухнула, пала крепость. Продвигались красные по Крыму, но белые им ставили заслоны. А кто-то готовился к бегству, корабли уж стояли в порту в ожидании. А юнкера – надежда и честь уходящей России, бросались безудержно в бой. Среди них и был юнкер Николенька, как звала его маменька в детстве.
Мой отец тогда тоже был в возрасте юнкера, но воевал на другой стороне, стороне победителей. Пройдёт много времени. Отец не любил вспоминать войну. Война – это зло, а гражданская война – грязное зло. А Сиваши вспоминал, как курьёз. Он получил за прошлые бои дорогую награду: армейские тонкого хрома красивые сапожки, и берёг их, как невесту. А тут распоряжение, по гнилым Сивашам, по солёной воде – вброд, в обход путь разведать. Не за себя боялся Иванко, за сапоги хромовые: ухайдакает их гнилая солёная вода.
Рано, рано в темень двинулись местные проводники: дно, где помельче, определяли, да шесты – знаки там втыкали. А красная полурота их прикрывала. Шёл Иванко, как все по пояс в воде. Но он сапожки свои в сухости сохранил: на загорбке их приторочил. Но и ноги о колючки морские не поранил. Он, мастер-сапожник, онучи себе заранее сшил, из подсумка перемётного. Задачу полурота «сполнила». Но заметили их беляки, обстреляли. Вода вокруг кипела-булькала. Да было поздно: шесты расставлены, красноармейцы уж назад брели. В воде не спрячешься, окопчик не выроешь, бегом не убежишь. Терпели да брели и выбрались, обошлось, все целы остались. Морозной корочкой вода уж кое-где покрывалась. На берег выбрались, зуб на зуб не попадал.
Поняли беляки, что не удержать им перешеек: красные с тыла по Сивашам зайдут, сами отходить стали. Но пятились белые умно: заставы, засады да заслоны на пути противника ставили. Умели «офицера» воевать, умирать красиво. И красноармейцы отчаянно шли на последнюю битву. Всем, кто проявит геройство, кожаные тужурки комиссары сулили. Говорили, что по заказу Ревкома в Москве уж их шьют.
В одну из застав и бросили роту юнкеров. Среди них был и Коленька Кравцов. И вот появились красные. Толпой наступают, штыки сверкают, комиссары маузерами машутся. Интернационал запели: «Это есть наш последний и решительный бой». Они тоже, как «офицера», красиво в атаку ходить научились.
Лежат юнкера и целятся: команды ждут. Поручик – георгиевский кавалер – за пулемётом, палец на гашетке. Юнкера лежат, «глаз на прицеле», команды ждут. Страшно – красная смерть надвигается. Вот уж близко, как похоронную песню – Интернационал затянули. Мурашки по телу, но юнкера не стреляют, команду ждут. Но вот, застучал пулемёт, захлопали часто винтовки. Порвалась на слове песня. Падают от хлопков те люди, как косой валит их пулемёт. Кровавую баню устроили юнкера красным убийцам. Разлилась кровь красных по крымской земле. Побежали назад неубитые, только мелькают подмётки.
Достал тот поручик портсигар, закурил, смеясь, только папироска чуть-чуть приплясывала. И все засмеялись да закурили, и кто не курил. И тут, будто ждал, прискакал нарочный. Доложил честь по чести поручику: имеет поручение от командующего вручить офицерские погоны юнкерам, то бишь, уже офицерам.
И открыл подсумок. Прицепили погоны – все в раз офицерами стали. Солнце светит, золото на плечах блестит. И выпускной парад вот-вот начнётся.
Отпугнули красных, но они не отступятся. У варваров волчий закон: они пожирают своего самого слабого. За самовольный отход каждый десятый должен быть расстрелян. Таков приказ – закон Троцкого, председателя реввоенсовета, наркома, военмора.
И вот они снова идут, в два раза лавина шире. Падают, да идут. Вот-вот и в атаку кинутся. А как «ура» заорут, заматерятся, тогда русского не остановишь – он без ума, страх потерял. Скипела вода в рубашке ствола «Максима», да и лента последняя кончилась. А ружейным огнём не многих убьёшь. Встал поручик – георгиевский кавалер, достал серебряный портсигар, закурил и громко крикнул: «Спасибо, братцы, мы приказ исполнили – придержали противника. Отходите, спасайтесь».
И кто-то дёрнулся, будто ждал той команды. А кто-то стоял, ждал, глядел на поручика. А тот взял винтовку, примкнул штык и пошёл один в контратаку. Крест георгиевский на солнце отсвечивал. Награда та получена ещё за германскую войну. В Гражданскую войну офицеры не пачкали свою честь: крестами за драку с братьями по крови не награждали.
И пристроились к нему, кто бежать от врага стыдился. Идут мальчуганы стальными штыками вперёд, золотые погоны блестят, папиросы дымят. А лавина орущая на них катится. Коля подоспел к георгиевскому кавалеру, когда у его ног уж корчились враги. Но лавину не остановить: задние прут на передних. Но и смертник каждый, что десять. Почти сам наскочил на штык такой же юнец, как Коля. Уронил винтовку, схватился за живот и красноармеец – по годам ему отец. Но вот удар по голове, как бревном. Коля на миг забыл, где он. Осел на колено, выпустил винтовку. А спереди на него уже летел человек, беззвучно раскрыв рот. Штык входил в грудь Коли без боли.
Быть может, и отец мой был в том бою. Но знаю точно – не он ткнул «лежачего». В нашей деревне в кулачном бою, лежачего «боле» не били. Таков неписаный кодекс мужицкой чести.
Очнулся Коля в лазарете, забыл себя и время. Закрывал глаза, а тот человек летел на него, широко раскрыв рот, крича без звука. Штык снова входил в тело, боль резала сознание. Коля, вскрикивая, просыпался. Долго ещё за что-то мучил его ровесник. Подходил человек в белом халате, щупал пульс. Водил перед глазами ладонью, «бред, бред», – объяснял он какому-то человеку в кожаной тужурке и с маузером. Ночью разбудила няня, добрая, как мать, и шепотом предупредила: пожалели тебя, сорвали офицерские погоны, записали вместо убитого красноармейца. Фамилия твоя – Коровин. Вот так и спас его ровесник, которого Коля, быть может, и приколол.
За окном болталась красная тряпка, гремел духовой оркестр. Праздновали освобождение Крыма и третью годовщину Октября.
И ещё один удар довелось принять Коле. Глянул в зеркало, замер: волосы побелели, а при волнении и лицо бледнело. Ходячие раненые не спеша раскрывали кисеты, крутили козьи ножки. Радовались, что живые, да хвалились, костили белую контру.
«Офицеря идут, фасонят, будто на смотру, паперёсками чадят. Всех перекололи, растуды их, мать твою в качель».
Тайга уральская
Если тонет корабль – спасайся,
Но один лишь спасательный круг,
смерти не бойся, мужайся,
пусть же выплывет маленький друг.
Пахан закончил свой рассказ. Свинцовый налёт снова закрыл его ясные глаза. Он опрокинулся лицом к земле и тяжело замолчал. Андрюша, слушая, молчал, ошарашенный открытием. Сознание не поспевало за чувствами.
Солнце всё ещё не взошло, но уже расплылось на горизонте расплавленной платиной. Сухарь догорел, от горячей выжженной земли веяло, как от печи.
Проснулся Сёмка, по-детски доверчиво улыбнулся. Бледный и Андрюша уже стояли, готовые в путь. Очнулись и Братишки, закурили, поплевались, хмуро молчали. «Отлили» на место, где был костёр, и на ходу жуя колбасу, поплелись последними. До станции – час, два прогулки, и целый день впереди.
Незнакомый лес удивлял Оньку. Он сравнивал свой лес в Зауралье – невысокий да кудрявый. По грибы да по ягоды ходили как к себе домой. Бывало, поблудишь, да всё равно выйдешь к людям. А тут Бледный сказал, что по этому лесу можно до океана дойти, и человека не встретишь. Он всё знал, ещё в скаутах они с компасом по лесам путешествовали.
Тайга пугала бездонной глубиной. Но здесь не боязно: лесная дорожка вела их вдоль, не удаляясь от железной дороги, входила в лес, огибая низинки, и снова встречалась с ней. Притихли Братишки, и уж не «натыривались» друг на дружку, говорили вполголоса. Чистота незнакомой природы удивляла. Вот из нутра каменного угора сочится, журча ручеёк. Подходи да пей и набирай водицы в дорогу. А рядом кедр наронял созревшие шишки. Собирай, желуби, неси в своё жильё. Зимой ночь длинная, лежи на пече, да шшолкай, лакомись. Сладкая малина да сытные грибы уж почти отошли. Но назрела нужная для здоровья и клюква и брусника. Ходи, но с опаской, по болоту, собирай полну торбу. Да гляди, не провались: земля на болоте только сверху плотная, а под ней – водица-озеро. Ничего этого не знали путники. Здесь в просторах урёмы они были всего лишь паразитами, пришельцами с другого мира. Тропа заводила их в дебри. На пути стоял великан, свесив свою лапистую крону до земли. Казалось, он охранял вход в это неведомое царство. Вот узкой полосой влетел в столетние деревья какой-то хулиган-ураган. Свалив двухвековую лиственницу, успокоился. Корневище десятиметровой «тарелкой» возвышалось к небу, всё ещё удерживая в своих лапах матушку-землю. А вот ель наклонилась на крону кедра. И он держал её, словно возлюбленную, прижав к себе, не давая упасть. Другие деревья поменьше, как травинки, сдутые ураганом, лежали вповалку, отдаваясь гниению, словно бойцы, погибшие в схватке. И пройти через них непросто: где-то надо пригнуться, где-то вскарабкаться по-медвежьи.
В одном месте лес неожиданно по-праздничному преображался – открывалась гигантская аллея. Кажется, она создана по воле разума. Коридор её закрыт от солнца, но в ней почему-то светло. Проход усыпан ковром сухих жёлтых иголок. Всех, кто ступает в этот природный храм, охватывает благоговение. Быть может, так кажется, – живут тут души заблудших людей.
Память возвращает прошлое
Через полвека я побывал там. Ностальгия овладела мной. И судьба, будто нарочно, подставляла эти исторические для меня места. На этот раз нашим проводником был Алексей Иванович. Он вырос здесь. Сейчас работал в леспромхозе, собирался на пенсию. Обычно, взяв свою непородистую собачку и потёртое ружьё, шёл с удовольствием, как будто не спеша. А мы, отмахиваясь от комаров, напрягались, чтобы не отстать. Его же они почему-то не беспокоили.
Но когда он приезжал к нам в город, будучи в командировке, чувствовал себя так же неуверенно, как и мы в его лесу. Ему неудобно было ходить по асфальту. Он смешно растягивал шаг, делая страдальческое лицо. А здесь он хозяин. И собачка его – дальняя родственница лайки, тоже хозяйка. Дерётся, если надо, с большими собаками так же коварно, как лайка с медведем. Забегает сзади, кусает, убегает. Но снова повторяет свой маневр до тех пор, пока измученная псина не убежит, поджав хвост.
По дороге Алексей Иванович, как экскурсовод, рассказывает нам и дает пояснения. Сыновья его, сейчас уже повзрослевшие, бедовые были в детстве. «Завалить мишку» считалось в их посёлке ухарством. Возвращаясь как-то из леса с ягодами, увидели они его, переваливающего через тропинку. Вместо того чтобы затаиться и переждать, старший тут же вскинул дробовик. Он забыл, что ружьё заряжено не жаканом, а дробью. Да его и пулей-то не сразишь. Все помнили такой поучительный случай. Ушёл охотник на охоту и не вернулся. Нашли его мёртвого, с содранным скальпом, рядом с убитым им медведем. Две пули от берданки были в голове зверя. Знал этот случай и сын Алексея Ивановича. Но таёжный закон иной: сначала стреляй, потом думай. И он выстрелил, и «мишка» остановился, стоит и стоит. Вот тогда-то и трухнули охотники-ягодники, дали дёру. На помощь набежали мужики из посёлка. Жаканами палили в несчастного «Михайло Потапыча», а он хоть бы что, стоит, не шевелится. Не выдержал один, матюгнулся, подбежал да прикладом торнул. Мишка тожно и пал. Фельдшер после объяснил: медведю нерв двигательный перебило, вот он и стоял, как замороженный. «Если встретишь медведя в малиннике, не смотри ему в глаза, – назидал далее Алексей Иванович. – В глаза смотреть зверю – звать на поединок».
Мы старательно шли за Алексеем Ивановичем, боясь отстать.
«Гиблое место», – вдруг сказал он, махнув в сторону рукой.
«Болото?» – переспросил я.
«Нет, не в том дело», – и он рассказал нам, как в том месте заблудился нездешний житель посёлка. Не стал ждать паровоза, чтобы проехать каких-то семь километров. Пошёл пешком напрямик по лесу. После одёжку его и обглоданные кости нашли далеко-далеко в стороне от железной дороги. – «Обманное место там есть. Паровоз справа идёт, а шум его слышится слева. Там угор каменный стоит, вот звук то и отражается, слышится с другой стороны».
«Во как! – думал я. – Он ещё и физику знает».
«В тайге по другим приметам надо ходить», – поучал нас добрый Алексей Иванович. И, чтобы ещё раз нас удивить, он завёл нас в заброшенный посёлок леспромхоза. Пути к нему уже заросли. Странно было видеть жилища, магазин, клуб, правление, но без людей. Стояла необычная тишина, но не мёртвая. Собачка Алексея Ивановича вела себя необычно: к чему-то прислушивалась, вздрагивала, оглядывалась, думала. Она, должно быть, слышала угасшее поселение, лаяла на невидимых существ, а то вдруг испуганно замолкала, отходила.
Конечная точка судьбы и пути
Но вернёмся же к нашим беглецам. Следующий привал сделали у вывернутого дерева. Корневище возвышалось над маленькими притихшими странниками. Доедали припасы Бледного молча. В пустую бутылку набрали ключевой воды. Язык почему-то не поворачивался для разговоров. А мудрая природа будто наблюдала за пришельцами и всё понимала. Братишки чего-то побаивались. Дорожка постепенно сузилась в тропу, она уводила из богатырского леса. Здесь деревья были другие – может быть ещё молодые, но чахлые.

Из него хотелось скорее выйти. Тропа плутала и завела к лесной речке. Поток на переправе сужался. Вода здесь крутила и бурлила. Но глыбы гранита, покрытые скользкой тиной, выставлялись, чтобы дать возможность её перейти. Три прыжка с камня на камень, и ты на том берегу. Но если соскользнешь, да башкой – об камень, вода закрутит и унесёт. Но ведь все тут ходят, раз тропа протоптана. Бледный, Онь-ка и Сёмка стояли уже на том берегу. Только Братишки, как перед смертью, топтались на месте. Онька несколько раз переходил туда и обратно, прыгая с камня на камень, показывая, как это легко, не понимая их упрямства.
Пахан, отвернувшись в другую сторону, о чем-то думал. Он понимал: природа не пускает городских паразитов. Они смелые перед слабым – забьют лежачего, но перед силой, трусливы. Всё же Братишки насмелились, но лишь после того, как пацаны приволокли и бросили на опасном месте мощную сушину.
Тропа ещё некоторое время уверенно бежала куда надо, но вскоре раздвоилась. По какой идти, однако, было понятно: прошёл паровоз и слышен был его шум. Но постепенно «правильная» дорожка заводила их в худой чахлый лес. А ноги проваливались в сырую прогнившую листву. Но путники всё шли и шли. Тропинка давно стала еле заметна. А они всё шли в том направлении, надеясь вот-вот выйти к злосчастной железной дороге. Погода менялась, зарядил типичный уральский дождь на неделю. Не дождь – сплошной туман из невидимых капель. Он мочит незаметно, но до нитки. Темнело быстро. Дальше идти бессмысленно и опасно, пришлось табориться. Братишки стояли неподвижно, вода стекала с испуганных лиц, будь они одни, умерли бы, не пошевелясь. Но драгоценный баульчик не выпускали из рук, нося его по очереди. Зажечь бы костёр, да нечем – всё промокло, лес чахлый, сухарь мокрый.
Случайно или нет, в портфеле оказались непромокаемые спички, и на растопку – сухое бельё Бледного. Впервые для доброго дела сгодился и нож-топор Быка.
Дождь моросил, а костёр разгорался. Огонь ещё не дал жару, но стало как-то теплее. Зашевелились Братишки, подставляя себя к огню. Оторваться от костра боязно, ничего не видно. Пацаны на ощупь ломали и рубили ветки. В сырости горит лишь большой костёр. Возле огневища наконец стало сухо и даже весело. У каждого в руках появилась кедровая шишка из волшебного портфеля пахана. Огонь уже съедал и мокрые тонкие стволы. Оказалось, что можно спать и сидя. Сон мягко охватывал со всех сторон, показывая виденье. Тело плавно падало, но, наткнувшись на какой-то предел, вздрагивало, вырываясь из пелены сна. И так без конца. Но костёр догорал, тёмный лес пугал, и пацаны снова шли за топливом.
Весь следующий день ушёл на поиски выхода из чахлого леса. И даже та тропинка, ведущая обратно к лесной тропинке, не находилась. Выйти из заколдованного места не удавалось. Они прислушивались, но даже и шума паровоза не было слышно.
Настала ночь, костёр повторился. Дождь по-прежнему стоял стеной тумана. Братишки обронили где-то свой баульчик и даже не вспоминали о нём. Но на их рожах, кроме страха, теперь появилась хитрая гримаса. Они чем-то донимали пахана, но тот не менял своего обычного поведения. Пацаны набегались больше всех у костра, и усталость пудовой гирей прижимала к земле. Онька уже видел сон, а какое-то зловеще слово, смысл которого он ещё не понял, заставило проснуться. Не меняя позы, дремал, а голова испуганно думала. Догадка, как холодная вода окатила его изнутри. «Одну овечку надо съесть», – повторяла память. Позже Андрей узнал, что это был обычный приём ýрок – брать в дорогу вместо продуктов пацана. Ходячее мясо для шашлыка. Бледный молчал, не отвечая ни «да», ни «нет».
Онька толкнул товарища: «Костёр гаснет, надо бы дров». Братишки словно обрадовались: «Да, да, и побольше, побольше». Темнота через два шага спрятала их. Не объясняя, Андрюша схватил друга за руку и потащил, что было силы, не разбирая пути, натыкаясь на ветки, проваливаясь в ямы. Отбежав, когда костра уже не было видно, поведал о страшной угрозе. Откуда взялись силы? Они шли, взявшись за руки, подбегая и запинаясь, подальше от спасительного, но зловещёго огня. Лесная яма с болотистой жижей оказалась на пути. Хорошо, что держались за руки. На этот раз Сёмка спас товарища, вытащив его, завязшего в трясине.
Лес, который недавно пугал темнотой, теперь не страшил. Страх рождает бесстрашие. Сёмка представил, как его сейчас бы уже резали на шашлык. Но его снова спас от смерти Андрей. Теперь он его пахан, нет, не пахан, а брат. Наконец, утро осветило чахлую мокрую поросль. С неба уже не моросило. На земле лежало сваленное деревце. Это вчера его срубил Бледный. Когда понял, что заблудились, он начал искать речку, от которой ушли. По трём направлениям уходили и возвращались к огневищу. Оставалось проверить четвёртое. Но это уже будет без них. Они шли, не выбирая пути, лишь бы подальше от злых Братишек.
Земля стала твёрже. Низина пошла на подъём. Онька обернулся – гиблое место отпустило их. Но Сёмка, озираясь, всё ещё держал нож-топор Быка на изготовке. Он уже не походил на телка, как прозвали его Братишки.
Вот они и выбрались. Впереди возвышались и горы и лес, их ждала неизвестность. Но это уже не пугало. Ноги отяжелели, обретённые братья еле шли, карабкаясь и срываясь, продвигались вперёд.
К паужне влагу раздуло. Они добрались до вершины. Онька лежал под самым высоким деревом, копил силы, чтобы забраться на макушку. В памяти возвращался родимый дом. С детства его тянула даль и высота. Зачем-то залазил на самые высокие деревья. Забирался до самой макушки, да так, чтобы обхватить её в ладони. Хоть и не ветрено, а покачивает, и дышать опасно. Всё в нутре замирает, и время не крутится, стоит на месте. Залез наверх – благодать, слез на землю – гордость. На небе побыл, страх одолел. А однажды внизу его тятя встретил. Пока Онька на макушке был, отец молчал. А как слез – вожжами отходил. Да так, что тот как червяк крутился. Стегал да приговаривал: «Мало в родне горбатых, мало в родне горбатых?» Это он дядю Захара вспоминал. Тот озорной был в детстве. На скаку с «вéршины» падал. А зимой с крыши на лопате в снег слетал. Вот где-то «буткнулса» и нажил себе горб. В гвардию, в кавалерию собирался, в уланы метил. Но вот и пропала судьба.
Теперь нужда заставила Оньку лезть, обнимать дерево, отдыхать и снова карабкаться. Знать, судьба пожалела их. За следующим угором виднелось что-то похожее на поля, и как будто макушка церкви. Кое-где в низине петляла тёмно-зелёная зеркальная река. Должно, деревня скрывалась за угором. Чудные эти края. Земля то сжималась, образуя угоры, то расстилалась низинами. Ещё не спустившись, Онька закричал: «Деревня, деревня, деревня!». Обрадовался, завопил, заплясал и увалень Сёмка. Так, верно, радуются матросы, увидевшие берег. Сгоряча ребята двинулись было в путь, но скоро поняли, что «сёдни» им не дойти. Да и темнело как-то вдруг. Упасть, не хочется и есть, и боязни нет, только бы спать. Земля притягивала, ноги подгибались, но голова не давала заснуть.
«Теперь ты пахан», – услышал Андрей свои мысли. Ноги распрямились. «Нарубим лапника, и спать», – как приказ отчеканил он голосом Бледного. Падая в сон, ещё одна мысль теребила его: «Почему, если то была церковь, не слышно вечернего звона?»
Утром отчего-то проснулись оба враз. Хорошо, что наломали веток – в норе теплее. В балаган пробивалось приветливое холодное солнце.
«Люди близко, хоть бы к вечеру добраться», – твердил разум, а руки и ноги не слушались. Земля тяжело притягивала. Вдруг справа послышался шорох. Кто-то уверенно шёл, ломая ветки. «Люди!» – обрадовался Сёмка, сбросил лапник, но тут же замер. Из кустов выходил медведь. Вот почему ветки малинника были обсосаны, а рядом – странный помёт, похожий на человеческий. Хозяин здешних мест приостановился. Приподняв морду и переднюю лапу, как человек, внимательно посмотрел в сторону ребят. Потянул носом, унюхав что-то противное, фыркнул почти рявкнул. Мохнатым комком покатился дальше, хрустя поломанными сучьями.
Снова, не разбирая дороги, но в сторону деревни, подгоняемые страхом, бежали ноги сами. Убежав от опасности, пацаны упали, ноги снова не слушались. Но надо было вставать и пробираться вперёд. Их намеченный путь проходил по гриве, заросшей могучим хвойным лесом. Роскошные деревья о чём-то весело шептались между собой. Близость человеческого жилья уже чувствовалась. Появлялись и явные признаки. Кое-где на деревьях развешены колоды для сбора дикого мёда.
Неожиданно лес отодвинулся, и они увидели жилища. Ещё десять шагов, и грива обрывалась отвесным обрывом. Под ним билась вода. Когда-то созданный по чертежам Создателя каменный гребень выбегал далеко вперед. Вода обегала его, тратя своё драгоценное время. Но река с уральским норовом была нетерпелива. Вот и разрушила половину угора, сделав его круто отвесным. Вода камень точит, подтвердилась пословица. Не одна барка с демидовским железным литьём раскололась когда-то у этой скалы. Потому и назвали её Кара-камень, то ли по-русски, то ли ещё по-каковски. Но об этом ребята ничего пока не знали.
Деревня-красавица, скрытая зелёной занавеской, вся обнажилась, стыдясь своей наготы. Смущалась, потупив глаза, но не уходила: любуйтесь, люди, красотой. Церковь на возвышении белым лебедем глядела на них. Дома ладно сложены, как игрушки, рассыпались по берегу. Глазам не верилось – да не кажется ли всё это? Но почему-то людей нет. Не змей ли Горыныч здесь побывал? Не видно было и моста через реку. Битые были наши Иванушки-дурачки: разгадали вход в деревню. Подальше от обрыва был спуск к реке. Тропа приводила к воде. От кованого железного кола уходила в воду цепь. А на другом берегу так же было излажено. При нужде переберёшься, воды хлебнёшь, да не утопнешь. И природа умная, посерёдке оставила подводный каменный гребешок, чтоб людям легче перебираться с берега на берег. А в паводок река вздувается так, что и баркасы пройдут. Река тут с норовом, местами кипит. Мост ставили – в первую же весну снесло. Боле не пробуют. Но это всё Андрюша после узнает. А пока под ногами текла, кипела, натыкаясь на камни вздувшаяся от дождей холодная река. Там, на том берегу, их ждало спасение. Но как туда добраться? Добрались, держась за цепь до гребешка, отдышались. Но на второй половине перехода дно ушло из-под ног. Вода била в глаза и рот, руки слабели. Массивный Сёмка оказался проворнее в этой стихии. Он держал за одежду зубами обессилевшего друга. Они не утопли, их судьбы ещё начинались.





