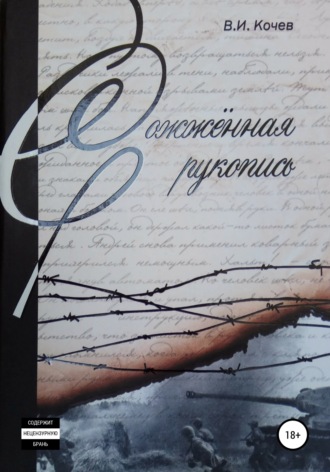
Владимир Иванович Кочев
Сожженная рукопись
Безгрешных, глупых Бог спасёт
Едва шагнув на берег, упали, их рвало. Сколько лежали без чувств – может, час, а может, минуту? Очнулись, очухались: над ними стояла бабка-Баба Яга, будто сошедшая к ним из весёлой сказки. День угасал, она повела их молча ко своей малухе, что стояла напротив. О чём спрашивать? И так всё знала: в лесу поблудили, одёжку оборвали, гнус рожи поел, один на переправе чуть не утоп, едва на ногах стоят. А тот вон, востроглазый, в жару весь, вот-вот от «болести» свалится. Как-то не словами говорила она. Её избушка не на курьих ножках была невелика, да вмещала всё для жизни: и стол, и лавки, и печь на полкомнаты, и божницу с иконой. Добрая Баба Яга выставила на стол всё, что было: картофь да молока козьего кринку. Не набросились ребята на еду, а ели, пили помаленьку.
Бабка ни о чём не расспрашивала ребят: «Айдате вон туды в хоромы, ночуйте». Она показала на дом, что напротив Кара-камня.
Здесь всё было огромно, будто жили тут великаны. Печь стояла посередь избы на крепком из брёвен полу. Во второй комнате – своя печь, поменьше. Лавки, стол, полати – всё из брёвен вытесано. Но в доброй избе всё вверх дном перевёрнуто, будто Мамай воевал. Добра там уж не было, а дерюжка, чтоб выспаться, с избытком каждому нашлась. Прямо за окном бурлила река, налетая на Кара-камень. А он и не глядел себе под ноги, гордо стоял, выпятив грудь, сдвинув набекрень зелёную шапку. Необычная красота удивляла.
Зло отпустило ребят, осталось там, за рекой. Андрюша лежал под дерюгой, его то морозило, то бросало в жар. То ли в бреду, то ли наяву он видел Бледного. Тот являлся к нему и молчал. Но Онька знал, о чём спрашивал отважный пахан.
«Ты предал меня, ты не поверил мне – офицеру, дворянину».
«Но я спасал Сёмку. Ты сам учил: рисковать можно собой, но не другом», – отвечал ему мысленно Онька.
«Погляди, что с Братишками стало, я расстрелял их, как зло человечества».
«Но почему ты не сделал это раньше?»
«Вот в этом я виноват, не кори себя». Бледный приставил револьвер к виску и выстрелил. Андрюша, вскрикнув, вскочил. Но Николая Павловича Кравцова уже не было – он застрелился.
Сёмка, не понимая, что случилось, успокаивал, придерживал друга. А Андрюша то кричал, то по-детски плакал. И, наконец, тяжело дыша, обессилев, успокоился. Всю ночь Семён не отходил от него: то давал попить, то мочил его лоб, пытаясь остудить.
Едва рассвело, появилась на пороге бабка. В руках её была кринка, но не с молоком, а с отваром. «Пои его, как захочет», – сказала и пошла. На пороге, обернулась, перекрестила. «Через три дни поправится», – добрым голосом добавила она.
С каждым днём Андрюше становилось легче. Сёмка приходил от доброй бабки с полной кринкой молока. А через три дня Андрюша поднялся, как заново родился. С радостной вестью они оба и пришли к доброй бабушке. Чем её благодарить?
«А давай-ка, баушка, дров тебе наколем, на зиму запас будет», – догадался Сёмка.
«На зиму-то, поди, не надо, а на баньку порубите. Сами попарьтесь, и я обмоюсь перед смертью. Да и с Богом, ступайте отсель». Такими загадками говорила бабка. Всё здесь было не так. Тут леса-дерева не жалели, строили крепко да основательно. И шарниры дверей излажены из крепких корней. Видать, давно строилось это пристанище. А баня, печь-каменка уж сложена по-новому. Огневище обложено чугунными чушками. Откуда здесь литое железо, как попало сюда, в эту глушь? Всё после бабушка поведала. В паводок, когда вода уж у крылечка «плёшшотса», плыли тут барки, железо демидовское сплавляли. По разным рекам железный товар до самой Москвы доходил. А чтоб вода где надо подымалась, в нужном месте плотину отпирали, а где надо, запирали. И весточку подавали – пушки бухали. А после, как дорогу железную положили, река и не нужна стала. В жаркое лето она мелеет, броди да собирай на дне каменном «чушки» литые. Вон у того Кара-камня барки бились.
Ребята с охотой ели зарумяненные из печи печёнки, хоть и без соли. А теперь подливали и подливали из медного чайника чай с душистым настоем, да с сушёными ягодками. Здоровый пот проступал на лбу. Всё было просто и благостно.
Загадка эта баушка, по лицу как есть Баба Яга, а душой добрей доброй. Но «ничо» не скрывала она, «ничо» не утаивала». Малуха её вот-вот падёт, но ей и хватит. Господь приберёт намедни, сама просила. Будет, пожила. Свет не мил стал. Нехристи храм нарушили, иконостас «раззорили», а ноне налетели, староверов трясли. Золото в иконах искали. А образа наши все золотые: потому, как лико там Господне. Да в поганых руках и золото помеднеет. Вспомнив про Бога, она повернулась к божнице и перекрестилась: «Прости, Господи».
«А что за отвар такой ты нам, бабушка, давала?» – простодушно спрашивал разомлевший Сёмка.
«То не отвар, дитятко, – молитва… Молитва с того свету подымат». И в подтверждение своих слов она вспомнила случай.
«Покойный хозяин мой, царство ему небесное, чуть не кончился, – молитву запамятовал. Давно то было. Он золото мыл на Сибирке. Варнаки, отпеты да не схоронены, заявились к нему на заимку. Всё честь по чести: обогрелись, штей с салом похлебали, а потом грабить стали. Песок из мешочка ссыпали, промеж себя поделили. Да пока решали, кому грех на душу брать, хозяина порешить, он молитву творил. Могутный был, бывало, и на медведя хаживал. Да токо норовом тихой, жалела я его. Лежит не лавке, глаза закрыл, молитву твердит».«Что же, баушка, у него и ружья не было? А на медведя хаживал», – не поверил Сёмка.
«Всё было, солдатики, – продолжала бабка. – И ружьё, и ножик, токо это на зверя. У нас вера строгая. Все заповеди блюди, и заглавную особо: «не убий». За смертный грех Господь не простит, покарат. Людям добро делай, да не для показу, а по совести внутре… Ну, так вот, – продолжала она. – Твердит молитву, а втору-то половину и запамятовал. Но ничо, снова перву половину твердит. А варнаки уж решили, кому грех брать – хозяина убивать. Подошёл один замахнулся, да отступил, и ножик обронил, испужалса. Бормочет: гли, робя, сатана лежит, половина здеся, а половины нету. Разбежались оне со страху кто куды. Хоть и не зима была, а замёрзли в лесу. Собирал их хозяин и схоронил по-людски, и грехи их отмаливал».
Такую вот историю поведала бабка ребятам. В малухе её под божницей красовался наклеенный на стену портрет Николая Второго и царицы.
«Не боишься, баушка, а ну власти нагрянут?» – не унимался Сёмка.
«Через мой порог лихоимец ногу не поднимет», – закончила бабка.
Ребята засиделись в гостях, уходили уж затемно. Завтра решили отправляться спозаранку. Уходя, Андрюша достал свой потайной червонец и протянул бабке: «Возьми, баушка, на похороны от нас». «И возьму, не обессудьте, пущай по-божецки в домовине схоронят». Солнце давно уж взошло, а ребята отсыпались – когда ещё придётся поваляться, понежиться. Но права была бабка – надо было уходить спозаранку. Сёмка, вставший по нужде, вдруг увидел из окна такое, что заставило отскочить от него.
Растолкал Оньку. На дороге у реки стояла бричка. Лошадь держал под уздцы ГПУшник. Всадники, человек десять, спешились, сдерживая ретивых коней.
Какую-то пожилую женщину, которую, видимо, привезли на бричке, подвели к реке. Человек в плаще и сапогах о чём-то зло говорил. Старуха, прямая и высокая, одетая во всё чёрное, не переставая, крестилась. Крестилась, но по-своему: двумя перстами, а не «щепоткой», и платок на ней повязан необычно. Одежда её была почему-то мокрая. Затем человек в плаще дал знак, и двое, схватив её за руки, опустили в воду. Она не сопротивлялась, но, видимо, теряя сознание, начинала дёргаться. Выждав ещё какое-то время, её поднимали. Приходила в сознание, её рвало. Затем, овладев собой, выпрямлялась. Человек в плаще говорил что-то зло, а старуха снова крестилась. Так повторялось несколько раз, она не сдавалась.
Первым не выдержал человек в плаще. Махнув рукой всадникам, он направился к бричке. Бричка – это большая корзина с рессорами и колёсами. Вместо подножек были прикреплены стремена. Но нога человека в плаще соскользнула, и он лицом ударился о борт. Из носа закапала кровь. Корзина затряслась, как от хохота. Осуждающе посмотрели всадники на хренового ездока. Вырвав из бокового кармана наган, человек, резко развернувшись, подскочил к старухе. Охранники отпрянули. Он несколько раз грохнул. Эхо повторило выстрелы. Но разрешения на её смерть, видимо, не имелось. Все пули принял на себя Кара-Камень. Арестованная, стоявшая неподвижно, снова начала креститься, губы её что-то шептали. Выпустив злость, человек в плаще чуть успокоился. Спрятав наган. Размазал под носом кровь. Затем, приблизившись к самому лицу измученной старухи, что-то негромко сказал. Она вздрогнула, на секунду задержав в кресте руку. Видимо, сказанное им подействовало. Посвистывая, человек в плаще твёрдо поставил ногу в висящую подножку и лихо запрыгнул в корзину. Старуху подвели к бричке, она не могла приподняться, и её, как мешок, забросили. Человек махнул рукой, и бричка, сопровождаемая эскортом, ринулась из села.
Вот тебе и глухое село. Здесь оказалось опаснее, чем в городе. Опричники уехали. Село ожило. Люди зашевелились, залаяли собаки, замычали коровы. А ребята, опасаясь новой беды, покидали селение. Ещё раз заглянули к доброй бабушке. Она всё, всё знала и не скрывала от «робят». Та гордая женщина, которую пытают, – настоятельница староверческого молельного дома, успела спрятать от нехристей старинные образа да обрядную утварь. Помрёт, да не скажет.

Село старинное в лесу
Здесь собаки, словно люди,
Так же лаются, рычат.
Звон церковный уж не будит,
Колокольчики молчат.
Село, о котором упоминал Андрей в своих записях, осталось в стороне от железной дороги, и оказалось не у дел и в наши дни. Подгадав отпуск и собрав снаряжение рыбака-туриста, я увидел всё своими глазами, но только спустя полвека. Небольшой автобус с трудом заезжал на крутые перевалы. Каждый раз открывался новый вид на реку и угоры. Здесь ещё не побывал топор дровосека.
Церковка издали походила на белого лебедя, опустившегося на зелёный угор отдохнуть. Кара-камень постарел на пятьдесят лет, но это для него лишь мгновение. Река обмелела, но моста по-прежнему нет. Строили железобетонный, непокорная река во время паводка снесла и его. Из восьмисот дворов старинного села осталось меньше полусотни. Исчезли и те когда-то внезапно брошенные дома, что стояли напротив Кара-камня. Давно уж, верно, пала и малуха доброй бабки. Но деревня вроде возрождается, да как-то по-своему. Вместо упавших домов с крытыми кержацкими дворами – совхозные бараки из шлакоблоков. Дворики пригорожены щербатым штакетником. Это в лесном-то царстве! Всё разбросано, неухожено: весь срам наружу. Кержаки ходили по двору в шерстяных носках, а эти – в резиновых сапогах по навозной жиже. Я ходил по селу в воскресенье и не мог найти человека, которого можно было бы расспросить. Кто-то слишком весёлый мотался под большим градусом, кто-то злой мучился с похмелья. Подходить к нему было опасно, он поднимал пьяную руку для удара. Женщина, уткнувшись лицом в траву, лежала с задранным платьем. На другой стороне неожиданно завязалась драка. Бабёнка с лопатой – против троих мужиков. Хорошо, что удар по голове пришёлся вскользь. Ей не отвечали, видимо, она была права, а они в чём-то виноваты.
Но куда делись чистюли-староверы? Об этом мне всё же удалось разузнать. Я раскинул свою палатку на берегу реки, поодаль от Кара-камня. Неподалёку, греясь на солнышке, сидела на брёвнышке старушка у своей ветхой избушки.
«Уж не та ли это добрая Баба Яга, что приголубила Оньку и Сёмку?» – думал я. И коза её паслась на полянке, огороженной пряслами. Я купил у неё пол-литра козьего молока, присел рядом на брёвнышко. Разговорились обо всём, и о той несгибаемой старухе-староверке. Умерла она после того купания, и тайну, где спрятала святые древние иконы, унесла с собой.
«Вот и пропала на селе древняя вера», – думал я, покачивая сокрушённо головой.
Бабка, уловив мои мысли, ответила: «Старовера и в ступе не утолчёшь. Живут, не померли, и вера в нутре их живёт. Только поглубже запрятались. Ты не гляди, что комсомолец али партейной он – это для отвода глаз. Крестик в душе его, до смерти с ним. Уж мало домов их осталось – по пальчикам сосчиташь. Все в город перебрались, в люди вышли. А сюды вертаются, под дачу дома потихоньку стали скупать. Ишо получче зажили. Да работный человек везде к месту. Оне люди сноровистые, душу нарастопашку не держат, а между собой дружные да строгие».
Я спросил у бабушки, где тут был переход через реку.
«Вон там он был, – она показала, махнув рукой. – Да теперь в другом месте переходят. Там косу намыло, до пояска воды толечко», – продолжала она.
Я нашёл старый переход. Цепи уж не было, а огромный кованый кол на краю берега сохранился. Он крепко врос в землю – не вытащить. Потомки через много веков, быть может, делая раскопки, найдут его, – подумалось мне.
Уезжая, осмотрел церковку. Вблизи она походила на дряхлую старушку с еле уловимыми следами былой красоты. Рядом размещалась автобусная остановка. Это оказалось удобно. Пассажиры, когда приспичит, справляют нужду в храме Божьем. Трудяга ветер через глазницы выбитых окон выгонял вонь, оставленную прихожанами. Всё изменилось, лишь природа хранила вечное прошлое в своём бесконечном времени. Мрачный лес осуждающе покачивал кронами, словно умными головами, а река о чём-то говорила с ними. Лишь Кара-камень молчал, ни чему не удивлялся. Он самый древний здесь, всякое повидал.
Обратно в злой город
Волчата выросли, как волки,
Выходят на свою тропу,
А на пути одни иголки,
Но где другую взять судьбу?
Город, который покинула семейка Бледного, не заметил потерю. Как и раньше шелестел базар, лишь затихая в потёмки. По-прежнему гремел костяшками игрок. Руки его мелькали, а глаза всё зрили. Но что это? Его фокус-мокус отчего-то сорвался, что-то отвлекло его от изящной работы. Две пары босых ног приблизились к нему. Он поднял голову, чтобы обматерить, но, увидев, вздрогнул. Перед ним стоял тот нищий, но с глазами бешеного быка, и пижон с «вострым» насмешливым взглядом, одетые в рвань. После того позорного случая ханыга навёл справки. Эти огольцы были из конторы Бледного. Пришлось поступиться проигрышем. А сейчас, он чувствовал, назревало что-то паскудное. Пижон был босиком, а уж начинался ноябрь.
Игрок встал перед ним, как школьник: «Одолжи до получки». Онька показал пятерню. Это были немалые деньги, но «куды» деваться, торговаться – себе дороже выйдет. Босяки ушли, забрав его деньги. Прошло две недели, мало-помалу потеря восполнялась. Руки фокусника ещё ловчее делали обманные движения. Легковерные находились, навар оседал в карманах этих базарных иллюзионистов.
О босяках из конторы Бледного он забыл и успокоился. Откупился от блатарей, и ладно. Работа шла по-прежнему слаженно.
«У нас ведь как – кто не работает, тот не ест», – назидал своих коллег ханыга, и с полным правом наказывал неправоверных обывателей города. Руки его неустанно трудились, глаза «секли» и даже за спиной. Но сегодня снова что-то не ладилось, руки словно окаменели. Он резко обернулся и увидел перед собой две пары новеньких штиблет, хотя кругом уже чавкала холодная грязь. Поднял глаза: перед ним стоял тот пижон с портфелем и его подельник с бычьими, но уже не злыми глазами. Он поставил на кон ровно столько, сколько занимал до получки, и проиграл. Глаза пижона, насмешливые и «вострые», здоровались, а руки фокусника при этом деревенели. Уходя, кореш пижона, этот злой бычок, достал из кармана «зелёненькую» и отдал пацану, проигравшему свои последние деньги: «На, иди да не играй больше».
Всё вроде по уму, а тревога пуще прежнего запала в хитрую голову деляги. Предчувствие настораживало его. Он чего-то ждал и дождался. В следующий раз этот молоденький ворюга вызвал игрока через его фраеров. В руках держал серебряные швейцарские часы: «Толкни за сотню». И не спрашивая согласия, пижон опустил их ему в карман. Цепочка свесилась и подрагивала вместе с телом ханыги. Но он, как под гипнозом, закивал, ожидая его ухода. Внутри что-то дрогнуло. А пижон своими шустрыми глазами как будто смотрел туда внутрь. Подбодрил: «Не трухай, чистые».
«Нет, – подумал игрок, – навар хороший, а спокой дороже». Но время шло и всё повторялось, только менялись вещи. Появлялся и рыжий товар.
«Не щипачи они. Такие штучки в кармане не срубишь. Мокрушники, падлы, – сокрушался игрок. – С такими залетишь как подельник. А время паскудное. Закосить бы да переждать». Но жадность фраера сгубила, да и не уйти уж. Ведь вход в ту дверь лишь «рупь», а выход – два. А сейчас и того хуже: всё заберут, и добро, и душу, и плоть. Так сам с собой мерё-кал деляга. Но зря психовал фокусник. На понт его брали пацаны. Не щипачи они были, не мокрушники.
Университет, общага, братство
Наши ноги в грязи,
А жилище – сарай,
Смертью нам не грози,
Впереди светлый рай
1934 год, старое рушили, новое строили. И, как символ этого нового, в небе плыл дирижабль. Весело было глядеть на него. «Эроплан, эроплан, посади меня в карман!» – кричали мы, задрав голову. Лётчик, услышав нас, бросал бумажки. Поймать такой листочек было счастьем. Листовка призывала вступать в ОСОАВИАХИМ, участвовать в очередном займе, и мало ли ещё что там писалось, – содержание никто не читал.
Жители были заняты другим. Лётчик видел с высоты эти чёрные массы людей. Это были очереди за хлебом, за ситцем, за всем остальным. Эти живые огромные змеи возникали на улицах с раннего утра и рассыпались лишь к ночи. Они шевелились, дёргались, агонизировали. Да, так и было внизу у нас, на земле. До открытия пассажа оставалось три часа, а очередь уже скучковалась, построившись в плотную цепочку. «Чо выбросят?» – спрашивал подходивший со стороны. «Мануфактуру», – отвечали ему негромко. И подошедший цеплялся за последнего.
Создавать очереди строго запрещалось. И милиционер Керим аккуратно исполнял инструкции райкома. Он чётким шагом прохаживался у входа пассажа. И очередь, боясь его, сдвигалась, стояла чуть поодаль в стороне, вроде бы просто так.
Но вот до открытия осталось лишь полчаса – очередь заволновалась. Люди, крепко вцепившись друг в друга, образовали живую трепетную цепь. Вот-вот откроется магазин, и тогда милиционер сам подведёт голову очереди ко входу магазина.
Но хитрый Керим подошёл не к началу, а к хвосту, и повёл колонну за собой. Каждый, как солдат, круто развернулся и заключил в объятия заднего. Хвост оказался впереди, голова – позади. Хвост обрадовался, голова озлобилась. Но это ненадолго. Керим подошёл к середине очереди и, сделав её началом, повёл ко входу.
Теперь очередь окончательно спуталась и дралась внутри себя. Милиционер выполнил указание начальства, но уважил и земляка. Вон тот, в бурках и собачьей дошке, что прохаживается в сторонке. Его люди – пробойные бабёнки, стояли в серёдке, сейчас оказались впереди всех. А очередь между тем дралась. Два хвоста, получившиеся после хитрой тасовки Керима, не могли решить, кто за кем. Женщину с ридикюлем вытолкнули совсем. «В шелковье да грязе, ин-телего сраноё», – летело на неё из толпы. А вот другую, с корявым лицом, не могли вытеснить. Полушалок спал с головы, длинные волосы, собранные в валик, рассыпались. Она махала чем-то, зажатым в кулаке, зло приговаривая: «Как дам, дак зубы счакают». Двери наконец распахнулись, и люди, будто за ними гналась смерть, ринулись на второй этаж. Чуть замешкался – собьют, затопчут.
«Да бывало и такое, – вспоминает мать. – Схлынул народ, а в проходе осталось раздавленная женщина».
Страшно подумать, как моя мать участвовала в этих баталиях, держа на руках грудного ребенка. Она доставала ситец. Достать, а не купить, так говорили тогда. И обшивала весь барак своей маленькой машинкой «Зингер». Кормила нас и посылала сухари отцу на «принудиловку».
Но в конце концов всю очередь впитал в себя пассаж. У входа стало пусто. На месте, где билась очередь, налетевшие пацаны, как курицы, что-то собирали. Их трофеями были приколки, гребёлки, а то и деньги, завёрнутые в тряпичку. Вот разбежались и они, остался сор да какие-то нечистые тряпицы. Но это уж завтра ни свет ни заря подметёт дворник. А спекулянт в собачьей дошке, не двигаясь с места, уже собирал трофеи. Его солдаты, юркие бабёнки, незаметно совали ему мануфактуру и снова отправлялись в бой на второй этаж. Затем другая серая фигурка проходила мимо, и свёрток прилипал к её рукам. Механизм работал, как часы. Но вот в этот спектакль влез персонаж, не предусмотренный сценарием.





