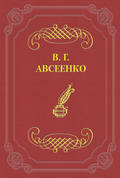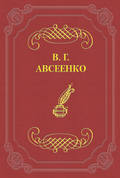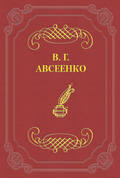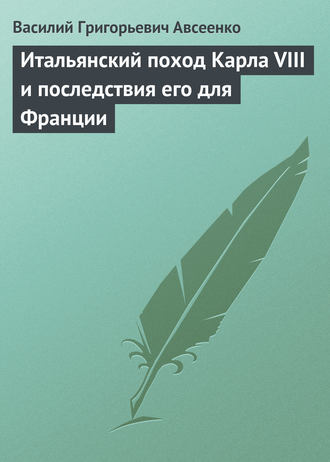
Василий Авсеенко
Итальянский поход Карла VIII и последствия его для Франции
Лоренцо Валла, одинъ изъ самыхъ даровитыхъ и вліятельныхъ дѣятелей временъ возрожденія, найдя пріютъ и покровительство при дворѣ Альфонса неаполитанскаго, который въ глубокой старости проникнулся любовью къ гуманистическимъ студіямъ[54], незамедлилъ завязать ожесточенную полемику съ духовенствомъ. Въ его твореніяхъ впервые во всей силѣ развивается античный сенсуализмъ, противополагаемый имъ христіанскому ригоризму. Онъ принимаетъ за исходную точку философіи возвращеніе къ естественному, природному быту, освобожденному отъ всякихъ религіозныхъ стѣсненій. Онъ стремится воскресить античный культъ природы, съ которымъ было связано свободное отношеніе половъ. Онъ возстаетъ противъ обѣтовъ цѣломудрія, называя ихъ неисполнимыми и противными природѣ. «Если мы родились, говорить Валла, по закону природы, то тотъ же законъ повелѣваетъ и намъ самимъ быть производительными.» Исходя отъ этого воззрѣнія, онъ стремится облагородить чувственность, какъ установленіе натуры, и почти возводитъ ее въ высшій принципъ человѣческой нравственности[55]. Съ этой стороны, онъ является самымъ опаснымъ противникомъ христіанства и христіанской морали. Дѣйствуя не во имя лишь свободы разума, но также въ интересѣ чувственной, легко воспламеняющейся природы человѣка, онъ призываетъ на помощь не мудрецовъ Греціи и Рима, а самый духъ, самый смыслъ древности, или, лучше сказать, то, въ чемъ наиболѣе обаятельною, наиболѣе соблазнительною для самаго грубаго организма являлась древность. Съ притязаніями нѣмецкихъ реформаторовъ, требовавшихъ только признаніи разума въ религіозной сферѣ, христіанство могло примириться путемъ уступокъ; съ сенсуализмомъ же древности у него не могло быть примиренія: христіанство должно было или искоренить его, или самоуничтожиться.
Молодой эпикуреецъ Антоніо Беккаделли, по мѣсту рожденія иначе называемый Панормитою, пошелъ по слѣдамъ Валлы. Ученіе, дидактически или полемически высказанное Валлою, онъ вооружилъ обаятельною прелестью поэзіи. Его "Гермафродитъ" – маленькая книжечка, оказавшаяся однакоже вліятельнѣе громадныхъ фоліантовъ другихъ гуманистовъ – съ невѣроятною быстротою распространился по Италіи, и скоро проникъ всюду, гдѣ только понимали по латыни. Эта книжечка заключала въ себѣ чудовищныя вещи. Здѣсь чарующимъ языкомъ поэзіи воспѣвались самые грубые и грязные пороки. Абсолютная эманципація плоти, отрицаніе не только брака, но даже конкубината, противоестественная чувственность, педерастія, все это было воспѣто и прославлено молодымъ поэтомъ въ его маленькой книжечкѣ. Это былъ самый дерзкій и рѣшительный вызовъ христіанской морали. Христіанство давно уже отпраздновало свою побѣду надъ педерастіей, этою язвою древняго міра, и вотъ Беккаделли снова вы-зывалъ ее къ жизни. Почва, на которую пало ученіе молодаго эпикурейца, была такъ хорошо приготовлена, что Беккаделли возбудилъ своимъ твореніемъ всеобщій энтузіазмъ. Шестидесяти-трехлѣтній Гварино, отецъ дюжины дѣтей, наслаждался дивной гармоніей "Гермафродита". Суровый Поджіо увлекся примѣромъ счастливаго сибарита, и на семидесятомъ году жизни написалъ свои "Фацетіи", мало чѣмъ уступавшія Гермафродиту. Епископъ Миланскій просилъ Беккаделли прислать ему свою славную книжечку. Король Сигизмундъ, бывъ въ 1433 году въ Сіенѣ, увѣнчалъ шаловливаго поэта лавровымъ вѣнкомъ. Кардиналъ Цезарини поймалъ разъ своего секретаря, какъ тотъ читалъ подъ столомъ запретнаго "Гермафридита" – и все это вопреки духовной цензурѣ, предавшей проклятію всякаго, кто читалъ эту чудовищную книгу[56].
Къ такимъ печальнымъ результатамъ вело слѣпое благоговѣніе передъ древностью, овладѣвшее умами Итальянцевъ XV вѣка. Легкость нравовъ, ведшая за собою паденіе семейнаго начала и всей внутренней стороны христіанства, проникла во всѣ классы общества. Гуманисты подали первый примѣръ. Со временъ императорскаго Рима, нигдѣ не встрѣчаемъ мы такой печальной картины разврата, какъ въ исторіи передовыхъ дѣятелей возрожденія. Развратъ ихъ былъ тѣмъ безобразнѣе, что онъ имѣлъ источникъ не въ греческомъ, а въ римскомъ сенсуализмѣ: это было не художественное, артистическое сладострастіе эллинизма, а грубая чувственность Мессалины. Заразительная язва съ быстротою эпидеміи сообщилась отъ гуманистовъ ихъ покровителямъ – государямъ и владѣтельнымъ князьямъ Италіи, и ихъ противникамъ – духовенству. Развратъ дома Эсте, среди котораго разыгралась чудовищная драма Паризины, превосходитъ описаніе. Среди духовенства, вездѣ, и особенно въ Италіи, позорившаго себя разгуломъ грубыхъ страстей, новое ученіе нашло для себя наиболѣе воздѣланную почву. Казалось, міръ готовь былъ преобразиться; реакція противъ средневѣковыхъ преданій грозила Европѣ страшнымъ переворотомъ. Вмѣсто католическаго аскетизма явилась необузданная чувственность, вмѣсто слѣпой вѣры – абсолютное безвѣріе. Аббатъ Тритгеймъ съ ужасомъ говорилъ о гуманистахъ: "на чудеса и подвиги святыхъ они смотрятъ какъ на бредъ, и ничего не считаютъ святымъ, о чемъ не говорится у философовъ; откровенія, ниспосылаемыя Богомъ благочестивымъ людямъ, называютъ бабьими сказками и с нами, священныя легенды принимаютъ за басни"[57]. Паганизмъ всюду или вытѣснялъ христіанство, или безобразно переплетался съ нимъ.
Трудно опредѣлить, къ какимъ результатамъ привело бы движеніе XV вѣка, если бъ гуманистическія студіи, перенесенныя на другую почву, не нашли инаго исхода. Германія спасла Европу отъ необузданной реакціи, возникшей въ Италіи противъ преданій средневѣковой эпохи. Серьезная, философская мысль нѣмецкаго народа не поддалась обаянію античнаго паганизма: она воспользовалась новыми средствами, которыми вооружила ее классическая мудрость, для иныхъ, болѣе высокихъ и нравственныхъ цѣлей.
II. Въ тѣсной связи съ появленіемъ новыхъ началъ въ религіозномъ и нравственномъ быту Италіи, стоитъ новое направленіе, принятое, съ конца XIV вѣка, ея умственною, и художественною жизнью. Въ той и другой сферѣ источникъ переворота коренится въ пробудившемся стремленіи къ собиранію и изученію памятниковъ классической древности.
Со времени паденія западной имперіи, въ Европѣ всегда можно было найдти нѣсколько лицъ, знакомыхъ съ лучшими произведеніями древней литературы; всегда кто нибудь читалъ Цицерона, Виргилія, Горація[58]; но число этихъ лицъ было до крайности ограниченно. Драгоцѣнныя сокровища греческой литературы служили предметомъ безплоднаго изученія византійскихъ ученыхъ; латинскіе памятники гнили въ стѣнахъ монастырей западной Европы, нерѣдко навлекая на себя проклятія духовной ценсуры. Но съ конца XIV вѣка, стеченіе многихъ благопріятныхъ обстоятельствъ положило начало болѣе тѣсному знакомству новой Европы съ твореніями древности. Изъ Византійской имперіи, все болѣе и болѣе тѣснимой Турками, началась продолжительная эмиграція, прогрессивно усиливавшаяся въ теченіе всего XV столѣтія. Въ числѣ бѣжавшихъ изъ имперіи, находилось много людей ученыхъ, близко знакомыхъ съ памятниками классической мудрости и классическаго искусства. Оставляя свою родину въ добычу варварамъ, они заботились спасти по крайней мѣрѣ ея духовное богатство; суда, на которыхъ отъѣзжали они отъ береговъ имперіи, были нагружены грудами рукописей, наслѣдіемъ классической старины. Много драгоцѣнныхъ памятниковъ погибло тогда въ морскихъ волнахъ жертвою бурь, съ которыми не въ силахъ было бороться тогдашнее мореходное искусство; но то, что успѣло спастись и найдти пріютъ подъ благословеннымъ небомъ Италіи, дало роскошный плодъ[59]. Впечатлительный, сангвиническій темпераментъ Итальянцевъ не устоялъ противъ чаръ античной цивилизаціи. Какое то благоговѣйное почитаніе древности овладѣло умами всѣхъ. Пробудилось стремленіе открывать и собирать уцѣлѣвшіе памятники греческой и римской литературы; отдаленныя, полныя трудностей и издержекъ путешествія предпринимались съ этою цѣлью. Огромнаго труда, кромѣ того, стоило гуманистамъ размножать списки открытыхъ ими сокровищъ, пока изобрѣтеніе книгопечатанія не освободило ихъ отъ этой тяжелой работы[60]. Результатомъ всѣхъ этихъ самоотверженныхъ усилій былъ колоссальный переворотъ, совершившійся въ области человѣческаго мышленія. Богатый капиталъ идей и знаній, безплодно хранившійся до того времени въ стѣнахъ монастырскихъ, библіотекъ вошелъ во всеобщій оборотъ. Подъ вліяніемъ быстрыхъ завоеваній, совершенныхъ въ сферѣ мысли, измѣнился весь порядокъ умственной жизни Италіи. Средневѣковая схоластика вдругъ оказалась мертвою и безплодною въ сознаніи гуманистовъ. Въ лицѣ Петрарки, передовые дѣятели возрожденія заявляютъ требованія, которыя должны были странно звучать для поколѣнія XIV вѣка. Петрарка предаетъ посмѣянію всю систему знаній, связанныхъ схоластическимъ методомъ. По его мнѣнію, безполезна и мертва всякая мудрость, не имѣющая прямого отношенія къ жизни. Онъ ставить ученыхъ схоластовъ ниже простыхъ гребцовъ или земледѣльцевъ, работающихъ руками. Цѣль науки, говоритъ онъ, – облагородить и возвысить человѣческую, природу, сообщить ей искру божественнаго огня, направить ее по пути добродѣтели. «Я преданъ только той наукѣ, говорилъ Петрарка, которая дѣлаетъ меня лучшимъ; эта наука – добродѣтель и истина»[61]. Докторовъ философіи, занимавшихъ университетскія каѳедры, Петрарка называлъ напыщенными глупцами, которые, препинаясь въ сферѣ отвлеченныхъ понятій, упускали изъ виду все живое и существенное. Его полемика съ схоластами получила скоро обширное значеніе, потому что отъ мелочей и частностей споръ не замедлилъ перейдти къ важному вопросу объ Аристотелѣ и о всей средневѣковой философіи. Извѣстно, что Аристотель, передъ которымъ благоговѣли средніе вѣка, которымъ благоговѣли средніе вѣка, до XV столѣтія столѣтія былъ знакомъ Европѣ въ настоящемъ своемъ видѣ, а въ передѣлкѣ аравійскихъ и еврейскихъ ученыхъ. Въ этомъ искаженномъ видѣ, видѣ онъ возбуждалъ удивленіе средневѣковыхъ философовъ и служилъ точкою опоры всей средневѣковой схоластики. Петрарка никогда не читалъ Аристотеля въ подлинникѣ, но онъ зналъ, что этотъ подлинникъ разнится отъ арабской редакціи, и при помощи геніальнаго чутья, которымъ одарила его природа, онъ угадалъ истинный смыслъ греческаго мыслителя. Но вести полемику на основаніи одной догадки было неудобно, и потому Петрарка рѣшился противопоставить средневѣковому Аристотелю классическаго Платона, съ которымъ онъ былъ знакомъ по разсказамъ Боккаччіо[62]. Геніальный инстинктъ и здѣсь помогъ ему уразумѣть существенныя черты философіи Платона. Онъ противопоставилъ его нравственный, «божественный» идеализмъ сухой и без-жизненной діалектикѣ арабскаго Аристотеля, и возвѣстилъ, что философія есть ученіе о добродѣтели. Споръ, завязанный такимъ образомъ ощупью, почти наугадъ, скоро перешелъ въ болѣе опытныя руки. Въ XV вѣкѣ, когда итальянскіе университеты наполнили ученые Греки, бѣжавшіе изъ Константинополя, о Платонѣ нельзя уже было судить по догадкѣ, или по разсказамъ Боккаччіо, который далеко не такъ хорошо зналъ греческій языкъ, чтобъ вполнѣ понимать Платона. Тогда Платонъ былъ переведенъ на латинскій языкъ и объяснялся съ каѳедръ; сознаніе прояснилось, чутье замѣнилось положительнымъ знаніемъ. Ученые эмигранты приняли въ свои руки полемику, робко возбужденную Петраркою. Сначала, споръ вели только Греки. «Въ долгой и упорной борьбѣ платониковъ съ аристотеликами, говорить Тирабоски, Итальянцы были простыми зрителями, и ни одинъ изъ нихъ не зналъ, за какую изъ двухъ партій слѣдовало ему сражаться.»[63] Борьба, между тѣмъ, велась съ ожесточеніемъ; аристотелики хотѣли, во что бы то ни стало, отстоять свою ветхую систему. Плетонъ, одинъ изъ замѣчательнѣйшихъ борцовъ платонической партіи, упрекалъ Аристотеля въ низкой зависти, руководившей его сужденіями о Платонѣ[64]; Теодоръ Гезе, послѣдователь Аристотеля, приписывалъ всѣ общественныя бѣдствія философіи Платона[65]. Если мы не ошибаемся, итальянскіе гуманисты тогда только приняли дѣятельное участіе въ спорѣ, иди, лучше сказать, тогда только рѣшительно стали на сторонѣ Платона, когда ясно обнаружилось, что полемика за философскія системы прикрывала собою борьбу старой схоластики съ новымъ научнымъ направленіемъ, бывшимъ непосредственнымъ результатомъ гуманистическихъ студій. Тогда восторженное поклоненіе Платону овладѣло всѣми. Козимо Медичи основалъ во Флоренціи академію, назначеніе которой было – изъяснять и распространять ученіе Платона. Члены этой академіи ежегодно торжественными обрядами праздновали день рожденія и смерти великаго философа[66]. «Платонъ, говорить Тирабоски, былъ въ нѣкоторомъ родѣ ихъ идеаломъ, единственнымъ предметомъ ихъ помышленій, разговоровъ, трудовъ; и восторгъ, внушенный имъ философомъ, былъ таковъ, что побуждалъ ихъ писать о немъ нелѣпости, которыхъ теперь нельзя читать безъ смѣха»[67]. Самымъ дѣятельнымъ членомъ этой, первой въ Европѣ, платонической академіи, былъ Марсильи Фичино, монахъ августинскаго ордена св. Духа. Съ молодыхъ лѣтъ отданный подъ руководство Петраркѣ, онъ въ послѣдствіи измѣнилъ своему учителю: Петрарка старался воспитать въ немъ религіозное чувство и приготовить изъ него будущаго противника аверроистовъ; но Фичино остался равнодушнымъ къ религіи и церкви и сдѣлался самымъ ревностнымъ послѣдователемъ Аверроэса[68]. Онъ былъ душою новой академіи. Обладая высокими діалектическими способностями, онъ руководилъ бесѣдами членовъ, упрочилъ популярность Платона между дѣятелями возрожденной науки, и изгналъ изъ ихъ кружка послѣдніе остатки схоластическаго метода[69].
Изъ Флоренціи, процвѣтавшей подъ просвѣщеннымъ правленіемъ Лоренцо Медичи, гуманистическія студіи быстро проникли въ другія страны Италіи. Георгій Трапезунтскій, родомъ изъ Крита, основалъ высшее училище въ Римѣ, въ которомъ преподавались древніе языки и реторика. Тамъ же образовалась въ скоромь времени, по образцу флорентинской, другая платоническая академія, въ числѣ членовъ которой находились самыя блестящія имена Италіи, И здѣсь, какъ во Флоренціи, господствовалъ тотъ же духъ, враждебный средневѣковымъ преданіямъ: авторитеты церковной и свѣтской схоластики подвергались осмѣянію, католицизмъ, папство, духовная іерархія служили предметомъ оскорбленій и насмѣшекъ[70]. Въ Мантуѣ, Витторино да Фельтре основалъ училище для молодыхъ людей, на подобіе греческихъ гимназіумовъ, въ которомъ изученіе древнихъ языковъ и упражненія въ реторикѣ были со-единены съ уроками живописи, музыки, танцовъ и верховой ѣзды[71]. Знаменитые филологи того времени, Джіованни Мальпагино да Равенна, Гаспарино да Барцицца, Мануилъ Хризолорасъ и мн. др. странствовали изъ города въ городъ, обучая жаждавшее науки поколѣніе древнимъ языкамъ[72], и открывая ему такимъ образомъ путь къ самообразованію. То былъ блестящій подвижной университетъ, въ которомъ самыя благородныя силы Италіи получали первый закалъ гуманизма. То были энергическіе, самоотверженные, исполненные идеальныхъ стремленій люди – великое поколѣніе, котораго ни прежде, ни послѣ не видала Италія. Эти люди были проникнуты возвышенною преданностью наукѣ; они жили ея жизнью, ея интересами, и съ презрѣньемъ отзывались о молодежи старыхъ университетовъ, для которой наука была средствомъ къ достиженію матеріальныхъ благъ. Корыстолюбіе и зависть, позорящія гуманистовъ второй половины XV вѣка, были чужды этимъ первымъ, самоотверженнымъ дѣятелямъ возрожденія. Они были одушевлены высокимъ благоговѣніемъ къ античной цивилизаціи, потому что сознавали въ ней присутствіе великой возрождающей и созидающей силы. Ихъ страсть къ древнимъ языкамъ не заключала въ себѣ ничего школьнаго, буквоѣднаго: они смотрѣли на нихъ какъ на необходимое средство къ знакомству съ древностью, какъ на единственный путь въ міръ классической цивилизаціи. Оттого то придавали они знанію древнихъ языковъ такое всеобъемлющее значеніе: въ ихъ глазахъ, это знаніе было орудіемъ великой реформы, передъ которымъ долженъ былъ сокрушиться весь средневѣковой порядокъ. Оттого то и противники ихъ, собратья нѣмецкихъ обскурантовъ, такъ сильно вооружались противъ все болѣе; и болѣе входившаго въ моду изученія классическихъ языковъ. Одно духовное лицо нищенскаго ордена говорило своей паствѣ: «изобрѣли какой то новый языкъ, который называютъ греческимъ; надо крѣпко его беречься, потому что онъ – отецъ всѣхъ ересей. Что до еврейскаго, то, братія моя, извѣстно, что всѣ изучившіе его тотчасъ превращаются въ жидовъ»[73]. Другой проповѣдникъ того же ордена говорилъ: «я вижу въ рукахъ у многихъ греческую книгу, которую называютъ Новымъ Завѣтомъ; но эта книга полна соблазна и яда»[74]. Старые схоласты, сидѣвшіе на университетскихъ каѳедрахъ, и для которыхъ гуманизмъ былъ вопросомъ о жизни и смерти, также недружелюбно относились къ возрожденному классицизму. Одинъ гуманистъ, слушавшій лекціи въ кельнскомъ университетѣ, говорить, что тамъ такъ любятъ древнихъ писателей, какъ жиды свиное мясо[75]. Доктора оксфордскаго университета со-ставили лигу противъ преподаванія греческаго языка. Члены этой почтенной лиги приняли на себя имя Троянъ и не хотѣли оставить его, не смотря на желчные сарказмы, которыми преслѣдовалъ ихъ знаменитый Томасъ Моръ. Сорбоннскіе теологастры донесли парламенту, что религія неминуемо погибнетъ, если допущено будетъ въ университетахъ преподаваніе греческаго и еврейскаго языковъ[76]. Такъ далеко заходили обскуранты въ своей безсильной ярости противъ гуманистическаго движенія. И предчувствіе не обманывало ихъ на счетъ грозившей имъ опасности: