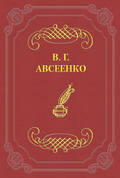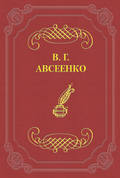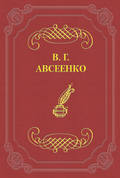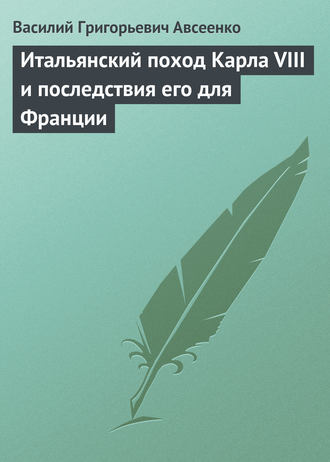
Василий Авсеенко
Итальянский поход Карла VIII и последствия его для Франции
"Се grec, cet hebrieu, ce latin
Ont decovert Ie pot aux roses" —
какъ говоритъ Маро въ своихъ «Письмахъ пѣтуха къ ослу»[77].
III. То же направленіе, стремившееся стать въ разрѣзъ съ преданіями средневѣковой эпохи, обнаружилось и въ искусствѣ временъ возрожденія. Источникъ переворота въ этой области, какъ и въ области науки, заключался въ ближайшемъ знакомствѣ съ классическою древностью. Пробудившаяся страсть открывать и изучать памятники древне-греческаго и римскаго искусства не замедлила повести за собою стремленіе подражать этимъ художественнымъ произведеніямъ античной пластики. Старинные образцы средневѣковаго искусства, лишенные всякаго художественнаго достоинства и носившіе на себѣ слѣды бѣднаго, неразвитаго вкуса и безсильной по своимъ средствамъ техники, потеряли всякое значеніе для поколѣнія, знакомаго съ художественными образцами древности. Въ XIII вѣкѣ, произведенія какого нибудь Гвидо Сіенскаго или Чимабуэ возбуждали восторгъ современниковъ; но передъ исполненными дивной прелести созданіями классическаго генія, сохранившимися въ памятникахъ античной скульптуры, они блѣднѣли и казались лишенными дыханія жизни. Между тѣмъ, знакомство съ этими классическими памятниками очищало вкусъ, возвышало цѣли искусства; съ тѣмъ вмѣстѣ, совершенствовалась и усиливалась въ своихъ средствахъ техника. Произведенія Джіотто, ученика Чимабуэ, представляютъ уже значительный шагъ впередъ въ живописи. Вазари говорить о немъ, что онъ внесъ жизнь и движеніе въ мертвое средневѣковое искусство: "Вмѣсто грубыхъ, очерчивающихъ кругомъ весь образъ контуровъ, окаменѣлыхъ глазъ, вывороченныхъ рукъ и ногъ, и всѣхъ недостатковъ, происходящихъ отъ совершеннаго отсутствія тѣни, фигуры Джіотто имѣютъ гораздо лучшее положеніе, въ лицахъ ихъ больше жизни и свободы, складки падаютъ у него естественнѣе, и даже встрѣчаются попытки къ перспективному изображенію членовъ. Кромѣ всѣхъ этихъ улучшеній, Джіотто первый пытался изобразить въ своихъ картинахъ игру страстей на человѣческомъ лицѣ. Если онъ не пошелъ далѣе, то это должно приписать препятствіямъ, затруднявшимъ совершенствованіе искусства, и недостатку хорошихъ образцовъ"[78]. Оба эти затрудненія – несовершенство техники и отсутствіе образцовъ, которые могли бы очистить вкусъ художниковъ и вдохновить ихъ, устранялись мало по малу съ теченіемъ времени. Въ эту эпоху напряженія всѣхъ силъ Италіи, каждое новое имя въ искусствѣ означало какое нибудь смѣлое завоеваніе. Мазаччіо ввелъ въ живопись изученіе природы и дѣйствительной жизни, слѣдовательно опрокинулъ всю средневѣковую теорію искусства; Паоло Уччелло сообщилъ своимъ произведеніямъ идеальную глубину Фона, на которой основывается тайна эффекта, производимаго живописью; онъ открылъ также законъ перспективы, такъ обаятельно дѣйствую-щей на глазъ. Антоніо Поллайуоло внесъ въ пластику изученіе анатоміи человѣческаго тѣла, игру мускуловъ. Андреа да Кастанья изобрѣлъ способъ приготовлять краски на маслѣ, что быстро подвинуло впередъ живописную технику[79].
Это постепенное совершенствованіе техники, вмѣстѣ съ расширеніемъ задачъ и средствъ искусства, скоро привело къ такому пышному расцвѣту пластики, такому разностороннему развитію всѣхъ видовъ и отраслей ея, передъ которымъ должны были поблѣднѣть даже классическія воспоминанія. Сочетаніе античной граціи и пластической роскоши формъ съ христіанскимъ идеализмомъ среднихъ вѣковъ дало искусству временъ возрожденія богатство внутренняго содержанія, которымъ далеко не въ той мѣрѣ были надѣлены произведенія древней пластики. Въ лицѣ своихъ величайшихъ представителей, Леонардо да Винчи, Микель-Анджело, Тиціана и Рафаэля, живопись временъ возрожденія возвысилась до недосягаемаго совершенства; она рѣшила великую задачу новаго искусства – влить христіанскій идеализмъ въ классическую пластику, облечь средневѣковыя стремленія въ роскошныя античныя формы. Задача эта рѣшена была не безъ борьбы, не безъ увлеченій: многіе художники, воспламенные слѣпымъ энтузіазмомъ къ древности, захотѣли вовсе отрѣшиться отъ преданій христіанства, отъ идеальныхъ образовъ средневѣковой жизни, отъ всего того, что въ послѣдствіи было названо романтизмомъ; они хотѣли погрузиться до дна въ ослѣпляющую ослѣпляющую роскошь колорита, волшебную игру тѣней и полутѣней; хотѣли превзойдти древнихъ въ художественномъ сенсуализмѣ. Но та же среда художниковъ временъ возрожденія воспитала, въ лицѣ Рафаэля, генія, произведенія котораго представляютъ дивное сочетаніе христіанскихъ идей съ антич-ною граціей формъ и роскошью колорита; его "Мадонна" и "Преображеніе", лучшіе перлы новой живописи, служатъ разгадкою великой задачи, о которой мы говорили – задачи примиренія античныхъ идеаловъ съ идеалами христіанства.
То же направленіе, тѣ же стремленія встрѣчаемъ мы и въ архитектурѣ временъ возрожденія. Торжеству классическаго идеала въ этой области искусства не мало содѣйствовало то обстоятельство, что готическій стиль никогда не проникалъ въ Италію во всей своей величавой суровости: средневѣковые итальянскіе зодчіе держались смѣшаннаго стиля, въ которомъ античная круглая линія сочеталась съ прямолинейными готическими очертаніями[80]. Въ эпоху возрожденія, греко-римскій стиль окончательно вытѣсняетъ готическій и проникаетъ даже въ церковную архитектуру, такъ точно, какъ языческая живопись проникла въ иконопись.
IV. Намъ остается еще разсмотрѣть, какъ относились итальянскіе гуманисты временъ возрожденія къ государству и свѣтской власти, т. е. какъ отразились идеи древняго міра въ ихъ политическихъ воззрѣніяхъ. Для этого намъ надо обратиться далеко назадъ, къ эпохѣ возвышенія папской власти.
Извѣстно, что въ первыя пять столѣтій, непосредственно слѣдовавшія за паденіемъ западной римской имперіи, папство вовсе не имѣло того универсальнаго, космополитическаго характера, какимъ отличалось оно, начиная съ XI вѣка. Въ этотъ пятисотлѣтній періодъ, папскую власть одушевляли совершенно иныя стремленія хотя, въ то же время, она не разъ громко заявляла тѣ неограниченныя притязанія, поддержаніе которыхъ въ послѣдствіи сдѣлалось ея традиціонной политикой. Источникъ первоначальныхъ тенденцій папства коренится въ событіяхъ, сопровождавшихъ паденіе западной римской имперіи, т. е. въ явленіяхъ той эпохи, когда развѣнчанная Италія должна была съ собственными скудными средствами противостоять наплыву новыхъ народовъ и новыхъ юридическихъ понятій. Въ этой коллизіи, на сторонѣ Италіи были только великія историческія воспоминанія, на сторонѣ враговъ ея была физическая сила; такимъ образомъ, исходъ борьбы можно было предсказать заранѣе. Но мы видимъ, что съ теченіемъ времени классическія воспоминанія Италіи всплыли на верхъ и западный міръ сомкнулся въ двѣ, преемственно следовавшія одна за другою, имперіи – сначала Франкскую, потомъ Германскую. Въ обоихъ этихъ явленіяхъ средневѣковой исторіи, Италія принимала только страдательное участіе: правда, безъ Италіи стала немыслима имперія, но имперія была не въ Италіи. Великая страна, заключавшая когда то весь цивилизованный міръ въ своихъ предѣлахъ, теперь была не болѣе, какъ провинціей Германіи. Если принять въ соображеніе, какъ живучи были у итальянской націи ея великія классическія преданія, какъ самолюбива была эта нація, которая даже въ XVI столѣтіи называла своихъ заальпійскихъ сосѣдей варварами почти въ томъ смыслѣ, въ какомъ употребляли это слово Геродотъ или Тацитъ, то не трудно будетъ понять, до какой степени тяготило Итальянцевъ X вѣка сознаніе ихъ политическаго ничтожества. Они чувствовали потребность возвратить свое прежнее міровое значеніе, а для этой цѣли имъ надо было, централизовавшись сначала у себя дома, сосредоточить потомъ въ этомъ центрѣ интересы всего западнаго міра. И вотъ, обнаруживается въ Италіи патріотическое движеніе, стремившееся стать во враждебное отношеніе къ императорской традиціи, и найдти точку опоры въ другомъ, вполнѣ національномъ учрежденіи, въ папствѣ. Папство было именно тѣмъ вполнѣ итальянскимъ, туземнымъ учрежденіемъ, которое могло сосредоточить въ себѣ разрозненныя силы полуострова и стать въ оппозицію къ другому учрежденію, хотя и выросшему на итальянской почвѣ, но воплотившему въ себѣ интересы другой народности, къ императорской власти. Этимъ значеніемъ, которымъ національное честолюбіе Итальянцевъ окружило папскую власть, въ извѣстной мѣрѣ объясняется, по нашему мнѣнію, то упорное, почти систематическое противодѣйствіе притязаніямъ императоровъ, какое постоянно обнаруживала не только римская курія, а вся итальянская нація. Но такое положеніе дѣлъ не могло быть продолжительнымъ. Папство могло служить національнымъ знаменемъ Италіи только до тѣхъ поръ, пока оно было абсолютнымъ, всѣми признаннымъ авторитетомъ, пока его окружалъ ореолъ величія и славы, пока въ немъ сосредоточивались интересы всего христіанскаго міра. Какъ скоро оно упало съ той высоты, на какую возвели его Григорій VII и Иннокентій III, оно должно было утратить обаяніе, приковывавшее къ нему умы итальянскихъ патріотовъ. Такъ именно и случилось, когда, со временъ Бонифація VIII, началось нисходящее движеніе папства. Папы сдѣлались вассалами французскихъ королей, поносили другъ друга бранью и анаѳемами, подчинились авторитету вселенскихъ соборовъ, тѣхъ соборовъ, на которыхъ національная гордость Итальянцевъ была сильно оскорблена. Всего этого было слишкомъ достаточно, чтобъ лишить папство суевѣрнаго уваженія Европы и въ особенности того великаго національнаго значенія, ка-кое имѣло оно въ глазахъ Итальянцевъ. Уже одинъ тотъ фактъ, что въ Италіи могла образоваться сильная гибеллинская партія, достаточно обнаруживаетъ, какъ не велико было въ то время довѣріе Итальянцевъ къ своему національному учрежденію: гибеллинизмъ на итальянской почвѣ представляетъ, прежде всего, отрицаніе тѣхъ надеждъ и упованій, которыя Италія возлагала на папство во время его величія и блеска.
Въ такомъ фазисѣ своего развитія находилась вѣчно-живая, никогда не умиравшая идея національнаго единства Итальянцевъ, когда и ученіе памятниковъ классической древности открыло передъ ними новый міръ. Чтеніе Ѳукидида, Ксенофонта, Ливія, открыло передъ ними картину государственнаго быта, мало сходнаго съ тѣмъ, среди котораго они жили. Въ особенности римскіе историки должны были оказать сильное вліяніе на воспріимчивое воображеніе Итальянцевъ, Древній Римъ, величественно выступающій изъ разсказовъ Ливія, его республиканскія формы, суровый, гордый патріотизмъ его гражданъ, обаятельно дѣйствовали на такихъ людей, какъ Петрарка и Коло ди Ріенцо. Связанные чувствомъ дружбы, основанномъ на родствѣ стремленій и взаимномъ уваженіи, эти люди шли рука объ руку къ осуществленію классическихъ идей, навѣянныхъ чтеніемъ Ливія; ихъ дѣятельность такъ неразрывно связана, что трудно рѣшить, была ли революція Коло ди Ріенцо осуществленіемъ идей Петрарки, или, напротивъ, республиканскія мечты Петрарки были возбуждены дѣятельностью Ріенцо. Въ ихъ личномъ характерѣ было много общаго, хотя и нельзя сказать, чтобъ они во всемъ походили другъ на друга. Петрарка былъ поэтъ и отчасти идеологъ, которому природа отказала въ большомъ практическомъ смыслѣ и большой энергіи къ дѣлу. Ріенцо былъ по преимуществу человѣкъ дѣла, страстная и безпокойная натура, созданная для заговоровъ и революцій. Вмѣстѣ съ тѣмъ, онъ былъ способенъ увлекаться великими идеалами, былъ проникнуть восторженною любовью къ древности. Живя въ Римѣ, онъ съ увлеченіемъ перечитывалъ Ливія, Саллюстія, Валерія Максима, и скоро воображеніе его воспламенилось ихъ разсказами. Образъ древняго міра въ величественной красотѣ возникъ въ его представленіи. Онъ задумалъ обширный политическій переворотъ, и благодаря анархіи, господствовавшей въ Римѣ, благодаря вліянію, какое доставилъ ему дружественный союзъ съ Петраркою, привелъ его въ исполненіе. Средневѣковой Римъ облекся въ классическія формы; столица папъ преобразовалась въ республику; древній форумъ наполнился народомъ, тѣснившимся передъ трибуной Ріенцо. Но обманъ продолжался не долго: Римъ отрезвился, минутная вспышка погасла, и Ріенцо поплатился жизнью за свою классическую комедію[81]. Впрочемъ, трагическая развязка дѣла, въ которомъ Петрарка принималъ самое непосредственное участіе, не поколебала его гордаго республиканскаго духа: онъ сохранилъ на всю жизнь свои юношескія стремленія, свое благоговѣніе предъ древнимъ государственнымъ бытомъ, его широкою политическою жизнью. Недовѣрчиво и строго относился онъ къ поколѣнію, среди котораго поставила его судьба; онъ весь уносился въ прошлое, онъ жилъ среди Рима временъ Катона и Сціпиона, и сожалѣлъ о ихъ недостойныхъ потомкахъ, для которыхъ слово «свобода» утратило всякій смыслъ, всякое очарованіе. Въ энергическихъ выраженіяхъ призывалъ онъ Римлянъ оглянуться на свое великое прошлое и почерпнуть въ немъ урокъ для настоящаго. «Если хотя капля древней крови течетъ въ вашихъ жилахъ, страшитесь утратить завоеванную свободу», писалъ онъ къ римскимъ гражданамъ, когда Ріенцо успѣлъ на нѣкоторое время утвердить среди нихъ республиканскія формы[82]. Но республика пала, и отъ классическихъ мечтаній Петрарки и Коло ди Ріенцо осталось только продолжительное броженіе въ Римѣ, долгое время бывшее источникомъ смутъ и безпорядковъ.
Несравненно важнѣе по своимъ послѣдствіямъ былъ переворотъ, произведенный въ политическихъ идеяхъ Италіи и всей Европы твореніями Макіавелли. Мы указывали уже на историческое значеніе Макіавелли, какъ дѣятеля возрожденія. Значеніе это заключается въ томъ, что онъ призвалъ къ жизни государственную идею, управлявшую классическимъ міромъ и забытую въ средніе вѣка, что на мѣсто павшаго духовнаго авторитета онъ далъ человѣчеству другой авторитетъ – политическій, національный, государственный. Въ этомъ, по нашему разумѣнію, заключается главная историческая заслуга Макіавелли, и она, а не его парадоксальная теорія свѣтской власти, изложенная въ извѣстной книгѣ его: "Il Principe", должна была по настоящему упрочить его имя въ исторіи. Макіавелли былъ государственный дѣятель, съ головы до ногъ. Его литературные труды, его общественное служеніе, даже его честная, домашняя жизнь, все въ немъ было посвящено государственнымъ цѣлямъ. "Рѣдко, говорить Блунчли, можно встрѣтить человѣка, который бы такъ всецѣло и исключительно былъ преданъ государству, какъ Макіавелли. Какъ вода для рыбъ и воздухъ для птицъ суть единственныя стихіи, среди которыхъ они могутъ существовать, такъ Макіавелли могъ жить только среди государства. Онъ – государственный человѣкъ въ полномъ смыслѣ слова. Онъ чувствуетъ себя призваннымъ играть политическую роль, и не можетъ жить внѣ политики. Его дарованія, его помыслы, его склонности посвящены государству. Онъ страстно любитъ государство, и готовъ пожертвовать ему всѣми своими силами. Онъ жертвуетъ ему своимъ спокойствіемъ, своимъ состояніемъ, своими друзьями, самимъ собою, даже своею честью и совѣстью. Выше политической дѣятельности онъ ничего не знаетъ и ни къ чему такъ не стремится; политическія науки стоять для него на второмъ планѣ. Онъ съ большею охотою пишетъ реляцію о посольствѣ, отъ которой онъ ожидаетъ непосредственнаго дѣйствія, нежели рѣчь о какомъ нибудь политическомъ вопросѣ. Четырнадцать лѣтъ (1498–1512), въ теченіе которыхъ онъ, какъ секретарь флорентинской республики, принималъ непосредственное участіе въ дѣлахъ, были счастливѣйшими въ его жизни, хотя многое шло тогда противно его желаніямъ, и хотя онъ занималъ мѣсто, слишкомъ скромное для его необыкновенныхъ способностей. Ему было въ высшей степени больно, когда онъ, въ самомъ цвѣтущемъ возрастѣ (онъ род. 1469), въ слѣдствіе государственнаго переворота и возвышенія Лоренцо Медичи, былъ отставленъ отъ своей должности и принужденъ жить частнымъ человѣкомъ. Онъ не могъ перенести этой вынужденной праздности. Какъ трогательны его жалобы, которыя онъ обращалъ къ своему другу Веттори. Какъ страдаетъ онъ, оттого что для него закрыта политическая дѣятельность, какъ безплодно и бѣдно кажется ему все, что онъ дѣлаетъ! Онъ едва находить, чѣмъ убить время. Ему опротивѣла ловля птицъ, которой онъ издавна любилъ заниматься; чтеніе поэтовъ, прелести природы развлекаютъ его только на короткое время; печально проводить онъ послѣобѣденные часы за картами и трик-тракомъ, въ обществѣ трактирщика, мясника, мельника и кирпичника. Зато вечеромъ онъ весь сосредоточивается. Онъ снимаетъ свою всегдашнюю нарядную одежду и надѣваетъ платье государственнаго человѣка. Онъ уединяется къ себѣ въ кабинетѣ, ведетъ таинственную бесѣду съ государственными людьми прежнихъ временъ, задаетъ себѣ политическія проблемы и упражняется въ ихъ рѣшеніи. Если онъ не можетъ заниматься дѣйствительными дѣлами, то занимается по крайней мѣрѣ вымышленными. Политическими науками онъ занимается только по нуждѣ; въ нихъ ищетъ онъ только исхода для внутреннихъ стремленій. которыя лучше желалъ бы обнаружить въ политической дѣятельности"[83].