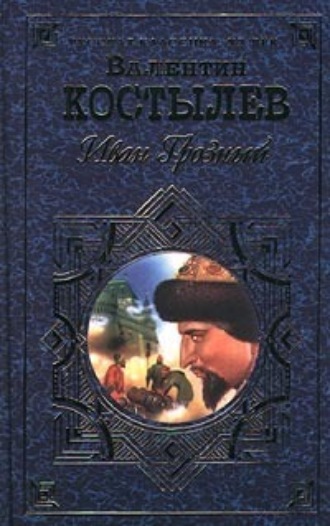
Валентин Костылев
Иван Грозный. Книга 1. Москва в походе
Вассиан нахмурился.
– Не пытай меня, государь! Не считаешь ли ты меня за такого же стяжателя, как близкие твои бояре? Скоро я умру, лукавить мне нечего перед тобой, и ни в каких заговорах я отроду не бывал. Скажу тебе совестью – народ так привык, чтоб молиться своему святому, народ не верит не только чужим воеводам, но и чужим иконам. А вы отняли и это у него.
Иван Васильевич стал еще подозрительнее. Голос его сразу сделался холодным, суровым.
– Все вы валите на народ! И бояре, и Курбский, и твои заволжские старцы постоянно пугают меня народом, когда им сказать нечего. Моя воля, чтоб священство помогало мне, но в мои дела не вмешивалось. Когда Бог освободил израильтян от плена, разве он поставил во главе их священника или многих советников? Нет! Он поставил им одного Моисея, как бы царя. Аарону же внушил священство, не дозволив ему вмешиваться в гражданские дела. Но когда Аарон отступил от этого, то и народ отпал от Бога. Точно так же Дафан и Авирон вздумали себе восхитить власть и сами погибли, и лютое бедствие навлекли на весь Израиль. Не бойся, не допущу я попов к власти. Нет царства, которое не разорилось бы, будучи в обладании попов, но и отказаться от них царям не след.
Старец весело рассмеялся:
– Вижу, батюшка Иван Васильевич, как горько обманывают себя иосифляне! Вижу, что сами они себе готовят могилу, возвеличивая цареву власть над церковью!.. Горько восплачутся потом! Может статься, что я уже не увижу сего, умру, но так будет. Сами себе они готовят деспота. Аминь!
Царь молча поклонился и, сердито хлопнув дверью, вышел из кельи. Старец с насмешливой улыбкой посмотрел ему вслед.
Увидев около ворот обители чернеца с громадною секирой, Иван Васильевич ударил его по плечу.
– Крепче сторожи! Не пускай никого в келью к старцу Вассиану… Головой отвечаешь… Вот тебе мой царский приказ!
VI
Курбский, получив на то разрешение, вошел в государевы покои. Иван в шелковом полосатом халате, подпоясанный по-татарски кушаком, сидел у окна. Задумчиво глядел он на дворцовую площадь, там собирался на торжище народ, бродили козы по склонам холмов, пощипывая траву. Скрип дверей и шаги Курбского вывели царя из задумчивости. Он оглянулся.
– Дозволь, государь, слово молвить.
Иван зевнул и сказал с улыбкой:
– По вся дни мы говорим с тобой, тоже и с отцом Сильвестром и Адашевым, но благости Божией немного вижу я ныне в беседах тех. А было время, мы понимали друг друга, и книжною мудростью своей ты согревал меня…
– Великий государь! – начал Курбский с жаром. – Не томи себя… Неправ ты, государь. Тот же я, что и раньше, но ты не слушаешь меня.
– Для того ли Божиим изволением помазан я, чтобы думать чужими головами? – сощурив глаза, посмотрел Иван в упор на Курбского. – Дивлюсь я, князь, сколь слепы вы при толикой мудрости!
Курбский пожал плечами и принялся с горячностью доказывать: опасно-де воевать с ливонцами; война может поссорить Москву с Германией, Польшей, Литвою и Швецией. Не лучше ли напасть на ногайцев?
– От Бога великий мор послан на ногайскую заволжскую орду, – говорил Курбский, – зимою скот весь ногайский от стужи попадал, сами ногаи мрут, что мухи, и хлеба у них нет. Оставшиеся в живых видят явно посланный на них гнев Божий. Пошли они для пропитания к Перекопу. Господь и там покарал их: от солнечного зноя засуха и безводие. Где прежде текли реки, не стало воды. На десятки локтей в земле едва можно достать ее. За Волгой осталось того измаильского народа едва ли до пяти тысяч, а было множество его, подобно песку. На Перекопе пожирает их моровая язва, и ныне не будет и десяти тысяч всадников. Так, я думаю, настало время христианскому государю отомстить басурманам за кровь братьев, оградить себя и свое государство от нечестивых на вечные дни.
Курбский замолчал. Иван сидел за столом, опустив голову на руки, что-то шептал про себя. Потом, устало повернувшись в сторону Курбского, спросил:
– И прочие воеводы думают так?
– Истинно, великий государь! Но не стало ныне прямоты и смелости в людях, украшенных некогда бесстрашием.
Иван улыбнулся, похлопал по руке Курбского:
– Добро, князь Андрей!.. Люблю тебя за правду. Трусы не должны быть опорою царского трона. Что же ты хочешь от меня? Говори смелее, не бойся… Не такой строптивый я, как болтают.
Курбский некоторое время мялся в нерешительности. Потом, ободренный добродушием царя, сказал:
– Великим умом своим, государь, ты, я вижу, постиг то, о чем я хочу просить тебя… Паки и паки я буду говорить супротив похода к Свейскому морю… Наш долг перед Богом – уничтожить без остатка ногайцев и крымских татар, а на запад нам ли ломиться? Что в нем? Еретики! Пагуба!
– Благодарю, князь, – крепко обнял Иван Курбского, – вижу твое нелицеприятство. За воинскую честь и доблесть тебя не оставлю… Теперь же покинь меня, посижу один сего ради да подумаю над твоими словами… и над советами твоих друзей.
Курбский земно поклонился и вышел из царской опочивальни.
После его ухода Иван долго сидел в раздумье. Мысли опять о том же. Ох, эти докучливые мысли! Они преследуют его, царя, постоянно. Временами слабеет вера в себя, в свои силы. Затеяно дело великое, а где выход? Так бывает с путником, идущим в горах. Одолев один перевал, он думает спуститься в место ровное, просторное, где можно отдохнуть. Но нет! Перед ним новая гора, опять он на вершине, и куда ни глянешь – везде горы, горы и пропасти, и не видно дороги ровной, без подъемов и спусков… Может быть, Курбский прав? Может быть… Не отстать ли? Не уехать ли с Анастасией с детьми за море?
Тяжело вздохнув, Иван поднялся с кресла, помолился на икону и отправился в царицыны покои.
Анастасии недужилось. Она поднялась с постели, бледная, исхудалая. По лицу ее пробежала ласковая улыбка. Глаза, черные, печальные, смотрят страдальчески. Одна из мамок, Феклушка, рассказала ей утром, что в эту ночь под ее, царицыным, окном какая-то курица пела петухом. Люди хотели поймать ту курицу, а она обратилась в черного ворона и улетела в ту сторону, где садится солнце. Вещунья-старушка, которую привели к царице сенные боярышни, объяснила:
– Не к добру то. Если царь-батюшка пойдет войной на закат солнца, к морю, – не послушает советников, – приключатся великие недуги с ним и с тобою, и смута страшная поднимется в государстве.
Иван молча смотрел на Анастасию нежным, скорбным взглядом.
– Печальница моя по вся дни! Поведай, что с тобой подеялось? Бледна ты и худа, как того не было вчера и позавчера… Не сглазил ли тебя кто, не обеспокоил ли кто, моя горлица?
Анастасия через силу приободрилась: она дала себе слово ничего не говорить мужу о курице и обо всем, что слышала от дворни. Больше всего Иван боялся колдовства. Она знала, как Иван мучается наедине, услыхав что-нибудь колдовское. Анастасия всегда старалась успокоить его, хотя сама и недолюбливала Сильвестра и Адашева, хотя втайне и мучилась опасением за жизнь царя.
Сила «сильвестрового хвоста» велика. Многие служилые люди ставлены Сильвестром и Адашевым. Не скоро от них освободишься.
Что сказать царю? Ведь и сам он все это знает. Знает и ничего пока не может сделать, ибо еще не набрал такой силы, чтоб одолеть их.
– Лекарь был? – тихо спросил Иван, усевшись в кресло. – Аглицкий или свой? – пытливо взглянул он на стоявшую в углу мамку.
– Аглицкий, батюшка-государь, – в страхе пролепетала старуха. – Аглицкий…
– Удались! – кивнул царь в сторону мамки.
После ухода старухи он, глядя на жену, тяжело вздохнул. Ему казалось, что царица хворает неспроста, что кто-то виноват в том.
– Цари, короли, их жены и дети во все времена недужили кому-либо на радость… И теперь враги радуются моему горю. Вида не кажут, лицемеры, и, стоя у трона, вздыхают. Окаянные, вселукавые души! Прикрываются добродетелью и любовью, а сами… Сатана перед крестным знамением отступает и исчезает вовсе, а они, лукавцы, крестным знамением и именем Христа прикрываются. Хуже они самого сатаны!
Анастасия участливо вглядывалась в лицо мужа. Она не могла сдержаться, спросила:
– Чем ты разгневан, государь?
Иван тоже многое скрывал от царицы, щадя ее здоровье, но тут не вытерпел и, подозрительно оглядевшись кругом и плотно прикрыв двери, сказал:
– Упрекают меня мои первые вельможи – не советуюсь с ними, слушаю шепоты будто бы ласкателей. А сами о турецком султане и подумать не хотят… Великий Солиман золотыми буквами грамоту пишет мне о дружбе, а я пойду разорять ханскую землю, Крым? Не хотят понять они, что погибель в безводных степях ждет войско. Добравшись до Крыма, едва половину войска приведешь туда, да какого войска! Голодного, убогого, усталого.
– Батюшка-государь! – сказала Анастасия. – Велика власть твоя, и сердце твое любовью к государству напоено. Побереги себя, не будь подобен огню, себя сжигающему. Бог мудрее нас. Он укажет своему помазаннику путь в делах земных.
Иван нахмурился.
– Огонь для того и есть, дабы гореть. Земной правитель повинен до смерти стоять за родное дело. Бывают дни, когда хотел бы я обратиться в сыроедца-волка, чтобы загрызть своих благодетелей. Вот была бы потеха! Нет такой казни, коя могла бы достойною наградою быть многим из них…
На губах Ивана мелькнула злая улыбка.
– Что ты, батюшка! Христос с тобой! – испугавшись, замахала на него руками Анастасия. – Помолись Господу Богу… Да простит он тебя!..
– Ну, вот ты и поверила!
Тяжело поднялся с своего места Иван. Постоял в раздумье перед иконами, а потом порывисто осенил себя крестом, земно поклонился иконам.
– Экие мысли! Прости, Господи! Смягчи, владыко, гнев мой!
И, обратившись к жене, мягким голосом сказал:
– Бойся, Анастасия, толкать меня на убогий, прискорбный путь. Не отвращай меня из жалости от более достойной дороги. По ней прошли мой дед и отец со славою.
– Но ведь ты, батюшка, не снесешь обид и опасностей… Тебя погубят!
Анастасия опустила с постели ноги, взяла мужа за руку:
– Не сердись, государь! Это я так…
Она была прекрасна в эту минуту. Иван прижал ее руки к губам. Затем отошел от нее и, отвернувшись к окну, тяжело вздохнул.
– Помогай! Не по душе мне место малое, место тихое… Неужто до сих пор ты не поняла меня? Помни: царица ты! Нам ли с тобой бояться обид? Пустое! Бог требует возвеличить и прославить дело рук моих предков. Могу ли я довольствоваться помыслами честолюбцев? Не они ли у одра моего, в дни недуга минувшего, хватались за скипетр, бороды друг другу драли из-за первенства? Я не забыл. Помню! Дивуюсь, Анастасия! Ужели ты забыла? Не случилось бы ныне того, что прежде, чем я на них руку подниму, умертвят они нас с тобой?! Господь помешал им однажды. Помнишь? Я остался жив, выздоровел. Но если бы умер? Они истребили бы друг друга и сгубили бы родину. Один мужик сказал мне: «Царь да нищий – без товарищей». Но так ли это? Нет! Я велел выпороть мужика. Больно было слышать такие слова. Не товарищей, так слуг верных царь всегда волен иметь.
Он быстро зашагал из угла в угол по комнате.
– Не тоскуй, царица! Рушится упрямство поганое!
Расстегнул ворот у рубахи, прислонился к косяку окна.
– Душно! Демон давит!.. Ох!
Царица вскочила, накинув на себя голубой шелковый халат.
– Молись, молись, Иванушка! Не думай! – прошептала она, набожно сложив руки на груди. – Стань на колени!
Иван вытянулся во весь рост.
– Не страшись! Найду я в себе силы держать ответ перед Богом и народом. Найду силу, чтоб раздавить непокорных!
Анастасия испуганно сказала:
– Грешно, батюшка, не гневи Господа, послушай меня!..
– Я – Божий слуга на земле. Они – мои рабы! Не должны ли они молиться за Божьего слугу? Они будут послушны мне, а я их послушание принесу в дар всевышнему. Я очистил монастыри от блуда, пьянства и лихоимства, очищу и души ближних слуг от лицеприятия и гордыни… Я поклялся в том святой троице и не нарушу клятвы. На площади дал я народу клятву – в строгости и справедливости судить и стоять за государство. Помнишь? Я не нарушу клятвы.
Анастасия глядела на мужа, и ей жаль было его. Она никогда не была за него спокойна. Ей всегда казалось, что вот-вот с ним должно что-то случиться. Он как бы искал опасностей, шел навстречу грозам.
– Не разумно умереть, не испытав всех сил своих!
Иван словно не видел жены и думал о чем-то другом, а не о том, о чем шел разговор. Глаза его загорелись. Очнувшись, осмотрелся кругом подозрительно.
– Никого нет? Да! Да! Ложись! Буду молчать. Язык не должен забегать вперед. Какая ты красавица! Только зачем ты такая хворая! Тебе сила тоже нужна. Ведь и ты им не люба. Сильвестровы прислужники сравнивают тебя с царицею Евдокией, гонительницей Иоанна Златоуста…
Раздался стук в дверь.
Иван вздрогнул, отшатнулся от жены. На носках подошел к дверям, приставив глаз к потаенному оконцу. Стук повторился.
– Входи! – строго сказал царь.
– Батюшка-государь! Дозволь молвить слово холопу твоему! – низко опустив голову, произнес постельничий Игнатий Вешняков.
– Говори.
– Из Нижегородского уезда пришли мужики.
– Чьи?
– Колычевские. Их отбил Грязной у стражи князя Старицкого.
Лицо Ивана Васильевича потемнело.
– Стража князя Владимира Андреевича перехватила колычевских мужиков? – тихо и грозно спросил царь.
– Так, великий государь! Они не хотели допустить беглецов пред твои царские пресветлые очи. Василий Грязной со стрельцами отбил.
– Слышишь, Анастасия? Братец-то мой какой храбрый. Колычевских мужиков полонил!
– А зачем то ему?
– Со словом на своего боярина шли они на государев двор, царица-государыня!
Царь отошел к окну, чтоб не было видно его волнения. Глубоко вздохнул.
– Обласкайте странников с пути-дороги, накормите, напоите их, а от нашего двора – никуда! Держите с милосердием. Явите пристойное. Ступай с богом.
Поклонившись до земли, Вешняков удалился.
– Увы, – покачал головою Иван. – Упорствуют князи. Стоят на дороге. Трудно Володимиру отказаться от того, что задумал он. Простил я его, но веры у меня нет ему. И почему Володимиру быть царем? От последнего сына моего деда родился он. Андрей Иванович не был наследником. Мой отец, Василий, наследник деда Ивана. Какая же вина моя перед ним? А он и по сие время в обиде на меня и бояр, что отреклись от него.
Большой, сильный Иван наклонился над женой, прошептав:
– Не быть по-ихнему… И я не сплю. Все перед царевым судом будут равны… Рабы Божии станут моими рабами. И бояре, и князи, и дворяне, и мужики. Так будет!
Иван тихо рассмеялся, поцеловал жену.
Из соседней светелки к нему подбежал маленький курчавый мальчик. Стал играть серебряными бляхами на халате. Это – трехлетний царевич Иван. Сегодня отец подарил ему крохотный железный шлем – не потешный, а заправского дела. Царь надел его на головку ребенка и с улыбкой стал любоваться сыном.
– Ты воин? – спросил он мальчика.
– Я матушкин! – храбро ответил тот.
Царь добродушно рассмеялся. Анастасия, лежа в постели, тоже засмеялась.
– Благодари отца! – сказала она царевичу.
В ответ на это ребенок низко, чуть не свалившись с ног, поклонился отцу.
– На войну пойдешь? – спросил отец.
– Пойдешь… – ответил царевич.
– На Крым аль на Ливонию?
– Пойдешь на… – мальчик растерялся и убежал опять в свою светелку.
Царь засмеялся:
– Царевич и тот скрывает свою мысль…
– Полно, государь!.. – улыбнулась Анастасия.
* * *
В нижних покоях Вешнякова поджидал Грязной.
– Ну, как встретил ту весть государь? – шепотом спросил он спустившегося вниз товарища.
– Спокойно. Осилил гнев.
– А сказал ты…
Не успел Грязной договорить, как на лестнице послышались тяжелые шаги царя.
– Тише! – сжал руку Грязного Вешняков.
Царь сошел вниз и удивленно остановился против Грязного.
– И ты здесь?
– Здесь, великий государь! – молвил Грязной, став на колени. – Прошу прощенья, что дерзнул я прийти без твоего, государева, зова.
– Поднимись! Слушай! Изловите начальника стражи князя Старицкого. Поймайте его в ночное время, хитростью завлеките.
– Слушаем, государь!.. Слово твое царское для нас то же, что слово Божье, милостивый батюшка! Что прикажешь, то и сделаем. Ни отца, ни матери не пощадим, коли к тому нужда явится…
Слова Грязного понравились царю. Он похлопал его по плечу.
– Добудь разбойника… Попытаем его. Позабавимся.
* * *
В полдень Вешняков доложил царю, что нижегородские мужики бьют челом, просят милости царской за самовольство и за приношение «слова» на боярина Колычева и его друга, наместника нижегородского.
Андрейка, Герасим и Охима пали ниц, когда вышел царь.
– Буде!.. – услышали они над собой строгий голос.
Не вставая с колен, они приподнялись, чтобы увидеть царя. Большие серые глаза его выражали любопытство. Одет он был просто: в суконном коричневом кафтане, в темно-синих шароварах, запрятанных в красные сафьяновые сапоги. Он был молод, высок ростом, строен, с светлыми, гладко зачесанными волосами. Небольшая бородка, пронизывающий насквозь острый взгляд, орлиный нос делали лицо его необыкновенным. Он приветливо улыбнулся.
Смущение и страх нижегородцев прошли. Парни смело рассказали о крутости колычевского нрава, о боярском неправедном, самочинном суде без старост, без целовальников; о том, как утопил боярин старуху знахарку и за что ее сгубил.
Царь спросил, всю ли свою пашенную землю запахивает Колычев и гонит ли хлебные обозы в Нижний и на Волгу для продажи.
Герасим ответил, что боярин запахивает самую малую часть пашенной земли, чтобы накормить только себя и своих людей, холопов и крестьян, а в продажу ничего не дает и никакого не прилагает старания, чтобы вся пашенная земля давала хлеб, крестьян своих и то теснит хлебом. И выходит, что боярин Колычев живет не по совести, а как «собака на сене».
– Был ли в колычевской вотчине наш посланный Василий Грязной и что он говорил людям? – спросил царь, испытующе вглядываясь в лица парней.
– Был царский посланник. О войне он народу, батюшка-государь, баял, о сборе ратных людей. А как уехал, еще лютее сделался Никита Борисыч. Тут он старуху и утопил и этого парня на цепь посадил… Лютой он у нас, особо во хмелю…
Иван терпеливо выслушал жалобы парней.
Вешняков низко поклонился царю и хотел было увести челобитчиков, но царь остановил его:
– Обожди, – и, обратившись к Охиме, спросил ее: – Ну-ка, девка, что скажешь?
Он улыбнулся. Осмотрел ее с головы до ног, ободряюще кивнул ей:
– Эк, ты какая!
Охима рассказала царю, как наместник теснит мордву, как волостели и приказчики жестоко расправляются с мордвой, чувашами и черемисами. Не пускают их в Нижний, а пустив, облагают данью, кою взыскивают насильно, батожьем, себе на кормленье. Охима сердито закончила:
– Худо станет воеводам и волостелям, коли бушевать учнет народ… Неправда ихняя на них же и скажется…
– Ого! – усмехнулся царь. – Бойка! Пугаешь!
Охима поведала царю, как наместник принудил ее силою быть его наложницей, и о том, что не ушла бы она из Нижнего, кабы не боялась попасть в руки воеводы. Не покинула бы она своего старика отца одного, без ее помощи и заботы.
Глаза Охимы, казалось, еще более почернели, расширились от негодования, щеки разрумянились, высокая грудь ее тяжело дышала. Девушка приблизилась к царю, сложив свои руки, умоляюще и со слезами в голосе сказала:
– Покарай их, государь! Казни их! Проклятые они! Шайтаны!
Вешняков подскочил к ней, хотел оттолкнуть ее от царя, она сама с силою оттолкнула его так, что он едва не упал. Лицо Ивана стало холодным, сердитым.
– Так ли ты говоришь, не по злобе ли? Не хочешь ли ты, ради мордовской выгоды, оговорить наместника?
Охима коснулась самого больного места в государевых делах. Совсем недавно утихли в Поволжье бунты среди черемисов и татар. Царь много ночей не спал, проводя время либо в советах с вельможами, либо в собственных размышлениях.
Ведь не кто иной, как черемисы приходили к царю, просили его принять их в свое подданство, и вдруг… Вон и кабардинские черкесы шлют своих послов, просят принять их в русское подданство. Стало быть, они не против Москвы. В чем же дело?
А бояре и Курбский князь, посланные для розыска и судных дел, винят во всем народ, самих татар и черемисов. Заодно с боярами и мурзы, и купцы татарские, многие князи и купцы черемисские… Винят свой же народ! С их рукоприкладством бояре грамоты привезли. А в тех грамотах под клятвою по мусульманской и языческой вере сказано, что-де виновен сам простой народ. И что зря, мол, царь освободил его от пошлины и всякой государевой тяготы.
И вот простая девка, мордовка, винит именно бояр и воевод, стало быть, и Курбского. Кому верить? Мордовку посчитать за лгунью? Но сам хорошо помнит, как и мордва, и черемисы помогали ему в Казанском походе. Они даже спасли его от смерти.
Охима, как бы угадав мысли царя, еще более горячо, еще громче сказала:
– Отсеки мою головушку, царь-батюшка, коли говорю неправду… У меня был мой любимый Алтыш Вешкотин… На царевой воинской службе он ноне… Что скажет Алтыш? Кто не знает, что воевода держал меня в своем терему? Нехорошая я! И не скрою того теперь я от своего Алтыша… Расскажу ему всю правду… Пускай лучше убьет он меня, нежели мне обманывать его!
Царь задумчиво спросил:
– Имя твое?
– Охима.
– Не страшись, не убьет! – и, обратившись к Вешнякову, царь приказал: – Поставь на работу ее к Федорову… Окрестите. Язычница она.
Царь спросил Андрейку:
– Твое имя?
– Андрейка Чохов, батюшка-государь, отец наш родной! – ответил парень, став на колени. – Добрый наш государь!… Хочу пушки лить! Помоги умудриться ратному огневому делу.
– А ты?
– Герасим я, Тимофеев… Будь милостив, батюшка-государь! Тож хочу быть ратником…
– К дьяку Ивану Юрьеву веди! – произнес царь. – Посадить на воинскую службу, но не в одно место… Тому, – царь указал на Герасима, – под рукою Воротынского… на рубеж. А того – на Пушечный двор… Учините всем им расспрос в приказе. А за побег из вотчины накажи смердов батожьем, чтоб не бегали самовольно из поместий, не чинили непослушания господам… Смерд должен знать свою меру.
Парни, стоя на коленях, смиренно выслушали слова царя.
Иван подошел к Охиме, погладил ее по спине:
– Тебе ли унывать? Ишь ты! Крепка! Никак не ущипнешь…
И, обратившись ко всем, ласково сказал:
– С Богом! Служите честью! Не имейте зла на своих владык! А ты, Игнатий, накажи и накорми их, да сведи к протопопу… Пускай покаются во грехе… самовольства, очистят душу от злобы против господ…
Тем и кончилась встреча нижегородских беглецов с царем.
После свидания с нижегородскими беглецами царь Иван, войдя к царице, сказал с хитрецой в глазах:
– Слушай! Коликия бы досады ни чинили мне наши честолюбцы, а не одолеть им меня… Когда умру я – погубленный врагами, силою аль по-христиански, своею смертью, – держава моя тверда будет и нерушима. Немало верных людей у меня, новых, дерзких, готовых сложить голову за царя. Один звездочет-мудрец сказал: «Что бы ты ни делал, распознай – сколь полезно то земле твоей». Вижу, что народился я Божиим изволением на царство… И что в делах моих его воля, ибо иду я правильным путем.
Царь рассказал Анастасии Романовне о беседе своей с колычевскими холопами, о том, на какую работу посадил он их.
– Любо слушать дворянина, но не грешно царю послушать и мужиков. Монахи, странники, иноземцы и всякие челобитчики сказывают о великих неправдах в моем государстве, знаю… Посылаю бояр для розыску и спросу в дальние грады и села и николи не нахожу правды в их доношениях. Теперь буду посылать по деревням не бояр для сыска, а иных людей… Опричь них. То будет ближе к правде, как вижу я… Бояре Колычева прикрыли бы, а Васька Грязной не пожалел боярина… Чую, наплел чего и не было, – усмехнулся царь, – но се же открыл глаза мне на многое…
Сел в кресло и несколько минут сидел, оцепенев от нахлынувших на него мыслей. Потом сказал:
– Все изменить надо, но не легко то! Надо обождать… Опасно уподобиться Самсону, повалившему столбы капища и похоронившему себя под ними.
Лицо его покрылось красными пятнами, глаза заблестели мрачным торжеством, и несколько раз он тихо прошептал: «Опричь них».
Заплакал царевич Федор. Из соседней горницы прибежала мамка.
Иван встал с кресла, подошел к люльке, склонился над ребенком, потрепал за ручонку: Мамка стала пеленать ребенка. Иван помог ей… Пришла кормилка, села около у царицы. Анастасия требовала, чтобы ребенка кормили у нее на глазах, в ее опочивальне.
Царь в хорошем расположении духа вышел от царицы.
* * *
Глубоко в подвале, под царским дворцом, помещался пыточный каземат, обложенный камнем, тщательно выбеленный, чисто подметенный, с изображением на стене громадного глаза, неотвязно следившего за каждым, кто находился здесь.
В одном углу широкий горн, таганы. В другом – дыба. На особых полках – в порядке размещенные сковороды; ременные, с железными набалдашниками, бичи; железные когти, круто изогнутые, острые, ярко начищенные кирпичом; разных калибров клещи, серые от постоянного каления, и множество игол для вонзания под ногти; кожи, пилы.
Все это содержалось с явной заботливостью и усердием.
Высокого роста, сплошь бритый, безусый, безбровый кат[23], вывезенный из Литвы, по-хозяйски прибрался в застенке, ожидая прихода царя. На нем новая желтая рубаха и кожаные штаны, засунутые в красные сафьяновые сапоги.
Не торопясь он разводил огонь под одним из таганов.
В темном коридоре, недалеко от пыточного каземата, слышится полный ужаса и отчаяния голос человека. То начальник стражи князя Владимира Андреевича. Прошлой ночью его поймали государевы люди, в то время когда он шел из Чудова монастыря с богомолья, от полуношницы. Подстерегли Василий Грязной и Вяземский со своими стрельцами.
– Эй, уймись, Божий человек!.. Нехорошо! – высунувшись из двери каземата, крикнул кат. – Чи реви, чи не реви – не поможить. Апосли накукуишься удоволь…
Коварная усмешка скользнула по лицу ката.
Вопли заключенного усилились.
Кат махнул рукой, вновь вернулся к огню.
Тепло шло от тагана, угли и железо раскалились, едкий дым щекотал ноздри, стало клонить в сон. Кат сладко зевнул.
Вдруг позади него послышался шум. Он вздрогнул, приподнялся. Из темного коридора, освещенный отблеском огня, на него глядел царь Иван, одетый в черный кафтан. На голове его была черная тафья-ермолка, усыпанная драгоценными каменьями.
Кат низко поклонился царю.
– Очнись, праведная душа! – раздался тихий, усмешливый голос Ивана.
Из темноты вышли два дюжих стрельца. Обратившись к ним и к кату, царь сказал:
– Испытаем плоть, разум, сердце и душу того холопа. Ведите.
Оставшись один, Иван вытянул из-за пазухи за цепь спрятанный под черным кафтаном крест, помолился на него, поцеловал.
– Ты если руководишь меня советом твоим, – прошептал царь, – и деяния мои приими во славу твою!
Там, в черноте подземелья, послышался дикий вой, возня.
Иван прислушался, улыбнулся. Сел у тагана, стал греть руки.
Возня и шум усиливались, и, наконец, в каземат ввалились стрельцы, без шапок, растрепанные, ведя за вывернутые руки усатого, широкогрудого человека, все лицо которого было в синяках и кровоподтеках.
Увидев царя, он крикнул задыхающимся голосом:
– Батюшка-государь, Иван Васильевич! Помилуй!
Царь сделал рукою жест, повелевающий стрельцам уйти. Они вышли, а приведенный ими узник пал ниц перед царем.
Кат с деловым видом подошел к полке, снял с нее небольшую железную лопаточку и сунул ее в горячие угли, а на таган поставил чашу с маслом.
– Поднимись, собака! – толкнул ногою царь валявшегося на полу узника.
Тот послушно приподнялся на коленях.
– Обладай! – повелительно сказал царь Иван кату, кивнув в сторону узника.
Кат мягко, на носках, подошел к трепетавшему от ужаса начальнику княжеской стражи и, приподняв его, поставил на ноги. А затем принялся неторопливо, называя его ласковыми именами, снимать с него кафтан и рубашку. Оторвав пуговицы, кат покачал головою, положил пуговицу себе в карман.
– Дай мне ее! – строго сказал царь.
Кат вынул из кармана, отдал царю, который, повертев ее в руках, сказал:
– Литовская… Не наша…
Нагнулся, тщательно осмотрел одежду узника.
Кат озабоченно возился около своей жертвы.
Иван Васильевич сел на скамью, внимательно следя за действиями ката.
У начальника княжеской стражи зуб на зуб не попадал от лихорадочной дрожи. Когда он был обнажен по пояс, кат провел своей ладонью по его спине, погладил, с каким-то особым, деловым видом пошлепал по телу. И с выражением удовольствия на лице отошел в сторону, стал ждать приказания царя.
Поднялся с своего места Иван Васильевич.
– Сказывай! Веруешь ли ты в Бога, творящего чудеса, не знающего в гневе пощады и в милости исполненного щедрот?
– Верую, великий государь, верую, – еле шевеля от страха губами, прошептал допрашиваемый.
– Знаешь ли ты царя, воцарившегося на Руси Божиим изволением, единого скипетродержателя, владыку владычествующего и всеми правящего?
– Знаю, – послышался в ответ робкий шепот.
– А коли так, чего же ради ты на расправу своему князю увлек моих людей, шедших ко мне с челобитием? Стало быть, твой князь выше царя, коли он может бросать в темницы царевых рабов? Отвечай!
Глаза Ивана глядели в упор на княжеского холопа.
Царь выхватил из голенища плеть и с силой ударил ею княжеского стражника по лицу.
– Ты молчишь! Окаянный льстец! Подобно своему хозяину, упрятал ты змеиное жало… А кто того не знает, что спрятанное жало – горчайшее зло, оно жалит, когда к тому случай явится. Ну, мы не будем того ждать. Вырвем жало, покудова оно не вышло наружу:
И, кивнув головой кату, царь сказал:
– Тронь!
Кат спокойно вынул из огня раскаленную железную лопатку и приложил ее к плечу узника:
Дикий вопль огласил подземелье. Пытаемый вцепился в одежду ката, оттолкнул его к стене.
– Стой, собака! – громко крикнул царь. Лицо его, красное от отблеска огня и волнения, перекосилось злобою. – Не шевелись! Отвечай! Кто бывает у твоего князя и о чем болтают!
– Не ведаю, государь! – простонал узник.
– Может стать, тебе неведомо, и кто велел тебе захватить колычевских мужиков?
– Матушка-княгиня Ефросинья, она… она… посылает нас! Князю то неведомо.
Иван некоторое время стоял в раздумье. Видно, что он доволен остался ответом своего пленника.
Кат суетился около огня, нагревая большие железные когти.
Видя это, узник снова завыл, прижавшись к каменной стене.
Нахмурив брови, Иван Васильевич стал внимательно следить за выражением лица узника, который снова повалился на пол, стал умолять царя помиловать его.
– Отвечай, кто из бояр и князей наибольшие доброхоты князю Володимиру?
– Князья Репнин, Ростовский, Курлятев, Телятьев… А о чем болтают, нам немочно знать… В хоромы нас не пущают…
– Станешь ли ты на мою сторону, чтоб служить мне верою и правдою, коли я помилую тебя?
– Стану, батюшка-государь, стану, по гроб буду верен тебе, – со слезами на глазах принялся креститься пытаемый.







