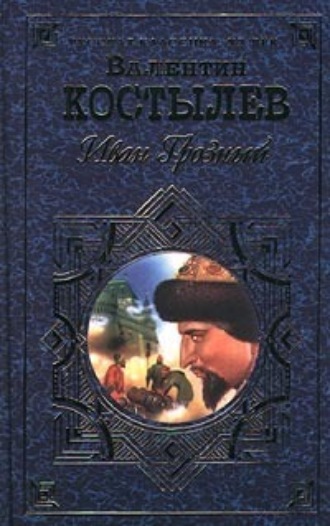
Валентин Костылев
Иван Грозный. Книга 1. Москва в походе
Солнце, громадное, красное, пряталось вдали за лесами. Жар свалил. Стало легче дышать, веселее – к делу ближе!
Войско расположилось на пушечный выстрел от городских стен. Со скрипом и шумом бревенчатые махины движущихся осадных башен окружали город. Каждую везли лошади, запряженные попарно шестерней. На место валившихся от пуль и стрел коней тут же быстро впрягались новые, на место убитых и раненых конюхов и возниц тотчас же вылезали «из нутра» новые люди, втаскивая павших во внутреннее помещение башни и заменяя их.
Вышел приказ вдвинуть в прогалины между осадными башнями пушки.
Андрейка, соскочив с коня, горячо принялся за дело.
– Дай Бог нам попировать!.. Веселей!.. Веселей!.. Семка! Гришка! Эй, парень! Вологда!.. Ну, ну, бери ядро!.. Тащи земли! Мало ее! Рой мечом! Глубже, глубже! Насыпай! Так! Подноси зелье! Готовься!.. Бога хвалим, Христа прославляем, врагов проклинаем! Эй, ребята, не зевай!.. Бей в стену, вон, где помелом машут!.. Туда их… мышь!
У самых ног Андрейки упала стрела.
– Ишь ты, дьявол! – усмехнулся он. – Ну-ка, за это я его!
Андрейка навел пушку на то самое место стены, откуда стреляли по его пушкарям. Заложил огненное ядро, приставил фитиль.
– Эй, лыцарь, закуси губу!.. Прикуси язычок! Хлоп!
Раздался выстрел. Андрейка пригнулся, красный, потный, стал вглядываться вдаль. Ядро сбило верхушку стены, а вместе с ней посыпались вниз и ливонские стрелки, только что обстреливавшие пушкарей.
– Прощай, Агаша, изба наша! – с торжествующей улыбкой осмотрел пушкарей Андрейка. – Стену на том месте надобно до подошвы пробить… Довольно ей на земле стоять. Ну-ка, Семка, валяй первым, потом Гришка, посля ты, друг Вологда! А уж за вами и я! Мне – что от вас останется. Я не жадный.
Вскоре пришел наказ воеводы сбить городскую башню, откуда особенно метко стреляла пушка, побившая многих ратников.
Андрейка с товарищами общими силами перетащили свой наряд на новое место. Быстро обосновалась Андрейкина десятня и здесь, хотя неприятельские пушки и бросали ядра совсем рядом с московскими пушкарями. Андрейка даже похвалил ливонских стрелков: «Видать, тут народ знающий… Таких стоит и погладить!»
С этого дня началось состязание Андрейкиных пушек с ливонскими. Бороться с ними было трудно. Башня толстая, крепкая, и пушки и пушкари укрыты в бойницах, а Андрейка со своими товарищами как есть на виду – в открытом поле.
«Гуляй-города» и осадные махины кольцом обложили Нейгаузен. С каждым днем осады это кольцо все суживалось, и осадные башни двигались все ближе и ближе к стенам города.
Ливонские воины под рукою командора Укскиля фон Паденорма защищались с отчаянным упорством и храбростью. Их было мало, всего шестьсот человек, имевших оружие, но они отважно выходили из городских ворот и дрались насмерть.
Петр Иванович Шуйский и Федор Иванович Троекуров хвалили командора и его воинов.
– Вот бы все были таковы, – говорил Шуйский, – веселее бы нам воевать! Гляди! Гляди! Какие петухи!
Воеводы близко подъезжали на конях к крепости, любуясь храбростью защитников Нейгаузена.
Андрейка, не щадя своей жизни, храбро и без устали изо дня в день бил из пушек по упрямой башне.
* * *
Следующая ночь была тихой. Накануне сильно утомились московские ратники. Ливонцы тоже приумолкли – может быть, сберегая снаряды, может быть, выжидая, не уйдет ли московская рать дальше.
Из оврагов повеяло освежающей прохладой; сразу легче, бодрее стали чувствовать себя люди. Несмотря на усталость, многие из них уселись на траве около своих шалашей и стали мирно беседовать, вдыхая свежий воздух.
Ярко светили звезды.
Никита Борисыч подстерег и зазвал к себе в шатер Грязного.
– Полно нам с тобой дичиться, Василь Григорьич!.. Где лад, там и клад и Божья благодать, – приятельски похлопывая Грязного по плечу, сказал Колычев. Лицо его было приветливо.
На сундуке ярко горела толстая восковая свеча, красовался кувшин с вином, еда.
Грязной, тихий, почтительный, помолился на икону, низко поклонился боярину.
– Мир дому твоему! Да нешто я дичусь? Господь с тобой, боярин! Устал я. Рубился гораздо. Э-эх, жизнь, жизнь!
– Милости прошу, Вася! Уж и до чего глаза мне твои по душе! Тебе бы девицей надо быть, а не мужиком и не таким храбрецом. Ай, какие у тебя глаза! Огонь! Ей-Богу, огонь! А какие кудри! А зубы! Зря ты в бою лезешь вперед. Такой молодец, как ты, тысячи иных молодцов стоит. А убьют тебя либо пулей, либо стрелой, тогда такого-то уж и не сыщешь.
Грязной сконфуженно потупил взгляд, усаживаясь на маленькую дорожную скамью у сундука.
– Таков я, добрый боярин, каковым меня матушка, царство ей небесное, родила, каковым Господь Бог батюшка создал… Любо и мне, милостивый боярин, что ты не погнушался мной и как равный с равным беседуешь одинаково.
– Не попусту тебя похваливал при боярах батюшка государь Иван Васильевич… Сто́ишь!.. Ты стоишь!..
– Служу ему, боярин Никита Борисыч, нелицеприятно, как верный слуга… Ино саблей, ино лётом, ино скоком, а ино и ползком.
Оба рассмеялись.
– Так-то оно и лучше, особливо ползком. Батюшка-царь такое любит… – сказал Колычев и тяжело вздохнул. – Кто ныне мал – завтра велик будет, а ныне велик – завтра мал будет. Видно, Господом Богом так установлено. Времечко все меняет, переиначивает.
Василий Грязной тоже вздохнул.
– Страшно из малых-то в великие! Ой, страшно! Много дается, так много и спросится… Не задаром! Да и всегда ли счастлив малый, будучи возвеличен?
Никита Борисыч налил вина в две больших сулеи.
– Ну-ка, выпьем во здравие отца нашего государя Ивана Васильевича!..
Выпив вино и обтирая платком усы и губы, Колычев вздохнул.
– Сочувствую. Коли плавать не горазд, как сунешься в воду, чтоб переплыть Волгу либо Оку? Реки большие, глубокие, надо одолеть. Так и всякая власть. Коль силы нет, коли нет большого понятия, – как ни возвышайся, все одно, при больших делах, утопнешь. Ну-ка, выпьем еще, Василий Григорьич, за победу над рыцарями! Чтоб нам завтра взять сей замок!
Грязной опорожнил сулею с явным удовольствием, даже причмокнул.
– Ого, Вася! Любо пьешь, скакунок, любо! За царевым столом многих осилил бы. Что за человек! И в бою храбр и в вине уместителен. Бог не обидел тебя талантом.
– Хоть и незнатный наш род, а питием не обижены. На что и жить, коли не пить! – улыбнулся Грязной, перекрестив рот.
Колычев, разжевывая рыбу, усмехнулся:
– Не смеши! С тобой тут подавишься еще! Ей-Богу, подавишься! Будь я царем, первым бы вельможею тебя сделал. Бес с тобой! Будь ты тогда у меня первым! Наплевать! Все одно! Люблю я, Вася, таких, вот как ты, бедовых. Да что говорить, Иван Васильич достойных не обижает… найти умеет. Его не проведешь. Лестью не обманешь. Пей еще! Запасено у меня винца-леденца на всю войну.
Василий теперь уже сам осторожно налил вина из кувшина в обе сулеи.
– Ласкатель – тот же злодей, – сказал он, подавая кубок боярину. – Подобно гаду под цветами, умыслы ласкателя укрываются под словами, приятными, умильными. Далек я от батюшки-царя, родом не вышел, чтоб за одним столом с ним бражничать, а так думаю, что Бог его охраняет от льстецов…
Колычев удивленно уперся в своего собеседника мутным взглядом. Его брови поднялись на лбу, как рога. В голове мелькнуло: «А сам-то ты кто?»
– Думаешь, охраняет? – тихо, глухим голосом спросил он.
– Охраняет! Никого мы не видим, чтоб его обманывали да лестью оволакивали. Честные, прямые люди около него. Вот бы хоть ты, боярин, – все бросил, ото всего отказался, а на войну пошел.
– М-да!.. Правильно говоришь! – задумчиво промычал Колычев, разглаживая бороду. «Сукин сын, как врет, как врет!»
– А про Курбского князя, либо Адашева, либо отца Сильвестра скажу прямо: это первые люди, самим царем за дородство и за честь выдвинуты, и служат они царю нелицеприятно, по-Божьи, как и всем служить надо.
Колычев недоумевал. Он ждал, что Грязной под хмельком будет порицать сторонников Сильвестра и Адашева, а он и пьяный их хвалит. «Стало быть, – решил про себя Никита Борисыч, – надо хулить их». И он, причмокнув, покачал головой:
– Хороши-то они хороши, советники государя, да тоже… как сказать, хоть бы и про отца Сильвестра – постригся кот, посхимился кот, а все – кот. И поп, как был попом, так им и остался… У него свой закон: по молебну и мзда. Возводит в сан и чины простым обычаем тех, кто ему угодлив да полезен. За что он тащит в великие люди Курлятева?! Скажи, Вася, токмо не криви душой. Смотри у меня! Говори прямо! Не люблю я лукавства! Сам честен и прям, так хотел бы, чтоб и люди все были такими же. О Господи! Как душа истосковалась о правде!
Грязной опять взялся за кувшин. Налил. Перекрестился.
– Вот тебе, батюшка Никита Борисыч, крест! Когда же я кого обманывал? За прямоту, за совесть я и страдаю. Спроси мою жену, супругу мою верную. Лучше камень бы на шею я надел да в воду канул, нежели неправду сказывать либо обманывать кого.
Колычев замахал руками:
– Верю! И так верю! Не крестись! Жены нам не указ. Ты видел мою, когда был у нас? Видел?
– Плохо что-то помню. Да как можно нашему брату на боярынь глядеть? Не осмеливался я…
Колычев тяжело вздохнул, сумрачно склонившись над крепко сжатым в ладони кубком.
– М-да! Жена! Агриппинушка!.. Чай, с тоски обо мне там теперь высохла!.. Любит она меня, а уж как верна, предана мне! Если б не эта проклятая война, никогда бы я не спокинул ее. Дите ведь у нас должно народиться… Дите! Чудак! Не понимаешь ты! О, скоро ль кончится сия проклятущая война!
– Да, от войны сей многие учинились несчастья! – вздохнул Грязной.
– Ой, не говори! – с досадой махнул рукой на него Колычев. – Не говори! Пагуба она для нас, для русских… И что вздумалось батюшке…
Колычев сильно закашлялся.
– Пагуба? Стало быть, Никита Борисыч, попусту государь воюет Ливонию? Не так ли? И я так думаю – успели бы…
– Успели бы, сынок!.. Отдохнуть бы надо. Пожить бы, повеселиться, а уж коли руки чешутся, колотить бы нагаев либо татар. Все бы легче было, чем с немцами! Бог с ними со всеми и рыцарями! Без них тошно жить на белом свете. А уж коли войны-то не было бы, разугостил бы я тебя в ту пору, как бы я тебя ублажил! Господи!
– Так-то. Стало быть, боярыня сынка должна тебе принести? – засмеялся Грязной, снова наливая вина. – В таком деле испить надобно чарочку за будущего сына… за отпрыска именитого колычевского рода!..
Василий поднял свою сулею.
Колычев, чокаясь с ним, тихо произнес:
– Дочь ли, сын ли, за все приношу великое благодарение всевышнему!.. Не забыл он нас, милостивец!
Оба разом, с особым усердием, опорожнили свои сулеи.
– А что война? – продолжал раскрасневшийся от вина, сильно захмелевший Колычев. – Кому она в пользу? Кто ей радуется? Боярам мало корысти от нее…
– Но… царство? – робко вставил свое слово Грязной.
– А кто государство? Мы! – Колычев с гордость ударил кулаком себя в грудь. – Мы – бояре, Боярская дума…
Грязной притих, навострив уши.
– А ныне, – тяжело вздохнул, помотав головою, Никита Борисыч, – видать, мы не нужны стали… Все делает сам государь. И жалует, и милует, и наказует, и войны и всякие дела учиняет – все опричь нас… Раньше царские милости в боярское решето сеялись, теперь нет уж… Псаря своего может сделать стольником, а стольника псарем… И все без нашего ведома. Так-то не бывало раньше. Вот что, милый мой Василь Григорьич! Говорю с тобой, как с другом!.. Дай облобызаю тебя… Уж больно ты занятен, леший тебя побери! Орленок! Истинно орленок!
Колычев крепко сжал в своих объятьях Грязного. Тот покорно подчинился, сделав вид, что ему приятна ласка боярина.
– Говорю тебе, Вася, а сердце плачет… Убьют меня на войне, чую сам, а вотчину мою разорят, разграбят разбойники, мужики… Агриппинушку… Ой, лучше и не думать, что с нею учинят!.. Наливай, Вася, еще!.. Все одно. Грозен царь, да милостив Бог! А уж как меня обидел царь!.. Господи!
Грязной сочувственно покачал головой.
Колычев уставился на него слезливыми, какими-то безумными глазами…
– Клянись!.. Целуй мне крест, что никому не скажешь!
И он вынул из-за пазухи большой золотой крест и дал его поцеловать Грязному. Тот с великим усердием облобызал крест и поклялся держать слова боярина в тайне.
Колычев тут же рассказал Грязному о том, как над ним надругался царский шут, и о том, как его сам царь хотел пытать в подвале под своим дворцом.
Грязной, слушая, прослезился.
– Неужто сам царь?! Неужто у него под дворцом застенок? Да не может того быть!
– Верь мне, Вася! Ей-Богу! Не лгу! Говорю, как перед Богом!
Расстались поздно ночью, по-братски, долго обнимались и кланялись друг другу…
Но только что вышел Грязной на волю, как в шатер ввалился, тоже слегка хмельной, друг Колычева, боярин Телятьев.
– Милый! Микитушка! И ты не спишь?
– Где тут! Нешто уснешь… Всю душу разъели царевы обиды… Васька Грязной, дворцовый прихлебатель, только что у меня был. Ну и сукин сын!
– Микита! Родной! А я-то!.. А мне-то! Легко ли перенести мне обиду? Погляди на мою харю – словно сажу черт в кровь напустил. Какие пятна получились. И после этого царь меня же на простого мужика променял. Ты хоть за боярский круг снес обиду, что тайны боярской не выдал, а я за что? Ведь и меня царь хотел убить… Спать я не могу, как вспомню то проклятое ядро, что царь-батюшка на верную погибель мне, боярину, зарядить в пушку велел… Нешто он не знал, что разорвет пушку? Знал. Заведомо велел зарядить, чтоб меня убило… А холопа деньгами одарил… За ребра бы его, на крюк нужно было вздернуть, сукиного сына, а царь его ефимками наградил… А? Ну не обидно ли это? Князь Курбский за меня тогда заступился! Будто бы велел холопа выпороть…
Колычев, слушая друга, заснул. Голова его низко опустилась на грудь. Мясистые губы вылезли из-под усов; пьяный, дремотный шепот повис на них.
Телятьев, вытирая ладонью потное, слезливое лицо, продолжал:
– Чем мне успокоить душу свою? Убить того холопа, благо он здесь, в войске? Заколоть его невзначай, коли случай к тому явится? Помоги мне, Господи, покарать раба злого, недоброго, яростию хищною увитого! Зачем ему после такого греха жить на белом свете? Уж лучше боярин пуская живет, нежели подобная тварь! Господи, услыши молитву мою! Микита, да очнись! Доброе дело я задумал! Слушай! – дернув за рукав спящего Колычева, крикнул Телятьев. – Казнить я задумал того парня царю наперекор… Лучшего пушкаря его, им одаренного, в могилу свести… Микита!.. Вот-то будет дело… Убью пушкаря, ей-Богу! Подкуплю бродяг… Слышь?! Пьяный осел!
Но напрасно Телятьев дергал то за рукав, то за бороду своего приятеля, – не просыпался! Зато притаившийся около шатра Василий Грязной слушал боярина Телятьева с великим вниманием и удалился только тогда от шатра, когда захрапели оба боярина.
* * *
Следующая ночь была страшной.
С утра воздух, пропитанный густым, словно раскаленное масло, зноем, душил – нечем было дышать. К вечеру все небо закрыла громадная иссиня-бурая, чешуйчато-слоистая туча. Вдруг потемнело кругом. Налетел ураган с востока, с песчаной стороны, срывая шатры, поднимая в воздух не только полотнища, сено, солому, балки и доски, но и телеги со всяким добром, разметывая все это по полю. Под напором ветра валились набок осадные башни, роняя пушки и пищали. Глаза слепил песок, носившийся чудовищными воронками по полям и взгорьям. Кони бешено срывались с привязи и в испуге бежали из лагеря.
Затем хлынули потоки ливня, заливая орудия, топя в глубоких лужах ящики с зельем, ядра, пронизывая насквозь одежду людей.
В стане московского войска произошло замешательство. Этим воспользовались укрытые в бойницах ливонские пушкари и стали без умолку палить по московскому лагерю. Каменные ядра падали в лужи, обдавая ратников мутными гребнями воды и грязи. Огненные ядра с зловещим шипением шлепались в мокроту трав, медленно угасая. Ко всему этому прибавилась гроза. Молнии давали возможность сидевшим в башнях ливонцам метко пристреливаться к наряду и обозам. Оглушительные удары грома подавляли все: и грохот пушек, и крики людей, и вой сторожевых псов, и ржанье коней – все это было сметено, придушено ревом небесной стихии.
Насквозь промокший Андрейка и его товарищи ловили доски в потоках луж и покрывали ими свои пушки, ложась на орудия и на обмотанные полотнищами ядра и ящики с зельем, чтоб помешать ветру и дождю. Вдруг при вспышке молнии парни увидели мчавшихся верхом двух всадников, как будто бы один гнался за другим. Показалось Андрейке, что один из всадников упал наземь, а лошадь поволокла его по земле. Быстро соскочил парень с места, оставив свой наряд на товарищей, и побежал шлепая по мокрой траве, туда, где упал всадник. Опять блеснула молния. Андрейка ясно увидел человека, распростертого на земле. Шлем с него был сбит и валялся невдалеке.
– Господи Иисусе! – прошептал Андрейка, склонившись над лежавшим на земле человеком. При свете молнии рассмотрел он кровь, сочившуюся изо рта этого человека, борода его тоже слиплась от крови. Андрейка окликнул проходивших мимо двух воинов. Подняли лежавшего без чувств латника, понесли к воеводам в шатер; по одежде можно было опознать в нем человека знатного рода.
Присмотревшись к нему во время молнии, Андрейка остолбенел:
– Ужель боярин?
– Какой боярин? – спросил кто-то из ратников.
– Колычев!.. Он и есть!..
Андрейка достал баклажку с водой, обмыл на ходу лицо боярина, влил ему в рот воды.
– Господи! Ужели убился? – В голосе Андрейки слышались слезы.
Вошел с фонарем в руке князь Курбский, нагнулся над раненым.
– Никита Борисыч! – Курбский снял шлем и перекрестился. – Никак кончается? Голова рассечена. Не то острым камнем, не то саблей…
Андрейка рассказал, как было.
Курбский спросил, не помнит ли Андрейка, кто был тот, другой всадник: наш или немец?
Андрейка ответил, что он не разобрал – кто.
Курбский принес из шатра флягу с вином, влил немного вина в рот боярину. Тот слегка зашевелил губами.
Андрейка спохватился: ведь ему надо скорее бежать к своим пушкарям. Помолившись, он стремглав побежал прочь.
* * *
На двадцатый день осады башня была сбита. Мало того, Андрейка со своими пушкарями пробил стену, а туры подошли совсем вплотную к городским укреплениям, и стрельцы стали метко из-за них обстреливать внутренность города.
Жители в ужасе побежали в замок. Улицы опустели. В ворота хлынули московские воины. Теперь оставалось взять самый замок.
Начался обстрел последнего укрепления Нейгаузена.
Тридцатого июня с утра толпы московских ратников, неся на головах мешки с песком, лестницы, прикрываясь железными щитами, с криками, с звоном, лязганьем железа двинулись на штурм города. Пешие и конные полки ощетинились целым лесом копий и буйным потоком стали наседать на городские укрепления. Ужасающим шквалом обрушился на внутренний город, на замок огонь многочисленных русских пушек. В городе начались пожары.
В полдень Нейгаузен был взят.
Вечером из замка, охраняемый стрельцами, на своем боевом коне, в одежде простого воина, выехал командир Укскиль фон Паденорм. Голова его была обвязана полотенцем.
Стоявшие по бокам дороги у замка русские воины и воеводы молча пропустили Укскиля со свитой, оставив им оружие.
Все жители Нейгаузена, не присягнувшие московскому царю, получили разрешение идти, куда пожелают.
В скором времени замок был занят отрядом стрельцов.
Андрейка торжествовал. Наступили дни передышки. Он и несколько его товарищей вздумали съездить за водой для пушек на реку. Взяли с собой кожаные мехи и помчались к небольшой речке, впадавшей в Чудское озеро.
По дороге вдруг навстречу им из леса выбежала в изорванной одежде, с растрепанными волосами женщина, одна из тех горожанок, которые были отпущены воеводами на волю. Она кричала что-то непонятное пушкарям, указывая на лес.
Пушкари помчались туда.
На одной из полян они увидели много женщин, бежавших без одежды, а тут же на траве каких-то ратников, свертывавших одежду этих женщин в узлы.
– Эй вы, ироды! – крикнул Андрейка. – Где ваша совесть?
Воры оглянулись. И первый, кто бросился в глаза Андрейке, был Василий Кречет. Он зло посмотрел на пушкарей, выхватив из ножен тесак. Андрейка подскочил к нему и со всей силой ударил его кожаным мехом по голове, так что Кречет покатился по земле. Поднявшись, он снова бросился на Андрейку. Тогда Андрейка выхватил свою саблю и рубнул ею Кречета. Тот упал, обливаясь кровью.
Остальные воры разбежались, кроме одного, которого схватили пушкари. Он рассказал, что Кречет подговорил их ограбить выпущенных на волю горожан.
Одежда была возвращена женщинам, а раненого Кречета один из пушкарей, по приказанию Андрейки, взвалил на коня и повез в стан.
Вечером в стане к Андрейке подошел его сотник, дворянин Анисим Кусков, и сказал, качая укоризненно головой:
– Что я тебе говорил? Не всяк, кто простачком прикидывается да мужику поддакивает, истинный друг. Вором я посчитал его, вором он и явился.
Андрейке не понравился торжествующий, злорадный смех Кускова.
– У всякого чину по сукину сыну, – сказал он в ответ Кускову усмешливо. – Хорошо без худа не живет. Всяко бывает. Всякий народ и доброму делу служит… Не вдруг разберешь!
Кусков отошел прочь…
Колычев умер. Мерлушка-гробовщик вырубил колоду. Хоронили со знаменами на кладбище вблизи Нейгаузена. Никто не пролил ни слезинки, кроме Андрейки. Что такое с ним приключилось, он сам не мог понять. То ли своя горькая жизнь припомнилась, то ли совесть мучила – грешил ведь против покойника, ругал его, царю на него жаловался, судил, обманывал в вотчине – не поймешь!
– Слабое сердце у тебя, богатырек! – шутя сказал ему на обратном пути с кладбища пушкарь Корнейка.
– Ничего ты не знаешь! – вздохнул Андрейка.
Теперь грустные мысли его были о боярыне Агриппине. Она там живет одна. И ему, Андрейке, никак нельзя уйти из войска, чтобы поведать ей про смерть ее супруга. Долго ли теперь обидеть бедную вдову лихому человеку?
В своей печали Андрейка забыл даже об Охиме.
Вернулся в стан, вышел за околицу, стал на колени и давай молиться о боярыне Агриппинушке, чтоб никакой лихой человек до нее пальцем не дотронулся, чтоб от пожара она не сгорела, от дикого зверя худа не получила, чтоб никакого недуга на нее Господь не наслал, и заговоров и колдовства чтоб на нее никаких не было, и тоска ее в одиночестве не изводила бы, и змея бы ее в лесу не ужалила.
Андрейка задумался, а затем, почувствовав, как солнце припекает ему голову, шею и спину, поклонился до самой земли, стал кстати молить Бога о дожде и о том, чтоб Бог надоумил его, как такую пушку отлить громадную, от которой все крепости разом бы пали.
Молился до тех пор Андрейка, пока его сзади не шлепнул по спине Корнейка. Скуластое, монгольское лицо его было потное, красное. Он только что через силу напялил на себя кольчугу. Она была ему не по росту, крепко стягивала плечи, сжимала бока, резала под мышками.
– Вставай, пятница, середа пришла! – весело смеясь, остановился он около Андрейки.
Корнейка сделал страшное лицо и глухо произнес:
– Воеводы поднялись!..
И не успел он сказать еще что-то, а уж полковые трубы возвестили сбор.
Андрейка быстро вскочил и побежал в стан.
Даточные люди озабоченно суетились около обозов, впрягали коней, свертывали шатры, седлали скакунов для своих начальников, взваливали чаны, кадушки на телеги. Воины разбирали составленные горою копья и рогатины, перебрасываясь веселыми шутками и прибаутками.
Пушкари сошлись у своих телег с пушками. Осматривали орудия, заботливо протирали, смазывали их.
Зелейные приказчики осторожно устанавливали на телегах, наполненных сеном, бочки с зельем, обкладывали их снаружи мокрыми кожами, старательно со всех сторон укрывая зелье от палящих лучей солнца.
Снова заскрипели, завизжали колеса. Высокие движущиеся башни тихо покачивались с бока на бок; из оконниц выглядывали пушки, пищали, а внутри распевали ратники.
Из ворот замка выехали Шуйский и Троекуров.
Войско построилось в походном порядке. Во главе каждого полка – его воеводы. Ертоульные поскакали опять впереди всех.
Боевые трубы и рожки дали знак к походу.
Направление взято было на север, вдоль берега Чудского озера, чтоб держаться ближе к воде.
На замке Нейгаузен взвился московский стяг с двуглавым орлом. Его подняла оставленная в замке стрелецкая стража.
Решалась судьба самого важного дела, порученного воеводам Шуйскому и Троекурову царем Иваном Васильевичем, – покорение искони враждебного Москве, нарушителя взятых на себя обязательств Дерптского епископства.
Между Москвою и Дерптом сотни лет тянулась распря. А в последние десятилетия Дерпт был особенно дерзок и временами проявлял явно враждебное отношение к Москве.
По договору с Иваном Третьим, дерптский католический епископ обязывался оказывать свое покровительство православным, жившим в «русском конце» города, церкви их держать «по старине и по старинным грамотам». Но ливонские рыцари и богатые граждане, да и средний обыватель норовили всячески утеснять русское население под видом борьбы с православием. Многих русских они хватали в церквах и на улице и бросали их в темницы. Там их пытали, жгли огнем и железом. Однажды, по приказу епископа, немцы спустили в прорубь, под лед на реке Эмбах, семьдесят три человека русских, не пощадив даже матерей и грудных младенцев. Не лучше стало и тогда, когда на смену католицизму пришло лютеранство. Все это хорошо было известно Москве. Обиднее всего было то, что это беззаконие творилось в старинном русском городе, захваченном немцами и вместо Юрьева названном Дерптом. Никак не могло примириться с этим насилием русское население соседнего Псковского края, и часто оно обращалось с жалобами на ливонцев в Москву, к царю.
Дерпт много раз обещал Москве прекратить эти безобразия, но затем сам же вызывающе нарушал все свои договорные условия, заключенные с великим князем Иваном Третьим.
Поэтому, когда началась война с Ливонией, Иван Васильевич свой гнев обратил в большей степени на Дерптское епископство.
Обо всем этом, по приказу Шуйского, сотники в полках и рассказали ратникам, которые поклялись отомстить немцам за их насилия над русскими в Дерпте.
Было получено известие, что магистр Фюрстенберг, узнав о падении Нейгаузена, пожег свой лагерь и бежал из Киррумпэ.
Вскоре войско Шуйского увидело в поле большой отряд всадников с обозом.
Татары под началом Василия Грязного бурею налетели на этих всадников и гнали их до самого Дерпта. Взятые в плен немцы рассказывали, что отряд был послан дерптским епископом в помощь магистру, стоявшему в Киррумпэ, но так как магистр не захотел сражаться с русскими и отступил, то и всадники епископа решили вернуться в Дерпт. Русские захватили большой обоз с пушками, военными припасами и продовольствием и вернулись снова к своим главным силам.
Воеводы без боя взяли город Курславль, в десяти верстах от Киррумпэ. В этом городе были оставлены две сотни с двумя стрелецкими головами «для бережения!.
По пути следования войска из городков, замков, сел и деревень выходили латыши – городская беднота и крестьяне – и добровольно отдавались в подданство русскому царю. Воеводы приводили всех их к присяге. Со всеми ними обращение было дружественное, мягкое. Некоторые даже становились под знамена русского войска, желая участвовать в походе против немецких владык.
Они с радостью сбрасывали с себя свои лохмотья и лапти и натягивали на тело рубахи, тегиляи, кафтаны, а иные и кольчуги. С восхищением любовались они полученным от воевод оружием.
Русские воины охотно делились с ними и съестными припасами, шутили, смеялись, не понимая туземного языка, объяснялись жестами.
Однако все же воеводы из предосторожности не ставили их в войске скопом, а рассеивали среди русских и татар.
– Чужого не замай, но и своего не забывай! – говорили сотники русским воинам. – Береженого Бог бережет.
IV
Днем и ночью на стенах и башнях Дерпта изнывали латники епископа в мучительном ожидании появления московского войска.
Вокруг города и в предместье, между гостиным двором и замком, копались в земле оголенные до пояса, потные, загорелые русские пленники и латыши, согнанные сюда из соседних деревень. Под присмотром ландскнехтов рыли новые окопы и рвы. Особо много трудились над возведением укреплений у величественного здания собора епископа по ту сторону реки Эмбах, среди поблекших от зноя садов и огородов. Сам епископ, желтый, с мутными глазами, длинный, худой, руководил работой. Он готовился к отчаянной обороне. Сюда свозились бочки со смолою, пушки и кадки с водою, на случай пожаров.
В городе сделалось тесно, суетно. Тревога нарастала с каждым часом. Вдоль городского рва, наполненного зеленою, вонючею водою, где находились кузницы и всякого рода мастерские, расставляли пушки. Высокие, серые, узкие дома были набиты вооруженными жителями.
Лютеранские и католические церкви опустели, потускнели, сиротливо выглядывая из кущи садов и рощ. Не до них стало!
Река Эмбах – «мать рек» – плавно катила свои воды среди застроенных домами и покрытых садами и огородами берегов. Дерпт слыл крупным торговым городом. Через него с востока шли товары в Ригу и другие приморские города Ливонии. Своим богатством он славился на всю Ливонию.
Теперь торговля замерла. Население было занято одною мыслью – как бы оборониться от Москвы, как бы спасти свою жизнь.
По реке Эмбах медленно подплывали к Дерпту плоты и ладьи с оружием и продовольственными припасами из ближних замков и селений. Дерпт – важнейшая крепость – прикрывал собою путь к столице Ливонии, к Риге, поэтому Рига не поскупилась на посылку оружия и продовольствия дерптским жителям. О воинской помощи людьми пока шли только дружественные переговоры. Вельможи и купцы дерптские потихоньку ворчали на магистра, на всю Ливонию. Многие стали и обдумывать, как бы, навьючив на коней наиболее ценное имущество, золото и драгоценности, незаметно уйти из крепости в более безопасное место.
Масла в огонь еще подлили дворяне, прискакавшие из-под Киррумпэ в Дерпт с расстрепанными знаменами, на взмыленных конях и без обоза, брошенного на дороге, в добычу русским.
Прискакали, да и то не все: двадцати восьми человек не досчитались. Бегство было такое поспешное, что и не заметили они, как товарищи их попали в плен. К ним бросились с расспросами, а они отдышаться не могут, твердят, как помешанные, одно: «Москва! Москва!» А что «Москва» – толку не добьешься.
Обыватели качали головами: «Хорошего не жди!»
С глубоким огорчением в Дерпте узнали, что магистр, так много кричавший о непобедимости рыцарей, не оказал ровно никакой помощи Нейгаузену, что и сам он до крайности напуган победою русских, – недаром отступил в глубь страны, к городу Валку.
Теперь омрачились не только обыватели, но и вся городская знать. Видно, велика сила московского войска, коль сам магистр не решился вступить в бой. На всех перекрестках рыцари втихомолку осуждали своего «вождя» Вильгельма Фюрстенберга, которого прежде превозносили до небес.







