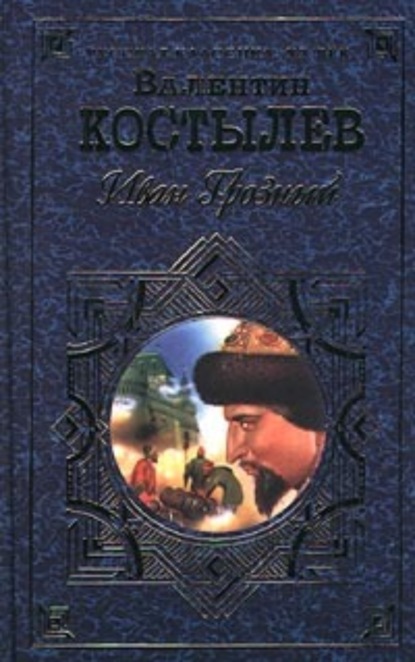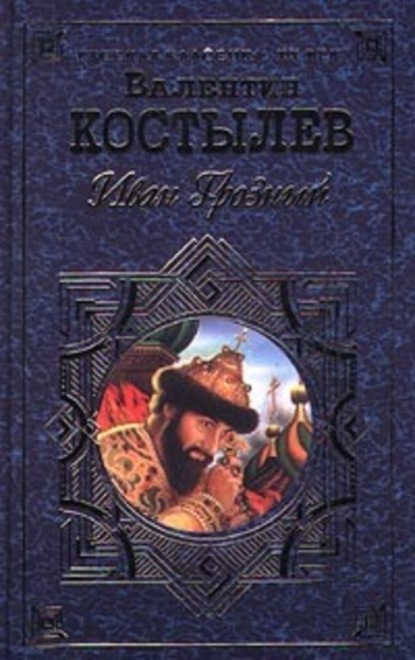Полная версия:
Валентин Иванович Костылев Невская твердыня
- + Увеличить шрифт
- - Уменьшить шрифт

Валентин Костылев
Невская твердыня

Знак информационной продукции 12+
© ООО «Издательство «Вече», 2021
© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2021
ООО «Издательство «Вече»
http://www.veche.ru
Часть первая
IЦарь Иван резким движением руки отодвинул от себя чашу с недопитой брагой. Подошел поближе к окну, прикрыл ладонью глаза от солнечного света. В колючих космах сосны, широко взмахивая крыльями, сел коршун. Он вытянулся. Настороженно обводит взглядом хвойные просторы по склонам кремлевских холмов. В горделивой осанке птицы царю показалось любование ее своим одиночеством.
«Несмысленная!» – усмехнулся царь.
Правда, и сам он, государь, приказал построить эту вышку во дворце ради того, чтобы уединяться здесь вдали от бояр, дьяков, от семьи, но разве царь московский может жить без людей?
Нет! Он любит многолюдство. Вся жизнь его протекала в бурных волнах житейского моря, в борьбе и опасностях, среди врагов и друзей, и если теперь сидит он тут один – причина тому только что случившаяся ссора с царевичем Иваном.
Праведники-схимонахи советуют стать отшельником, уйти от мира, уступив царство сыну; они говорят, что это успокоит его душу, сообщит ей радость уединенной молитвы и поста, отгонит прочь демонов гордыни и откроет путь к священным вратам рая…
Но как же так? Как оставить царство? Сегодня он, отец, вдруг поймал в упрямых, жестоких глазах сына знак горькой судьбины, ожидающей Русь после его, царской, кончины. Своенравен царевич Иван – многое творит наперекор отцу. Боярской знати и воеводам пример плохой… кое-кто ждет неустройства в царской семье. Несогласия отца с сыном должны охрабрить недовольных.
Прочь одиночество! Не надо схимы! Глупые старцы!
«По грехам моим хилое семя, не дающее всходов…»
О, эти мучительные мысли о будущем!
«Много пролито крови! Немало загублено и невинных душ!.. Церковь горько оплакивает убиенных. Горе велико! Оглянешься назад: кровавые следы устилают путь. А ведь по этому пути он явится к престолу Всевышнего. К последнему ответу!»
Но… что сделано, то сделано. Грехи не должны пугать. И не угоднее ли Богу благополучие царства?!
Что было – былью поросло, а ныне – новые заботы, новые тревоги. Достойно ли страдать о прошлом, когда силы нужны для будущего? Еще много, ой как много надо сил!
Царевич Иван убил стрелою мужика, который оборонялся от его охотничьих псов… Тайный слуга государев Семен Верзилка донес: царевич-де хмельной был и нарочно травил того мужика собаками, а в те поры, когда мужик упал, сраженный стрелой, царевич вместе с Василием Верейским, с Никифором Савицким и другими княжатами громко хохотали и даже непотребно ругались.
То же самое рассказал царю и другой его тайный холоп-соглядатай: царевич-де во хмелю безвинно обижает малых посошных людей ради потехи. И говорит: «Это вам не Иван Васильевич! Слаб стал в старости мой отец, жалостлив! Всех в страхе я буду держать, коли стану царем!»
Царевич горд, самолюбив и дерзок.
Иван Васильевич поднялся и помолился на икону.
«Прости мне мои окаянства! Сам бо есмь аз повинен в сем распутстве сына!»
Он вспомнил, как сам приучал некогда детей любоваться казнями…
Не он ли брал царевича на Красную полощадь, чтобы тот видел, как избивали до смерти бояр и заподозренных в измене чернецов Петровского монастыря?.. Да мало ли видел царевич всякого кровопролития!
И разве не он сам приказал пытать «по изменному делу» Ивана Михайловича Висковатого обязательно в присутствии царевичей? На их глазах покойный ныне Малюта отрезал подвешенному к бревнам бывшему печатнику и посольского двора дьяку Висковатому нос. Сам он, царь, со злорадством показывал царевичам изрубленные опричниками тела бояр и их сородичей.
Много раз то было, и всегда царевич Иван с веселым любопытством смотрел, как палачи пытали и казнили изменников.
«Ты – царь – не видел в том ничего плохого. Не думал ли ты, что дети твои должны приучаться быть жестокими с изменниками? От измены гибнет всякое доброе государево дело, но… мужик! Зачем его убил Иван? Царевич стал невоздержан в вине… доносят на него сенные государынины девки: покоя им не дает во хмелю… Непослушен… скучлив… нелеп в забавах… двух жен, ради своей прихоти, поощряемый тобой же, отцом, заточил в монастырь».
«И не сам ли ты, государь, был выдумщиком прелюбодейных срамных игрищ, и не ты ли был сам нелеп в этих забавах?!»
Все было! Видит сам Бог, сколь грешен царь московский!
Но зачем же лезут в голову эти мысли о былом, о том, что давно кануло в вечность? Долой их!
Царевич строптив. Его влечет к себе праздность. Его не трогает постоянное беспокойство отца о судьбе государства. Его не тянет к работе в приказах, не привлекают к себе любимые отцом посольские дела. Но так ли это? У него есть и своя мысль. Увы! Он неодобрительно судит о военных и о мирных предприятиях царя, о его стремлении расположить к Москве иноземных государей.
«Нет ничего труднее, как не работать», – говорил блаженный Августин.
Царь больше всего на свете ненавидит ленивых, а в его царевой семье старший его сын, наследник престола, праздно бродит по дворцовым палатам и лениво, с усмешкой смотрит на других, кто работает.
«Праздность равносильна погребению заживо: ленивец так бесполезен для целей Божества и людей, словно бы он мертв», – думает царь, опершись головою на руки.
Все это царю Ивану ясно; сам он никогда не сидел сложа руки и детям всегда твердит и своим приближенным, что «труд не есть бремя». Но, может быть, он слишком строг к царевичу? Может быть, многое наговаривают на царевича со злобы?
Иван Васильевич приподнялся, высунулся из окна. Коршун сорвался с вершины сосны и полетел в сторону.
Кто-то вспугнул его. Царю послышался хруст сучьев в гуще сосен.
Вглядевшись пристально вниз, царь увидел человека с луком в руке.
Он крикнул постельничего, приказав ему доставить во дворец дерзкого и безрассудного бродягу, осмелившегося стрелять в птицу на государевой дворцовой усадьбе. Да и кто знает, что у него на уме?.. За последнее время царь стал особенно подозрителен.
Вскоре неизвестный был доставлен во дворец и предстал перед царем.
Совсем молодой, голубоглазый красавец, со светло-русыми курчавыми волосами, румяный, стройный, он стоял перед царем, опустив голову, и в волнении мял шапку. Царю удалось приметить растерянную улыбку на лице юноши.
Молча осмотрел его с ног до головы Иван Васильевич. Лицо его осенила добродушная улыбка. Незнакомец, заметив это, ободрился.
– Кто ты? – тихо спросил царь. – Каким случаем попал в государеву рощу?
Постельничий крикнул:
– На колени!
Вздрогнув, поспешно опустился юноша на пол.
– Отвечай, тебя спрашивает батюшка-государь!
– Дворянин я безродный. А забрел я сюда невзначай, гонялся за коршуном… Задрал он курицу на монастырском дворе… Чернецы меня послали. Прощенья прошу, батюшка-государь, не своей волей пришел я сюда!
– У кого же ты, неразумное чадо, под кровлей живешь, и кто тебя кормит и одевает да к порядку и благочестию приучает, и како царя и князя чтить и его воле преклоняться вразумляет? Кто?
Юноша взволнованно, с молящим взглядом, обратился к царю:
– Не пытай меня, государь!.. Безродный я!..
Лицо Ивана Васильевича нахмурилось.
Опять вступился постельничий:
– Отвечай государю без утайки.
Юноша, опустив голову, безмолвствовал.
Государь удивленно пожал плечами.
– Отведи для допроса к Борису Годунову.
Постельничий, поклонившись до земли царю, взял за рукав совсем растерявшегося парня и увел его.
* * *Стиснутая со всех сторон густым еловым лесом поляна. Полдень. Солнце легло на красноватое стволье и сизо-зеленые хвойные лапы, ровными рядами многоярусно выпиравшие из толщи ельника. Пронзительно покрикивает иволга. Кружатся на солнце белоснежные бабочки. Пахнет разомлевшей от зноя смолой.
Сюда тайно собрались беглые крестьяне, предводимые Семеном Слепцовым, – мужики из усадьбы князя Шуйского.
– Теперича, братцы вы мои, – божьи мы люди, не княжеские… Довоевался наш государик… Исть народу неча стало. И то сказать – не двужильны мы… Живем – дай Бог терпенья! Юрьев день и тот Богу душу отдал!
– Знамо, Митрич, – не от радости в лес ушли: обедняли! Борода у нас с помело, а брюхо голо.
– Чего там!.. Юрьев день знатно бояре слопали. Куда ныне податься?! Вертят нами, как хотят. Словно бы и не люди мы.
– Так и этак, мои родимые, бросайте все – и айда за мной! Сведу я вас к одному человеку. Вольной жизнью заживем! Пра!
Старичок древний Парамон перекрестился, тяжело вздохнув, сказал:
– Война-то, знать… на роду писана батюшке Ивану Васильевичу… Да и без толку, Бог его прости!.. И-и-их! Помереть бы уж, што ли! Вот уж истинно: не молодостью живем, не старостью умираем.
– Чего для помирать? Пошумим еще… Жизнь трудна, а умереть тяжелее. Не для того Господь нас сотворил, штоб, не живши, помирать. Уйдем в лес.
– А кто тот человек, о коем ты нам, Семен, сказываешь?
– Иван Кольцо прозывается… бывалый, парень хоть куда! Задорный, отважный, а главное – готов голову сложить за правду. Горячий! Новый человек. Невиданный.
Двинулись мужики в чащу леса. Вожак, Семен Слепцов, впереди. На вид будто и неказистый, но юркий, веселый; был он в походах, воевал в Литве, Ливонии.
Немало всякого перевидал и однажды встретился с московским человеком, дерзким и на других не похожим.
– Земля наша добрая, крепкая, – говорил он Семену, – на ней не пропадешь, да лишку народ-то смирен, несмел, силы-де он своей не знает. Задумчив наш народ, вот и страдает. Гляди, что сотворилось! Конца света мужик стал ждать! Нешто это можно! Восстаньте! Не спите!
Он говорил Семену будто и о том, что коли царство Русское большим стало и уделов княжеских в нем уже нет, то и сила мужицкая выросла непомерно… Рязанец да нижегородец теперь одна плоть, одна душа, одна пятерня, а коли все вместе удельные мужики теперь поднимутся – грозе небесной уподобятся.
– Это надо бы вам понять, убогие овцы! Человек тот молодой, но грамотный, – сердито ворчал Семен, передавая его слова своим односельчанам, когда они начинали падать духом.
– Забавно говоришь! – отвечали ему. – Да токмо невразумительно. Мужик – птица малая, да и несогласная. Смешно! «Одна душа»! А вона вчера ясеневские дубьем поколотили сережинских. Семеро, Господь их прости, в той схватке Богу душу отдали. Вот те и «одна душа»! Согласия нет, да и не будет. Разные головы! А ты нам толчешь, как в ступе, одно и то же: «непомерная сила, непомерная сила». Буде попусту мозги наши затуманивать! Говори прямо: не под силу стало ярмо дворянское. Вот и все, а дальше мы и сами разберемся.
После этого еще яростнее, с упреками в слабости набрасывался на своих односельчан Семен Слепцов. И вот теперь он все же настоял на своем: из деревни Теплый Ключ, в вотчине князя Шуйского, почти все мужики пошли за ним в лес. Что-то подсказывало им, будто Семен и впрямь учит добру, да как-то и самим-то становилось день ото дня яснее, что от хозяина вотчины их – царского слуги Василия Шуйского – добра не жди. Чем дальше, тем тяжелее посошному люду, а царь далеко, да и не станет он на сторону крестьян… Такого дела никогда не было. Наоборот – коли поднимешь голос да на рожон полезешь, то и плетей со всех сторон не оберешься и на дыбу попадешь.
Сам Бог велел распрощаться с боярской вотчиной и уйти, куда глаза глядят.
Долго ли, мало ли шли, но в одно прекрасное утро очутились лицом к лицу с Волгой.
Семен забрался на самый высокий отрог и воскликнул что было мочи:
– Вот она, наша родная! Полюбуйтесь!
Стояли мужики и долго молча глядели на Волгу, шири и красоте ее дивуясь, а Семен, помолчав немного, еще громче крикнул:
– Не обидел меня Господь памятью. Привел вас, братцы, куда надо! К Волге-матушке! Она – заботлива.
Широкая, спокойная в своем величии древняя река подняла в людях гордые мысли. Кругом небо, зелень, вода – вот где познаешь, что не для неволи рожден человек.
Мужики обступили вожака вплотную:
– Спасибо, братец! Видим, твоя правда!
Семен рассказал мужикам, что место то, где стоят они, и есть конец их путешествия.
– Взбирайтесь сюда на бугор! Вон взгляните на ту реку, что в Волгу уткнулась. Это – Сура! Река Сура. А на горе, по ту сторону, церковь да и домишки с частоколом. То – Васильгородок. Василий, великий князь, от татар поставил. В сих местах мы и найдем Ивана Кольцо, в диком логове… малость повыше по Суре. В ямах его стан.
Народ шумно приободрился. Взглянули на Семена: лицо веселое, бедовое. Видать, не без причины. Не обманывает.
– Ну, отдохнули, кречеты? Двигаемся дальше!
Спустились по песчаному откосу к берегу Суры, побрели среди кустарника вверх по течению. Тяжеленько: сучья цепляются, ноги вязнут в грязи после дождя; устали ребята – согнулись под грузом котомок, набитых всякой снедью, опираясь на вилы, копья, посохи… Вспотели, покрылись пылью – уж скорее бы до места! На ногах пудами земля.
В темно-зеленой глади воды, когда приблизились к ней, – отражение облаков, застывших на ласково голубом небе. Зашлепала крыльями стая журавлей, поднявшись в воздух. Кругом пышная, вспоенная дождем зелень. На том берегу Суры вековые дубы и вязы – глухо! Птицы слабым писком дают о себе знать. Как-то особенно тиха и задумчива природа.
Слепцов, то и дело оглядывая свою ватагу, приказывал соблюдать величайшую осторожность. Васильский воевода начеку, кругом города стража – ждут нападения казанских татар и черемисов. Казанское царство хоть и покорено но еще немало татарских князей, не признающих власти московского государя. И выходит: опасайся и воевод и татар! Хоронись в зеленях с умом, без шума.
Почти с головой скрываясь в высоких травах и кустарниках, пробираются по берегу Суры мужики; там, в деревне, остались одни женщины и дети. Тяжко было бросать их на поругание княжеских холопов Шуйского. Но, может быть, удастся вернуться и силою отстоять справедливое дело?!
Едва слышно шуршит трава. Над головою кружат многоцветные бабочки и стрекозы. Колышется от легкого дыхания ветра серебристая листва прибрежных осин. Ивняк склонился над рекою, касаясь остроконечными листьями воды.
Густые заросли полны влаги: тут и роса, и непросохшая сырость от дождей. Лапти не выдерживают, промокают. Дурманит головы пьянящий запах прелых корневищ.
– Скоро ли? Сема, друг, помилосердствуй, ноги ведь отваливаются!.. – опять начался ропот.
– Потерпите, братцы… не тяните, ради Бога, душу! – озабоченно озираясь по сторонам, отвечает Слепцов. – Сам знаю.
Несладко ему! Обузу принял на себя великую. Легко ли поднять на ноги деревенских мужиков, чтоб добыть им свободу и справедливую жизнь? Не попасть бы впросак?! Лучше уж смерть, нежели стать обманщиком своих односельчан.
Но нет! Тут он, Семен, уже раз побывал и место запомнил отчетливо, и не может того быть, чтобы не нашел он гнезда атамана Ивана Кольцо. Не на день и не на два поселился на Суре лихой донской казак. И собирает он мужицкую рать не для забавы и не ради пустошной затеи, а для блага самих же посошных людей.
* * *Широко распахнув свой голубой атласный кафтан на малиновой шелковой подкладке, сидел в своей палате румяный, веселый Борис Федорович Годунов – любимый государев слуга, – внимательно выслушивая исповедь приведенного к нему по приказу царя неизвестного парня.
Вся внешность Годунова, тщательно расчесанные кудри, подстриженные борода и усы, красиво сидевший на его стройном стане кафтан – все говорило о мужественной молодости, самостоятельности и порядливости царского слуги.
Юноша чувствовал себя в его присутствии бодро, и в ровном спокойном голосе его звучала подкупающая своею простотою, ничем не стесняемая правдивость.
– Люди добрые говорят – родом я из Заволжья… и боярская кровь течет во мне… Скрыли ребенком меня… Отца казнили по воле царской… Так говорят. Правда ли то, не знаю. А мою матушку-де заточили в монастырь… Сам я ничего о том не ведаю: кто и чей я, да и где она, матушка. А сохранили меня колычевские люди и отдали на воспитание инокам в монастырь. Старец один княжеского рода взрастил меня на подворье.
Борис Федорович слушал парня с большим любопытством.
– Ну а как имя твое, добрый молодец?
– Зовут меня – Игнатий Хвостов.
Годунов погладил себя по лбу, как будто что-то припоминая.
– Скажи мне, Игнатий, пошто и каким случаем ты попал на государеву усадьбу да и у кого ты ныне проживаешь?
Хвостов тяжело вздохнул:
– Тяжко мне стало жить при монастыре, да и старец тот помер, и увезли меня монахи искать счастья в Москву. Приютили на колычевском дворе, что за Земляным валом, в Березках…
– А и кто же тебя, отрок, туда послал?
– Старец покойный Феодосий не один раз мне говаривал: «Умру-де я, так иди к колычевскому двору на Москве, скажи, что старец Феодосий послал посмертно…»
Борис Годунов задумался, лицо его стало сумрачным.
– А кто же там ныне из Колычевых живет?
– Старушки две убогие… Мужиков никого нет. Приютили они меня, спаси их Христос! Добрые они.
– А Степана Колычева нет?
– Не бывало такого… Не слыхивал я.
Борис Годунов задумался.
– Не рука тебе, парень, жить у Колычевых со старухами, – сказал он, неодобрительно покачав головою. – Надобно тебе к делу навыкать, чтоб добрым слугою государю быть. В Русском царстве много дорог, иные и в трясину заведут. И велено мне батюшкой-государем поставить тебя на верный путь. Детина ты видный, да и порчи на тебе не примечаю, а из таких-то дородных детин и хорошие слуги царю бывают… Поселю я тебя у моего дядюшки, Никиты Годунова, он ныне Стрелецким приказом ведает. Будешь учиться у него, а чему – узнаешь.
– Воля государева – Божья воля… – смиренно ответил юноша.
Борису Федоровичу по душе пришелся ответ его.
– Да будет так!.. – сказал Годунов, погладив по плечу Хвостова. На щеках Игнатия выступил густой румянец, а голубые глаза стыдливо скрылись под густыми черными ресницами.
Годунов еще раз дружелюбно осмотрел с ног до головы стройного молодого красавца и сказал громко и ласково:
– Дерзай!.. Иди смело прямой дорогой… Добивайся счастья. Оно будет у тебя.
* * *В честь закладки нового пристанища на Студеном море в храме Спаса на Бору шло богослужение. Басистый дьякон Вахромей Шувалов, потрясая воздух громоподобным голосом, читал любимую царем главу из Второй книги пророка Ездры:
«О мужи! Не сильны ли люди, владеющие землею и морями и всем содержащимся в них?»
«Но царь превозмогает и господствует над ними и повелевает ими, и во всем, что бы ни сказал им, они повинуются ему».
«Если же скажет, чтобы они ополчались друг против друга, они идут и разрушают горы, стены и башни».
«…и убивают и бывают убиваемы, но не преступают слова царского; если же победят, все приносят царю, что получат в добычу, и все прочее».
«И те, которые не ходят на войну и не сражаются, но возделывают землю, после посева, собравши жатву, также приносят царю, и, понуждая один другого, приносят царю дани».
«И он один, если скажет: “убить” – убивают; если скажет: “отпустить” – отпускают; сказал “бить” – бьют; сказал “опустошить” – опустошают; скажет: “строить” – строят; сказал “срубить” – срубают; сказал: “насадить” – насаждают».
«И весь народ его и войско его повинуются ему».
«О мужи! Не сильнее ли всех царь, когда так повинуются ему?»
Иван Васильевич, за которым внимательно следили стоявшие позади него ближние бояре и иные царедворцы, думал о том, что пройдет год, два, три – и он снова поведет свои войска к Западному морю. Нет! Русь не побеждена; ее оттеснили от моря, но она оправится и с новой силой потянется к морю. Нужно поднять дух в народе. Нужна сильная власть. Студеное море поможет опять овладеть Варяжским морем. Недаром то море омывало уже в своих водах московские корабли. Так было!
В затуманившихся глазах огонек лампады сделался радужным, потянулся сначала вверх, потом вытянулся вправо и снова пожелтел, стал на место. Царь глубоко вздохнул.
Будут ли сочувствовать ему бояре, его советники, все преданные ему воеводы и дьяки, если он откроет им, что ему не хочется умереть, не укрепившись на тех берегах?! Пока об этом надо молчать, хранить тайну в себе. Теперь не время, не настал еще час возвестить свою волю народу.
Голос дьякона Вахромея гремел на всю церковь:
«…Горе тем, кои думают скрыться в глубине, чтобы замысел свой утаить от Господа, и которые делают дела свои во мраке».
Царь вздрогнул: «Не мне ли, о Господи, эти слова пророка?!»
Нет! То, что царь всея Руси таит в себе, все его замыслы – на пользу святой церкви, на благо христианской дедовской родной земли! Неужели Господь покарает его за это? Увы!
Не в том провинился он перед Всевышним! Виновен царь в бесплодном пролитии крови своих воинов. Ради чего шла эта долгая, страшная война?
Вчера он открыл наугад Библию и прочитал первое попавшееся ему на глаза место из Книги пророка Исаии:
«…как лев, как скимен, ревущий над своею добычею, хотя бы множество пастухов кричало на него, от крика их не содрогнется и множеству их не уступит…» Так и он, царь Иван, будет стоять на своем: море Варяжское – Балтийское – было и должно вновь стать русским, ибо оно с древних времен принадлежит Руси и омывает исконные русские земли. Много крови доблестных воинов было (и еще будет) пролито за Балтийское море. Но справедливое совершится!
Он, царь, несокрушимо верит в то.
Никому из следивших за царем вельмож и в голову не могло бы прийти, что царя мучают, терзают мысли о новой войне во имя возвращения утраченных в Ливонии земель…
Иван Васильевич сидел на возвышенном месте суровый, неподвижный, опершись на свой из слоновой кости посох. Голубой с малиновым шитьем парчовый кафтан облекал его высокую, немного сутулую фигуру с высоко поднятой головой. Он совсем не был похож на кающегося грешника, на человека, охваченного смятением и сомнениями. Вид царя говорил скорее о сознании своей правоты и силы. Пускай седой волос упрямо топорщится из-под его черной бархатной мурмолки, пускай морщины избороздили его лицо и явно обозначилась сутулость, – царь всея Руси Иван Васильевич одинаково загадочен и страшен для своих врагов, как то было и встарь.
По окончании службы Борис Годунов и Богдан Бельский под руки свели царя с возвышения и подвели его к митрополиту под благословение.
– Да пребывает слава и милость Господня над тобою, владыка всех владык! – проговорил митрополит, дрожащею рукою осеняя крестом лицо царя.
Возвращаясь тайным ходом во дворец, царь сказал Годунову и Бельскому, что он снова поедет на Север, чтобы осмотреть, как готовят корабли и снасти для больших переходов морских судов Беломорья. Он, царь, не оставил своей мечты удивить мир тем морским могуществом, которое вскоре обретет Русь на суровых берегах северного Студеного моря.
IIОт короля Стефана Батория пришло письмо, которое заставило крепко призадуматься царя Ивана. Баторий писал – в ответ на государево письмо будто тому, что не родился он, Баторий, королем, он теперь только радуется. Ведь достиг он королевского сана в силу своей доблести и ума. А панами избран так же строго, как избираются папы кардиналами.
На просьбу царя прислать послов Баторий ответил, что пришлет послов в Москву только через сорок лет, а может быть, и через пятьдесят, так как пока ему нет никакой необходимости в этом.
Царь побледнел от гнева. Он видел явную дерзость со стороны польского короля, однако ему показались очень любопытными слова Батория. И тотчас на его лице появилась улыбка.
– Остер на язык угорский князь! – произнес он. – Остер и разумом силен. Не знавал я ранее таких-то. Муж он необыкновенный…
Царь добавил, будто ему даже нравится, что Баторий не гордится происхождением и родом, а прямо говорит, что он получил королевский сан, как дар за труды, от польских панов. Одно смущало: стало быть, он панскую Раду ставит выше себя? Ну а если сам он, Стефан, не угодит панам, они же его могут и снять с престола? Ему надо побеждать, ему нужны удачи, чтобы усидеть на королевском троне, который он получил за усердие из рук панов.
– Когда так, – сказал царь Иван громко и твердо, – мы должны поссорить короля с панской Радой. Псков, к которому направляет свое войско король, должен стать могилой его славы, славы непобедимого! Пускай будет раскол у короля с панской Радой!
В том же письме Стефан Баторий говорил о своем праве на Ливонию и требовал громадную сумму денег на покрытие военных расходов, произведенных им на московскую войну. А покойную мать царя Ивана, Елену Глинскую, он назвал «дочерью изменника польскому королю Сигизмунду».