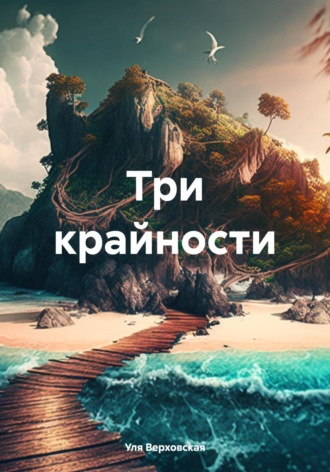
Уля Верховская
Три крайности
Love yourself to death

Я стою посреди площади, лица людей вокруг почти неразличимы. Толпа смеётся, толпа завывает, толпа бросает на меня гнилые взгляды. Я хочу убивать.
Это конец. Они знают мою тайну. Все эти «парные» смеются мне в душу. Я смотрю в зеркало. На руке пульсирует белым пламенем проклятое число «999».
Я улыбаюсь своему отражению, поднимаю пистолет и стреляю. Звук разбитого стекла заглушается хрипом сломанной жизни. Грудь пронзает коготь боли, но я терплю. Я знаю, что по-другому нельзя. Нет другого способа освободиться.
Я уничтожила единственное зеркало чуть ли не во всём королевстве. Я уничтожила себя, свою любовь и единственную слабость. А ещё свою индивидуальность. Теперь я такая же серая, как и остальные, только калека, ведь здесь мы любим лишь единожды. И больше мне ничего не страшно.
Я выпрямляюсь, чувствую, что сердце снова бьётся. Отметки на руке больше нет. Я поворачиваюсь к толпе.
– Это конец, – тихо говорю я и подбираю с земли осколок зеркала, в котором больше не вижу ничего, кроме бледной, чужой женщины со ссадиной на щеке.
* * *
Я долго не могла найти свою любовь и своё счастье. А если верить старой поговорке: «Найди пару – найди себя», то себя я тоже так и не нашла. Я почти добралась до критической отметки в тридцать лет, где меня поджидали психологические тесты, сдача в «непригодное» и высылка из страны счастья и благоденствия.
Но тут подвернулся он, человек с пульсирующей отметкой «999» на левой руке. Он сам мне показал, хоть это и не было принято. Я поначалу даже не поверила. В общем, он спас меня от незавидной судьбы одиночки, которых здесь совсем не любят и смотрят на них косо. До замужества я много раз испытывала это на себе. Но мне повезло: я встретила того самого, мы были признаны идеальной парой и обвенчались. Ещë бы, с уровнем «999» у каждого!
Сначала я даже не соглашалась. Ну, боялась, что всё откроется. Но мне опять-таки повезло: во время церемонии мы стояли напротив алтаря. Я видела своë отражение в его гладкой поверхности, единственной гладкой поверхности в этом матовом мире, где запрещено смотреть на собственное отражение. Значение подскочило, и священник объявил нас идеальной парой. Нам потом ещë льготы всякие выдавали за это.
Правда в том, что я его не любила. Вот совсем. У меня вообще ни на кого цифра на руке выше «555» не поднималась. Хорошие дружеские отношения, но ничего больше. На него, правда, было «589» , но брак бы не зарегистрировали. Ниже «777» не разрешают.
В этом мире таких, как я, считают уродами. У всех есть пара, настоящая любовь, а у меня – нет. Да и к чёрту, на кой мне это, скажите на милость? Главное, у меня есть я. Я себя люблю больше кого бы то ни было!
Я поняла это ещë до появления шкалы на левой руке. Мне было пять, и я увидела своё отражение. Это было маленькое странное зеркальце в маминой шкатулке. Запрещённая, опасная вещь, это я знала даже тогда. Фамильная ценность, уцелевшая, скорее всего, только благодаря тому, что отец работал в полиции и сам занимался изъятием подобных, вредных для душевного спокойствия граждан, предметов.
Зеркала у нас запрещены, как, впрочем, вообще любые отражающие поверхности. Даже стёкла в окнах делали мутными, чтобы свет пропускали, но ничего не отражали. То же самое касалось любых портретов и фотографий.
Считалось, что люди становятся менее эгоистичными, если не знают, как выглядят. «Внешность ведёт к индивидуальности, индивидуальность – к самолюбованию и гордыне, а следовательно, к пороку и разврату» – так нас учили.
Но я увидела своё отражение и влюбилась. Я чертовски красива, что тут сказать! И это решило мою судьбу.
Мне жизненно необходимо было постоянно видеть себя. Я заплатила огромные деньги одному старому художнику, чтобы он нарисовал мой портрет. Маленький, меньше ладони, я носила его с собой в кармане и любовалась время от времени. Наше общество «Один – ради всех, и все – ради одного» не поняло бы меня. Поэтому я скрывалась, я маскировалась. Меня бы изгнали, ведь здесь господствуют иные ценности: альтруизм, жизнь во благо семьи и страны, презрение к своей личности и внешности. А я…
Нам с детства внушали: найдите идеального партнёра, родите детей, живите ради окружающих. Только так возможно создать страну всеобщего счастья. У каждого есть вторая половинка, быть одному запрещено. Если твой партнёр умирает, шкала навеки застопоривается на одной цифре и никогда не меняется. Нас учат любить лишь один раз, второго шанса не дано. А в случае развода вас обоих сошлют в колонию, чтобы не нарушали идиллическую картину.
Поэтому все стараются поддерживать шкалу позитивного отношения на максимально возможном уровне. А проверки бывают. Все обязаны ходить раз в полгода на так называемые исповеди, где приходится рассказывать о своём партнёре всё: и плохое, и хорошее, что нравится и что бесит, что происходило между вами и как ты при этом себя чувствовала. В его же присутствии. А проверяющие смотрят на твой пульс, задают каверзные вопросы, изучают ваши шкалы. Иногда им и правда удаётся спасти разваливающиеся браки. Но обычно в случае неудачного исхода беседы пару просто изолируют от общества как непригодную.
У меня всë шло неплохо: я научилась думать о себе, рассказывая о муже, и тем самым повышала свою отметку до максимальной «999» . Я смирилась со своей участью, а он ни о чëм не подозревал. Только детей не было. Молва гласит, что без любви ребëнка не зачать.
Всё открыл его отец. Он что-то заподозрил, нанял хакера, взломал систему, посмотрел графики, сравнил. Он думал, что у меня другой. Такое бывает – очень редко, но бывает – и это большой позор для семей всех замешанных. А оказалось…
Свёкор доложил инквизиции. Это был скандал! Меня вывели на площадь, поставили перед зеркалом и заставили выстрелить. Я собственными руками убила свою любовь, разрушив самую сильную привязанность в своей жизни. Так должно быть, нас растили альтруистами и однолюбами. Я смогла стать только вторым.
Я уничтожила своё отражение, портрет изъяли и сожгли. Меня заставили стереть последние черты собственной индивидуальности, у меня больше ничего не осталось, кроме пустоты внутри, в том месте, которое, предположительно, должна занимать любовь, но на неё у меня нет теперь даже надежды. Шкала на руке исчезла, вместо неё остался шрам, как от ожога.
А значит, больше не будет ничего. Нас учили любить, ничего нет на свете важнее любви.
* * *
Я стою, окружённая этой толпой, сжимая в руке осколок. Я не чувствую боли. Я смотрю в лица им всем, нашедшим свою правильную пару, проживающим свою законопослушную жизнь, любящим не так, как я, а как надо. Мне всë равно. Терять уже нечего.
Кто-то подходит сзади и осторожно забирает у меня кусок стекла. Это мой муж.
– Куда ты теперь? – спрашивает он.
– Вышлют из страны, всë не так уж и плохо. Там, говорят, много таких, как я. Самовлюблённых, – приходится приложить усилие, чтобы произнести последнее слово. Я не смотрю на него.
– Одиночек, – уточняет он. – Я с тобой.
Я поднимаю глаза:
– После всего?
– Да.
У меня на шее татуировка нарцисса, как позорное клеймо, и я никого не люблю. Даже себя. Шкалы больше нет, нет необходимости любить. Через сутки меня депортируют из страны в мир мрака и скорби. А может, так будет даже лучше? А может, это и есть свобода? Без любви, без нужды в ней?
Мой муж едет со мной. На его запястье горит «999» . Это самая высокая отметка на шкале.
Боги Самайна

Рассматривая неприветливую стаю ворон, кружащихся над ранчо шерифа Саггитса, Джон Моргисон с тоской подумал: «Что-то будет».
Погода была паршивой с самого утра. Слишком темно и ветрено даже для этого времени года. Для ноющего болью в сердце дня, когда его далёкие предки праздновали странный праздник Самайн. Может быть, поэтому-то и попросил шериф Саггитс своего старого друга заехать в гости и потолковать о жизни за стаканом хорошего виски, вместе пережить эту всемирную тоску. А, быть может, за чем-то другим?
Когда Моргисон привязывал верного жеребца Рульфа у крыльца, взгляд старого фермера в очередной раз зацепил раскачивающийся вправо-влево по прихоти жестокого ветра тотем, смастерённый их кожаных лент, веревочек, камушков, костей и перьев. Это Падма повесила, чтобы охранял от злых духов. Странная она, эта косоглазая индейская девочка, но хозяйка, что надо, в этом ей не откажешь. И по дому хлопочет, и на ферме работает, и готовит отменно. Хорошая помощница отцу. В самый раз была бы жена для Джошуа Моргисона, хоть и не красавица. Да разве Саггитс выдаст любимою дочурку замуж? Разве отпустит от себя?
Моргисон вошёл без стука. Саггитс вышаривал из стороны в сторону, держа в зубах трубку. Тонкая полоска дыма отмечала траекторию его движения. Джон тихо кашлянул, заставив шерифа вздрогнуть.
– А, пришёл, – он кивнул в ответ на свои мысли.
– Да, а что ты, собственно… – начал было Моргисон.
– Не сейчас. Сначала выпить.
Осушили по стакану. У шерифа всегда был самый лучший виски в округе: местные фермеры знали, что денег он не берёт, а вот виски – пожалуйста. Вот и приносили самые выдающиеся свои творения алкогольного производства.
– Падма, – начал Саггитс без предупреждения, покачал головой и нервно улыбнулся. – Нельзя было забирать девочку у её народа! Та индианка, кажется, пыталась мне объяснить, что Падма предназначена этому их божку, но её ужасный английский… А теперь, вот как оно выходит.
– О чём ты? – Моргисон поёжился. Он никогда ещё не видел всегда спокойного и рассудительного шерифа таким: щёки лихорадочно горели, сухие красные глаза бегали из стороны в сторону..
– Ты, кажется, хотел выдать Падму за своего Джошуа? Знаешь, если она вырвется, я дам согласие на этот брак.
Он замолчал, чтобы наполнить стаканы.
– Ты, кончено, ни черта не понимаешь, что я там мелю, – чуть спокойнее произнёс Саггитс. – Да и сам я не до конца понимаю. Знаю только, что сегодня мою девочку навсегда заберёт бог Малсумис и сделает своей женой. Падма ему предназначена.
– Кто заберёт? – только и смог выдавить из себя Моргисон.
– Ты ведь помнишь, как она попала ко мне? – вместо ответа спросил шериф. – Беременная индианка, сбежавшая из своего племени, оказалась на моём пороге. Она умерла, когда Падма появилась на свет. Но перед этим рассказала мне, что отец девочки – шаман, пообещавший Падму в жёны злому богу Малсумису, и что тот придёт восемнадцать лет спустя и заберёт её.
На верху раздался звук словно от небольшого взрыва, но Саггитс будто и не услышал его.
– Я тогда, конечно, не поверил. Подумал: суеверия аборигенов. Но вот сегодня Падме исполняется восемнадцать и Малсумис идёт, чтобы забрать её.
– Почему ты так думаешь? – осторожно спросил фермер, встревоженно глядя в лицо друга.
– Я это чувствую. А ещё отметены на её теле, по всему её телу, раньше их не было. Падма сказала: это предупреждение. Боже, я не хочу! – на глазах шерифа выступили слёзы. – Я не отдам мою девочку этому ублюдку!
Сверху снова что-то громыхнуло, на этот раз сильнее.
– Падма колдует, – коротко пояснил Саггитс. – Она сказала, что не сдастся. Забрала петуха и сидит весь день в своей комнате. Не знаю, что она там делает, но дай Бог, чтобы это помогло!
Ветер усиливался. Теперь весь домик шерифа скрипел и раскачивался, будто бы готовый вот-вот улететь в волшебную страну, как в старой сказке. Моргисон отчётливо услышал голос Падмы, выкрикивающий слова на каком-то неизвестном фермеру наречии.
Раздался резкий стук. Дверь затрясло так, что стало понятно: ещё одного удара она не выдержит.
– Это он, – побледнев, прошептал шериф. – Это Малсумис.
Стук повторился, на этот раз настойчивее. Саггитс вскочил и навалился всем телом на жалобно скрипящую дверь.
– Помоги, – одними губами прошептал он.
Моргисон встал рядом и сразу же ощутил чудовищное давление, будто бы целый мир свалился на его плечи. Дом шатало, как в лихорадке, сверху доносился голос Падмы, упрямо читающий слова дикого заклинания.
«Ещё секунда – и я не выдержу, – промелькнуло в голове фермера. – Я просто умру».
Но он не умер. Раздался оглушительный взрыв, потом женский крик, и всё стихло. Давление разом исчезло, ветер смолк. Только фонарь продолжал раскачиваться под потолком. Мужчины выдохнули и сползли на пол. Сил не осталось даже на то, чтобы подняться наверх.
– Падма! – тоскливо позвал шериф. Ответа не было. – Моя девочка!
Он рывком вскочил и взбежал по деревянной лестнице. Собрав остатки сил, Моргисон поднялся следом.
В комнате Падмы царил хаос. Окно было распахнуто, повсюду валялись петушиные перья, на полу кровью был начертан замысловатый символ, дымились огарки свечей. Девушки нигде не было.
– Падма! – в отчаянии воскликнул шериф, подбежал к открытому окну, выглянул наружу, зажал рот рукой и медленно осел на пол, сотрясаясь в беззвучных рыданиях.
С замиранием сердца Моргисон перегнулся через узкий деревянный подоконник. Падма стояла у крыльца, чёрные волосы растрёпаны, простое клетчатое платье облеплено перьями. Девушка, улыбаясь, гладила Рульфа по холке. Подняв голову вверх, она весело помахала фермеру.
– Добрый вечер, мистер Моргисон! Я покормила вашего конька! А папа пусть не волнуется, Малсумис ушёл. Я прогнала его.
Оле-Лукойе

Еду по неровной дороге, внимательно оглядывая обочины. На безжизненном небе сияют колючие крошки звёзд. Вокруг ни души, только переливается всеми цветами мрака Царство Кошмара. Я вздыхаю: нужно быть начеку. До утра ещё долго, а самые чудовищные идеи рождаются аккурат перед рассветом.
Вдруг справа – тёмная фигура, пучок чистейшего страха. Из-за всех сил давлю на тормоз, выскакиваю из фургона. Чудовище поднимает на меня ничего не выражающее смазанное пятно. Лапы твари крепко держат за шею ребёнка, прижатого к земле.
Я привыкла стрелять без предупреждения – через секунду кошмар рассеивается, будто его и не было. Делаю глубокий вдох и помогаю девочке подняться. Она всхлипывает.
– Тише, – я глажу малышку по голове, – это всего лишь плохой сон, он больше ничего не сможет тебе сделать.
Конечно, это ложь. Не этот, так следующий – придёт ещё один кошмар и, возможно, убьёт её. Если не вмешается какой-нибудь Ловец, вроде меня.
– Поехали отсюда, – я сажаю всё ещё всхлипывающую девочку в машину, и мы едем дальше.
Эту мутацию прозвали «Оле-Лукойе». За пару лет она поразила почти всё человечество, никто не знает почему. У редких счастливчиков, вроде меня, есть иммунитет, поэтому мы и занимаемся спасением людей, уничтожая кошмары, порождённые больной фантазией детей и прочих впечатлительных личностей.
Да, сны, воплощённые в реальность, теперь бывают у всех. Эта реальность особая, сонная, в неё невозможно попасть во время бодрствования. Здесь обитают все ужасы, которые только могли быть рождены человеческим подсознанием, и здесь же они охотятся. Мы дали этому месту пафосное название – Царство Кошмара.
Мне никогда ничего не снилось, поэтому я стала одним из Ловцов. Мы добровольно еженощно отправляемся в этот мир, чтобы спасать людей от их же больных фантазий, пока наше правительство безуспешно пытается разобраться с Оле-Лукойе.
Я молча еду по тёмному шоссе. Девочка успокоилась и погрузилась в сон во сне. Интересно, где она пребывает теперь?
Фары высвечивают голосующую фигуру на обочине. Впервые на моей памяти я встречаю кого-то, кто просился бы ко мне в попутчики, это настораживает и интригует меня. Неужели это другой Ловец?
Я останавливаю машину и открываю дверь. Внутрь заходит коротко остриженная женщина с ярко подведёнными глазами.
– Не против подвезти меня? – улыбается она во все тридцать два.
Неопределённо качаю головой, и незнакомка, приняв моё молчание за согласие, усаживается рядом со мной. Едем дальше. Я искоса разглядываю свою попутчицу. Великолепный маникюр, шикарный брендовый костюм, кожаные туфли, на шее бриллиантовая подвеска. Невольно сравниваю её наряд со своей выцветшей майкой и старыми джинсами.
– Что ж, всё ловишь ночные страхи? – спрашивает она. – Я закурю, не возражаешь?
– Возражаю.
– Тогда не буду. Ты ведь знаешь, кто я, – это не вопрос.
– Полагаю, что так.
– Тогда ты, наверное, ждёшь, что я расскажу тебе о победе нашего благородного дела, скажу, что ты всё делаешь правильно и однажды спасёшь этот мир? То есть, мы спасём.
– Если ты пришла поведать мне, что мы проиграем, то можешь сразу проваливать! – я начинаю злиться. – Я никогда не отступлюсь от своего дела, даже если оно проигрышное!
– О, какие мы дерзкие и принципиальные! – она рассмеялась неприятным смехом. – Да, в семнадцать я была дерзкой и глупой, такой безумно глупой! Как я потом потешалась над тобой!
– Замолчи!
– Знаешь, ведь есть простое и здравое решение, – она заговорщически подмигивает мне. – Можно имплантировать в мозг маленький чип, который напрочь отрубает способность фантазировать, воображать. А нет воображения – нет и кошмаров, нет внезапных ночных смертей обессилевших от ужаса жертв. Красота!
– Без воображения! – я фыркаю. – Что такое человек без фантазии? Это не человек, это.., – я не могу подобрать подходящий эпитет.
– Да, конечно, когда воображаемые чудовища высасывают из людей все душевные силы до последней капли – намного лучше! Появись такой чип раньше, возможно, наши родители были бы теперь с нами, не правда ли?
Я ничего не отвечаю, да и ответить тут нечего. Вокруг начинает светать. Девочка всё так же мирно спит, не разбуженная нашим разговором.
– Зачем людям фантазия, если без неё спокойнее и проще? Конечно, чип вставляют не всем, – продолжает она, откинувшись на спинку кресла. – Некоторые могут себе позволить оставить своё воображение при себе. За большие деньги, разумеется. Уроки по контролированию собственного сознания, медитации, специальные успокаивающие препараты – и ты становишься царём и богом в своём собственном мирке, который теперь становится не Царством Кошмаров, а Царствием Счастья! Ты не представляешь, сколько денег люди готовы отдать, чтобы безопасно погрузиться в воображаемую реальность! И сколько на этом можно заработать!
– Это ужасно! Лишать людей воображения, чтобы миллионеры могли предаваться всем порокам в Мире сна? – я прикидываю, через сколько мы доберёмся до границы двух миров.
– В Царстве Кошмаров вполне себе можно жить, если уютно обустроиться, – она пожимает плечами. – А знаешь ли, чей это проект? Кто придумал чипы, продажу лицензий на сон, использование мира в мире в качестве парка развлечений? Ты, конечно же! То есть я. То есть мы, – она смеётся.
– Это не может быть правдой, ты всего лишь мой сон, – стараюсь говорить спокойно. – Кошмар.
– Мы ведь обе прекрасно знаем, что нам никогда не снятся сны. Потому что ты, потому что я – человек без фантазии.
– Тогда зачем ты пришла? Чтобы посмеяться надо мной? Разозлить, рассказать, как ты уничтожишь всё, во что я верю?
– Ты уничтожишь, – поправляет она. – Я пришла потому, что когда-то ко мне семнадцатилетней точно так же подсела незнакомая малоприятная тётка, чтобы рассказать, как я предам себя, и посмеяться над моей глупостью. Больше ни за чем.
Я достаю из кармана пистолет.
– Как глупо, – фыркает она.
– Я привыкла убивать ночные кошмары, даже если они мои собственные.
– Но что ты будешь делать, раз теперь ты тоже их видишь? Ты больше не годишься в Ловцы.
– Я что-нибудь придумаю, – уверенно отвечаю я. – Я больна и мне нужно лечение.
– Лечение от фантазии? – она усмехается и достаёт из кармана пиджака какой-то конверт. – Вот оно, отдаю бесплатно. Мне пора.
Мы останавливаемся перед самой границей. Моя попутчица выходит из машины и растворяется в утреннем тумане, уходит, не оборачиваясь.
Я провожаю её взглядом, открываю конверт и рассматриваю схему микрочипа, который напрочь перерубает всякую способность к фантазии, если вживить его в мозг. На что она надеется! Я разрываю листок на мелкие клочки, бужу девочку, и мы с ней переходим границу между нашим миром и Царством Кошмара.
Через полгода после этого мне вживили микрочип. Он был собран по моим чертежам и навсегда решил проблему с Царством Кошмара. Позже мне дали за него много премий и прочей чуши. Жить без воображения оказалось вообще-то куда лучше, спокойнее и прибыльнее. Оле-Лукойе навсегда стал добрым волшебником, не приносящим ничего, кроме ночного покоя. А Орден Ловцов был официально упразднён в том же году. Потому что мы – потому что они – уже больше были не нужны.
А я ношу короткую стрижку, брендовые костюмы, кожаные туфли и делаю дорогущий маникюр. У меня много богатых клиентов, которые готовы отдать миллионы, чтобы стать божком собственного мира, построенного из бывшего Царства Кошмара.
И я с ужасом думаю, что однажды мне придётся вернуться туда, встретиться с семнадцатилетней собой и увидеть, как она презирает меня за предательство.
И эта встреча будет моим личным Царством Кошмара, моей мутацией Оле-Лукойе.


