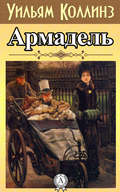Уилки Коллинз
Женщина в белом
– Вы не считаете, что меня надо вернуть в лечебницу?
– Повторяю, я рад, что вы убежали оттуда, рад, что у вас получилось все задуманное после того, как вы покинули меня, – ответил я. – Вы говорили, что едете в Лондон к подруге. Вы разыскали ее?
– Да. Было уже очень поздно, но одна девушка засиделась в доме за шитьем, она помогла мне разбудить миссис Клеменс – так зовут мою подругу. Она добрая, ласковая женщина, но не такая, как миссис Фэрли. Ах, на всем белом свете нет никого, кто мог бы сравниться с миссис Фэрли!
– Миссис Клеменс – ваша давняя подруга? Сколько вы с ней знакомы?
– Она была нашей соседкой, когда мы жили в Хэмпшире, она любила меня и заботилась обо мне, когда я была еще маленькой. Много лет назад, когда она уезжала от нас, она написала в моем молитвеннике адрес, по которому собиралась жить в Лондоне, и сказала: «Если вам когда-нибудь нужна будет моя помощь, Анна, приезжайте ко мне. Муж мой умер, стало быть я сама себе госпожа. Нет у меня и детей, за которыми надо было бы присматривать, вот я и буду заботиться о вас». Ласковые слова, не правда ли? Думаю, я и помню их именно поэтому. Больше я почти ничего не помню… почти ничего…
– Разве у вас нет ни отца, ни матери, чтобы позаботиться о вас?
– Отца? Я никогда его не видела. И никогда не слышала о нем от матери. Отца? Ах, господи, должно быть, он умер.
– А ваша мать?
– Я с ней не в ладах. Мы как-то боимся друг друга.
«Боимся друг друга»! При этих словах во мне впервые шевельнулось подозрение, уж не мать ли поместила несчастную в заключение в сумасшедший дом.
– Не спрашивайте меня о моей матери, – продолжала она. – Лучше я расскажу вам о миссис Клеменс. Как и вы, она не считает, что я должна вернуться в лечебницу; как и вы, она рада, что я убежала оттуда. Она плакала над моей бедой и сказала, что ее надо скрывать от всех.
Над ее «бедой»? Что она имела в виду? Не эта ли «беда» стала причиной для написания анонимного письма? Не употребила ли она это слово в том слишком обычном смысле, из-за чего женщины так часто прибегают к анонимным письмам, чтобы помешать браку погубившего их мужчины? Я решил выяснить, что она подразумевала, прежде чем другие слова будут сказаны между нами.
– Какой бедой? – спросил я.
– Той бедой, что меня заперли в лечебнице, – ответила она, всем видом показывая, что удивлена моему вопросу. – Какая же еще беда может быть?
Я решил непременно продолжать свои расспросы, но как можно более деликатно и терпеливо. Необходимо было быть совершенно уверенным в каждом следующем шаге предпринимаемого мной расследования.
– Есть и другая беда, – сказал я, – которая может обрушиться на женщину и из-за которой она всю жизнь будет терпеть горе и позор.
– Что же это такое? – спросила она с любопытством.
– Это когда женщина слишком полагается на собственную добродетель и слишком доверяется чести мужчины, которого любит, – ответил я.
Она взглянула на меня с безыскусственным изумлением ребенка. Я не заметил в ее лице ни малейшей перемены, ни следа замешательства, ни тайного сознания стыда… А между тем в иные минуты оно так прямодушно и ясно обнаруживало любое душевное волнение. Никакие слова не могли бы убедить меня сильнее, чем убеждало выражение лица Анны Кэтерик, что причина, побудившая ее написать письмо и отправить его мисс Фэрли, очевидно, была совсем не той, которую я заподозрил в самом начале. Как бы то ни было, это сомнение теперь развеялось, однако с этого момента все становилось еще более запутанным. Письмо хоть и не называло, но определенно указывало на сэра Персиваля Глайда. Бедная женщина должна была иметь очень вескую причину, вероятно основывавшуюся на чувстве глубокой обиды, чтобы тайно оговаривать его перед мисс Фэрли в тех выражениях, которые были ею использованы в письме, и эта причина неоспоримо заключалась не в потере ею невинности и репутации. Какое бы оскорбление ни нанес он ей, оно, по всей вероятности, было иного рода. Что же это было за оскорбление?
– Я вас не понимаю, – сказала она после очевидных и тщетных усилий понять смысл моих слов.
– Что ж, давайте лучше продолжим наш разговор. Расскажите мне, долго ли вы прожили с миссис Клеменс и как оказались здесь.
– Долго ли? – повторила она. – Я оставалась у миссис Клеменс до тех пор, пока мы не приехали сюда два дня назад.
– Значит, вы живете в деревне? – спросил я. – Странно, что я не слышал о вас, хотя вы здесь уже два дня.
– Нет-нет, не в деревне, а за три мили отсюда, на ферме. Вы знаете эту ферму? Ее называют «Уголок Тодда».
Я очень хорошо помнил это место: мы часто проезжали мимо во время наших прогулок. Это была одна из самых старых ферм в окрестностях, располагавшаяся в уединенной, пустынной местности, зажатая между двух гор.
– Хозяева фермы находятся в родстве с миссис Клеменс, – продолжала Анна Кэтерик, – и они часто приглашали ее погостить. Она сказала, что поедет и возьмет меня с собой, поскольку тут спокойно и свежий воздух. Какая она добрая, не правда ли? Я отправилась бы куда угодно, только бы оказаться в спокойном, безопасном месте, подальше от людей. Но когда я услышала, что «Уголок Тодда» недалеко от Лиммериджа, о, я была так счастлива, что, казалось, готова была бы пройти весь путь босиком, только чтобы снова увидеть школу, и деревню, и Лиммеридж-Хаус. Добрые люди эти Тодды. Надеюсь, что смогу пожить у них подольше. Только одно мне не нравится в них и в миссис Клеменс…
– Что же это?
– Они дразнят меня из-за того, что я одеваюсь в белое, – они говорят, что это чудачество. Пусть их. Миссис Фэрли знала лучше. Уж она никогда не заставила бы меня надеть эту безобразную накидку! Ах, при жизни она так любила белое, и вот теперь над ее могилой белый памятник, и в память о ней я хочу сделать его еще белее. Она часто сама носила белое и всегда одевала в белое свою маленькую дочь. Здорова ли, счастлива ли мисс Фэрли? Ходит ли она, как и прежде, в белом?
Спрашивая о мисс Фэрли, она понизила голос и отвернулась от меня. По происшедшей в ней перемене я почувствовал, что инстинктивно она сознает, какому риску подвергла себя, отправив анонимное письмо, и в тот же миг я решился сформулировать мой ответ таким образом, чтобы удивить ее и тем самым вынудить признаться.
– Этим утром мисс Фэрли была не слишком здорова и не слишком счастлива, – сказал я.
Она прошептала несколько слов, но так неразборчиво и тихо, что я не смог их разобрать.
– Вы меня спрашиваете, почему мисс Фэрли нездорова и несчастлива сегодня? – продолжал я.
– Нет, – проговорила она быстро, – о нет, я ни о чем таком не спрашивала.
– И все же я скажу вам, хоть вы меня и не спрашивали об этом, – настаивал я. – Мисс Фэрли получила ваше письмо.
В продолжение нашего разговора она стояла на коленях и старательно смывала пятна с могильной плиты. При первых словах моей фразы она отложила свою работу и, не вставая с колен, медленно повернулась ко мне. Продолжение же буквально потрясло ее. Тряпка выпала у нее из рук, губы приоткрылись, а лицо побледнело еще сильнее.
– Откуда вы знаете о письме? – спросила она слабым голосом. – Кто вам его показывал? – Кровь вновь прилила к ее лицу, когда она вдруг поняла, что выдала себя этими словами. Она с отчаянием всплеснула руками. – Я не писала никакого письма, – проговорила она в испуге. – Я ничего не знаю ни о каком письме!
– Нет, – возразил я, – это вы его написали и знаете это. Вы дурно поступили, отправив мисс Фэрли такое письмо. Зачем было пугать ее? Если вы хотели сказать ей что-нибудь важное, вам следовало бы пойти в Лиммеридж-Хаус и самой говорить с молодой леди.
Несчастная опустилась на могильный камень, так что мне было совсем не видно ее лица, и не отвечала.
– Мисс Фэрли будет к вам так же добра и ласкова, как была ее матушка, если у вас хорошие намерения, – продолжал я. – Она сохранит вашу тайну и не позволит причинить вам никакого вреда. Хотите повидаться с ней завтра на ферме или в саду Лиммеридж-Хауса?
– О, если бы я могла умереть и упокоиться рядом с вами! – прошептала Анна Кэтерик, склонившись совсем близко над могильной плитой и обратив, по всей вероятности, свою горячую мольбу к покоящимся под камнем останкам. – Вы знаете, как я люблю вашу дочь из-за любви к вам! О миссис Фэрли! Миссис Фэрли, научите, как спасти ее! Будьте, как и прежде, моей нежной матерью и скажите, как мне следует поступить.
Я видел, как она снова поцеловала камень, как горячо ее руки гладили его холодную поверхность. Это зрелище глубоко тронуло меня. Я наклонился, нежно взял руки бедняжки в свои и попытался успокоить ее.
Все было бесполезно. Она вырвала руки и не поднимала головы от могильной плиты. Испытывая насущную необходимость успокоить ее во что бы то ни стало, я решился воззвать к тому единственному чувству, которое, по всей вероятности, сильнее всего беспокоило ее относительно нашего знакомства: к ее страстному желанию убедить меня, что она сама себе хозяйка и отвечает за собственные поступки.
– Ну полно, полно, – сказал я мягко. – Постарайтесь взять себя в руки, иначе мне придется переменить мнение о вас. Не заставляйте меня думать, что человек, поместивший вас в лечебницу, имел на то…
Следующие слова замерли на моих губах. Стоило мне только упомянуть того, кто поместил ее в сумасшедший дом, как Анна вскочила на ноги. Необыкновенная, изумительная перемена произошла в ней. Ее лицо, до сих пор исполненное трогательной нервной чувствительности, неуверенности и кротости, вдруг омрачилось выражением бешеной ненависти и страха, придавшим ее чертам дикую, неестественную силу. В вечернем сумеречном свете ее глаза расширились, как глаза дикого зверя. Она схватила мокрую тряпку, выпавшую до этого у нее из рук, как будто это было живое существо, которое она могла бы убить, и судорожно сжала ее с такой силой, что несколько капель упало на могильную плиту.
– Говорите о чем-нибудь другом, – прошептала она сквозь зубы. – Если вы не перестанете, я могу выйти из себя.
От кротких мыслей, еще несколько минут назад наполнявших ее голову, не осталось и следа. Стало совершенно очевидно, что впечатление, оставленное в ее душе добротой миссис Фэрли, было не единственным, как я раньше предполагал, сильным впечатлением в ее прошлом. Вместе с благодарным воспоминанием о школьных днях в Лиммеридже она сохраняла в душе мстительное воспоминание об обиде, нанесенной ей заключением в сумасшедший дом. Но кто нанес ей эту обиду? Неужели это на самом деле сделала ее мать?
Тяжело было отказаться от дальнейших расспросов, тем более так близко подобравшись к разгадке, и все же я заставил себя оставить всякую мысль о них. Видя бедную женщину в таком состоянии, с моей стороны было бы жестоко думать о чем-нибудь другом, кроме необходимости восстановить ее спокойствие.
– Больше я не скажу ничего, что может расстроить вас, – сказал я мягко.
– Вам что-то нужно от меня, – сказала она резко и подозрительно. – Не смотрите на меня так. Ну же, говорите, чего вы хотите.
– Только чтобы вы успокоились, а когда возьмете себя в руки, подумали о том, что я сказал.
– «Сказал»? – Она помолчала, повертела в руках тряпку и прошептала: «Что он сказал?» Потом повернулась ко мне и нетерпеливо кивнула. – Почему вы не хотите помочь мне? – спросила она вдруг с гневом в голосе.
– Да, да, я вам помогу, – сказал я, – и вы сразу все вспомните. Я просил вас встретиться с мисс Фэрли завтра и рассказать ей всю правду насчет письма.
– А-а-а, мисс Фэрли… мисс Фэрли… мисс Фэрли…
Простое повторение любимого знакомого имени, казалось, успокоило ее. Лицо ее смягчилось и стало похоже на прежнее.
– Вам не надо бояться мисс Фэрли, – продолжал я. – Письмо не принесет вам беды. Из него она знает уже достаточно много, так что вам не составит труда рассказать ей все остальное. Нет смысла скрывать что-либо там, где скрывать уже почти нечего. В письме вы не называете имен, однако мисс Фэрли поняла, что речь в нем идет о сэре Персивале Глайде…
Не успел я произнести это имя, как она вскочила на ноги и из ее груди вырвался крик, огласивший все кладбище и заставивший затрепетать мое сердце от ужаса. Мрачная тень, только что сбежавшая с ее лица, вновь затмила его, но уже с удвоенной силой. Пронзительный крик и вновь появившееся на ее лице выражение страха и гнева объяснили мне все. Не осталось никаких сомнений. Не мать поместила несчастную в сумасшедший дом. Это сделал человек, чье имя было сэр Персиваль Глайд.
Крик донесся не только до меня. Со стороны каменоломни я услышал, как отворилась дверь в доме причетника, а затем с противоположной стороны я различил голос подруги Анны, женщины в шали, женщины, которую Анна называла миссис Клеменс.
– Иду! Иду! – кричала она из-за деревьев.
Через мгновение показалась миссис Клеменс, спешащая к нам.
– Кто вы такой? – вскричала она, входя на кладбище. – Как смеете вы пугать бедную, беззащитную женщину?
Прежде чем я успел ответить, она уже была подле Анны и обнимала ее.
– Что случилось, моя милая? – спросила она. – Что он вам сделал?
– Ничего, – ответила бедняжка. – Ничего, просто я испугалась.
Миссис Клеменс повернулась ко мне с бесстрашным негодованием, за которое я не мог не уважать ее.
– Мне было бы стыдно, если бы я заслужил ваш гневный упрек, – сказал я. – Но я его не заслуживаю. К несчастью, я испугал эту бедняжку, не желая того. Она видит меня не в первый раз. Спросите ее, и она вам скажет, что я не способен причинить зло ни ей, ни кому бы то ни было другому.
Я говорил очень отчетливо, чтобы Анна Кэтерик могла расслышать мои слова, и я видел, что их смысл дошел до нее.
– Да, да, – сказала она, – он был добр ко мне однажды, он помог мне… – Она прошептала остальное на ухо своей подруге.
– И в самом деле, очень странно! – В голосе миссис Клеменс прозвучало удивление. – Это все меняет. Простите, что я говорила с вами так грубо, сэр, но согласитесь, что со стороны ваше пребывание здесь выглядело более чем подозрительно. Я сама виновата, даже больше вашего: потакаю ее прихотям, позволила бедняжке остаться одной в таком месте. Пойдемте, душенька, пойдемте домой…
Мне показалось, что добрую женщину несколько беспокоила перспектива возвращаться домой в столь поздний час одним, и я предложил проводить их до дому. Миссис Клеменс вежливо поблагодарила меня, но отказалась. Она сказала, что по пути они наверняка повстречают работников с фермы.
– Постарайтесь простить меня, – проговорил я, когда Анна Кэтерик взяла свою подругу за руку, чтобы уйти. У меня и в мыслях не было намерения напугать и растревожить ее, но сердце мое заныло, когда я взглянул на это несчастное, бледное, испуганное лицо.
– Я постараюсь, – ответила она. – Но вы слишком много знаете, думаю, что теперь я всегда буду бояться вас.
Миссис Клеменс бросила на меня взгляд и сочувственно покачала головой.
– Доброй ночи, сэр, – сказала она. – Вы ни в чем не виноваты, я знаю, но лучше бы вы напугали меня, а не ее.
Они сделали несколько шагов. Я уже было решил, что они совсем уходят, когда Анна вдруг остановилась и сказала своей подруге:
– Подождите немножко. Я должна попрощаться.
Она вернулась к могиле, нежно обняла мраморный крест и поцеловала его.
– Мне уже лучше, – вздохнула она, спокойно глядя на меня. – Я прощаю вас.
Она снова присоединилась к своей спутнице, и они покинули кладбище. Я видел, как они остановились у церкви и недолго поговорили с женой причетника, которая вышла из дому, заслышав крик Анны, и поджидала, глядя на нас издали. Затем они двинулись дальше по дорожке, которая вела через пустошь. Я смотрел вслед Анне Кэтерик, пока она не исчезла в ночной темноте, смотрел так тревожно и печально, как будто в последний раз видел в этом унылом мире женщину в белом.
XIV
Через полчаса я вернулся домой и уведомил мисс Холкомб обо всем, что случилось.
Она слушала меня от начала до конца с тем неизменным, молчаливым вниманием, которое в женщине ее темперамента служит вернейшим доказательством, насколько поразил ее мой рассказ.
– Я не знаю, что и думать, – вот все, что она сказала, когда я закончил. – Будущее не предвещает мне ничего хорошего.
– Будущее, – заметил я, – может зависеть от того, какую пользу мы извлечем из настоящего. Весьма вероятно, что Анна Кэтерик будет откровеннее с женщиной, чем была со мной. Если бы мисс Фэрли…
– Об этом сейчас нечего и думать! – перебила меня мисс Холкомб самым решительным тоном.
– В таком случае, – продолжил я, – позвольте мне посоветовать вам самой увидеться с Анной Кэтерик и постараться завоевать ее доверие. Что касается меня самого, то мне неприятна одна мысль, что я могу снова напугать бедную женщину, как, к несчастью, сделал это уже сегодня. Вы не возражаете, если я провожу вас завтра до фермы?
– Конечно нет. Ради Лоры я отправлюсь куда угодно и сделаю все, что будет необходимо. Как, вы сказали, называется эта ферма?
– Вы, должно быть, хорошо ее знаете. Она называется «Уголок Тодда».
– Ах да, конечно. Это одна из ферм мистера Фэрли. Наша молочница – вторая дочь Тодда. Она часто бывает у отца и, может статься, слышала или видела что-нибудь такое, о чем нам не помешает знать. Я сейчас спрошу, здесь ли эта девушка.
Она позвонила и послала слугу узнать. Вернувшись, он доложил, что молочница ушла на ферму. Она не была дома три дня, и экономка отпустила ее на часок-другой.
– Я поговорю с ней завтра, – сказала мисс Холкомб, когда слуга вышел. – Вы же тем временем объясните мне хорошенько, какова цель моего разговора с Анной Кэтерик. Неужели не осталось никаких сомнений, что в сумасшедший дом эту несчастную поместил сэр Персиваль Глайд?
– Не осталось и тени сомнения. Но вот что еще предстоит узнать, так это причину, которая им двигала. Принимая во внимание разницу в их общественном положении, которая, как кажется, исключает любую возможность родства между ними, чрезвычайно важно узнать – даже допустив, что несчастную действительно следовало бы поместить в сумасшедший дом, – почему все же он взял на себя такую серьезную ответственность, отправив ее…
– Вы, кажется, сказали, что это была частная лечебница?
– Да, отправив ее в частную лечебницу, где за то, чтобы содержать ее в качестве пациентки, наверное, была выплачена такая сумма, которую не может себе позволить бедный человек.
– Я понимаю ваши опасения, мистер Хартрайт, и даю вам слово, что постараюсь разрешить их, вне зависимости от того, поможет нам в этом Анна Кэтерик или нет. Сэр Персиваль Глайд не пробудет в нашем доме долго, если не предоставит мне и мистеру Гилмору исчерпывающие объяснения. Будущее моей сестры составляет главную заботу моей жизни, и я имею на нее достаточно влияния, чтобы посоветовать разорвать помолвку.
Мы расстались, договорившись отправиться на ферму на следующее же утро, сразу после завтрака, однако препятствие, воспоминания о котором совершенно изгладились из моей памяти из-за вечерних происшествий, помешало нам выйти немедленно.
Это был мой последний день в Лиммеридже, и было необходимо сразу же по приходу почты воспользоваться советом мисс Холкомб и испросить у мистера Фэрли позволения сократить срок моего пребывания на месяц относительно договора ввиду непредвиденных обстоятельств, вынуждающих меня немедленно вернуться в Лондон.
По счастью, словно для того, чтобы видимость была соблюдена, придуманный мной предлог подкрепили пришедшие в то утро на мое имя два письма из Лондона. Я взял их в свою комнату и послал слугу к мистеру Фэрли узнать, могу ли я видеть его по делу.
Я ожидал возвращения слуги, не испытывая ни малейшего беспокойства о том, как хозяин примет мою просьбу. С разрешения мистера Фэрли или без него я должен ехать. Мысль о том, что я уже сделал первый шаг на печальном пути, который отныне и навсегда разлучит нас с мисс Фэрли, казалось, притупила мою чувствительность ко всему другому. Не осталось во мне ни щекотливой гордости бедняка, ни мелкого тщеславия художника. Никакая дерзость мистера Фэрли – если бы ему вздумалось быть дерзким – не могла бы меня теперь ранить.
Слуга вернулся с ответом, к которому я был готов. Мистер Фэрли сожалел, что состояние его здоровья, особенно в это утро, таково, что лишало его всякой надежды иметь удовольствие принять меня. Поэтому он просил извинить его и любезно сообщить, чего я хочу, в письменной форме. Подобные послания я уже не раз получал от него в течение моего трехмесячного пребывания в Лиммеридже. Все это время мистер Фэрли сообщал, как счастлив, что я нахожусь в его доме, но не чувствовал себя достаточно хорошо, чтобы принять меня вторично. Слуга брал готовые рисунки, реставрированные и окантованные мной, относил их своему хозяину с «засвидетельствованием моего почтения» и возвращался назад с пустыми руками, передавая от мистера Фэрли «поклоны», «тысячи благодарностей» и «искренние сожаления» о том, что состояние здоровья все еще вынуждает его оставаться одиноким пленником в своей комнате. Трудно сказать, кто из нас двоих при сложившихся обстоятельствах чувствовал бо́льшую благодарность к больным нервам мистера Фэрли.
Я немедленно принялся за письмо, излагая свое дело настолько почтительно, ясно и кратко, насколько это было возможно. Мистер Фэрли не спешил с ответом. Прошел почти час, прежде чем записка от него оказалась у меня в руках. Ответ был написан красивым, правильным почерком, лиловыми чернилами, на бумаге гладкой, подобно слоновой кости, и почти такой же толстой, как картон, и содержал в себе следующее:
Мистер Фэрли кланяется мистеру Хартрайту. Мистер Фэрли удивлен и разочарован – плохое самочувствие не позволяет высказать, до какой степени, – просьбой мистера Хартрайта. Мистер Фэрли не деловой человек, но он посоветовался со своим дворецким, который таковым является, и тот подтвердил мнение мистера Фэрли, что просьба мистера Хартрайта разорвать договор не может быть оправдана никакой необходимостью, единственно если бы речь шла о жизни и смерти. Если высокое чувство преклонения перед Искусством и его жрецами, составляющее утешение и счастье безотрадного существования мистера Фэрли, и могло бы быть поколеблено, то это случилось бы теперь, и причиной тому стал бы поступок мистера Хартрайта. Этого, однако, не произошло, разве что со стороны мистера Фэрли переменилось отношение к самому мистеру Хартрайту.
Высказав свое мнение – насколько позволяет ему сильнейшее страдание, вызванное больными нервами, – мистер Фэрли более не имеет ничего добавить, кроме как собственно сформулировать решение относительно в высшей степени неправомерной просьбы, поступившей к нему. Совершенное спокойствие духа и тела чрезвычайно важны для мистера Фэрли, и он не допустит, чтобы мистер Хартрайт нарушал сей покой, оставаясь и дальше в его доме при обстоятельствах крайне раздражающего свойства для обеих сторон. Сообразно с этим мистер Фэрли отказывается от права настаивать на соблюдении договора, единственно с целью оградить собственный покой, и уведомляет мистера Хартрайта, что он может покинуть Лиммеридж-Хаус.
Я сложил письмо и убрал его вместе с другими моими бумагами. Было время, когда я счел бы его оскорбительным, теперь же я смотрел на него как на освобождение от моих обязательств. Когда я спускался в столовую сообщить мисс Холкомб, что готов идти с ней на ферму, я уже не думал о письме, оно словно ускользнуло из моей памяти.
– Мистер Фэрли удовлетворил вашу просьбу? – спросила мисс Холкомб, когда мы вышли из дому.
– Он разрешил мне уехать, мисс Холкомб.
Она быстро взглянула на меня и впервые за время нашего знакомства по собственному почину взяла меня под руку. Никакие слова не могли выразить с большей деликатностью, что она понимает, в каких выражениях мне было дано разрешение оставить мое место, и что она сочувствует мне не как человек, стоящий выше меня, но как друг. Меня не задел оскорбительный тон мужского письма, но глубоко тронула искупающая его женская доброта.
По пути к ферме мы условились, что мисс Холкомб войдет в дом одна, а я буду ждать неподалеку. Это решение мы приняли из опасения, что мое присутствие после того, что произошло накануне вечером на кладбище, вновь напугает Анну Кэтерик и только усугубит недоверие к незнакомой ей женщине. Мисс Холкомб оставила меня, для начала намереваясь поговорить с женой фермера (в чьей дружеской готовности оказать нам помощь она не сомневалась), я же поджидал ее у дома.
Я полагал, что пробуду в одиночестве довольно долго. Но, к моему удивлению, не прошло и пяти минут, как мисс Холкомб вернулась.
– Анна Кэтерик отказалась поговорить с вами? – спросил я удивленно.
– Анна Кэтерик уехала, – ответила мисс Холкомб.
– Уехала?!
– Уехала с миссис Клеменс. Они обе покинули ферму в восемь часов утра.
Я не мог вымолвить ни слова… Я чувствовал, что наш последний шанс узнать истину исчез вместе с ними.
– Сейчас мне известно все, что знала о своих гостьях миссис Тодд, – продолжила мисс Холкомб, – но это мало что объясняет. Вчера, расставшись с вами, они благополучно добрались до дома и часть вечера провели, как обычно, с домочадцами мистера Тодда. Однако перед ужином Анна Кэтерик напугала всех, неожиданно потеряв сознание. Похожий обморок, но немного слабее с ней случился в день, когда она только приехала на ферму, и миссис Тодд приписала его тогда тому, что Анну потрясла какая-то новость, вычитанная ею из лежавшей на столе местной газеты, которую Анна принялась читать за минуту или две до обморока.
– А миссис Тодд знает, какая заметка в газете так потрясла Анну Кэтерик?
– Нет, – ответила мисс Холкомб. – Она просмотрела газету и не нашла ничего стоящего внимания. Я, однако, попросила позволения взглянуть на газету и на первой же полосе увидела, что редактор за недостатком новостей разместил среди прочих заметку о предстоящем браке моей сестры, перепечатав ее из раздела «Великосветская хроника» одной лондонской газеты. Мне сразу же стало понятно, что именно эта заметка так взволновала Анну Кэтерик и побудила ее на следующее утро написать анонимное письмо и передать его Лоре.
– В этом не может быть сомнения. Но что стало причиной ее второго обморока?
– Неизвестно. Причина совершенно непонятна. В комнате не было чужих. Единственной гостьей была наша молочница, дочь мистера Тодда, как я вам уже говорила; разговор шел о самых обычных вещах – местных сплетнях и новостях. Все слышали и видели, как Анна вдруг вскрикнула и смертельно побледнела без всякой причины. Ее отвели наверх, и миссис Клеменс осталась с ней. Судя по доносившимся голосам, они еще долго что-то обсуждали, после того как все отправились спать, а сегодня рано утром миссис Клеменс отозвала миссис Тодд в сторону и чрезвычайно удивила ее, объявив, что они должны уехать. Единственное объяснение, которого миссис Тодд смогла добиться от своей гостьи, состояло в следующем: произошло нечто такое, в чем не повинен никто из обитателей фермы, однако происшедшее настолько серьезно, что вынуждает Анну Кэтерик немедленно покинуть Лиммеридж. Добиться от миссис Клеменс более вразумительных объяснений не представлялось возможным. Она лишь качала головой и приговаривала, что ради блага Анны всеми святыми молит не расспрашивать бедняжку ни о чем. По-видимому серьезно взволнованная, она снова и снова повторяла, что Анне необходимо уехать, что она должна ехать вместе с ней и что для всех должно остаться тайной, куда они собираются. Избавлю вас от подробностей увещеваний и попыток, предпринятых миссис Тодд, уговорить своих гостий остаться. Кончилось все тем, что она отвезла обеих женщин на ближайшую станцию спустя более чем три часа. По пути миссис Тодд продолжала настаивать, чтобы ей объяснили, в чем дело, но тщетно; она высадила женщин у дверей станции, до такой степени оскорбленная их бесцеремонным отъездом и нежеланием довериться ее дружескому участию, что в сердцах уехала, даже не попрощавшись с ними. Вот, собственно, и все. Попытайтесь припомнить, мистер Хартрайт, не случилось ли вчера на кладбище чего-нибудь такого, что могло бы объяснить нам странный отъезд этих женщин?
– Для начала, мисс Холкомб, я хотел бы понять причину внезапного обморока Анны Кэтерик, так взволновавшего обитателей фермы, ведь с того момента, как мы расстались на кладбище, прошло несколько часов и было достаточно времени, чтобы сильное волнение, которое я имел несчастье причинить ей, утихло. Расспросили ли вы, что именно за новости обсуждались в комнате в тот момент, когда она потеряла сознание?
– Да. Но миссис Тодд, хлопотавшая по хозяйству, почти не слышала этого разговора. Она могла только сказать мне, что обсуждались «обычные новости», – думаю, это значит, что они, по своему обыкновению, толковали о делах друг друга.
– Может быть, у вашей молочницы память лучше, чем у ее матери? – сказал я. – Хорошо бы поговорить с этой девушкой, мисс Холкомб, сразу по нашему возвращении.
Мое предложение было принято, и, когда мы вернулись в поместье, мисс Холкомб первым делом повела меня в помещения для прислуги, где в молочной мы застали молодую девушку, которая, засучив рукава, мыла большой бидон и пела за работой.
– Я привела этого джентльмена посмотреть вашу молочную, Ханна, – сказала мисс Холкомб. – Это одна из достопримечательностей нашего дома, что, несомненно, делает тебе честь.
Девушка покраснела, поклонилась и застенчиво ответила, что она старается всегда держать все в чистоте и порядке.
– Мы только что вернулись с фермы твоего отца, – продолжила мисс Холкомб. – Я слышала, что вчера вечером ты была дома и застала там гостей.
– Да, мисс.
– Мне говорили, что одной из гостий сделалось дурно и что она потеряла сознание. Не напугали ли ее чем-нибудь? Уж не разговаривали ли вы о чем-нибудь страшном?
– О нет, мисс! – засмеялась девушка. – Мы просто обменивались всякими новостями.
– Вероятно, твои сестры рассказывали тебе о ферме?
– Да, мисс.
– А ты рассказывала им о Лиммердж-Хаусе?
– Да, мисс. Я совершенно уверена, что ничего такого, что могло бы напугать бедняжку, сказано не было, ведь ей стало нехорошо, именно когда я говорила. Я сама испугалась, мисс, глядя на нее; я никогда прежде не видела, как падают в обморок.
Прежде чем мы смогли задать девушке следующие вопросы, ее позвали забрать корзинку с яйцами. Когда она отошла к дверям, я шепнул мисс Холкомб:
– Спросите, не упоминала ли она, что в Лиммеридж-Хаусе ждут гостей.
Мисс Холкомб взглядом дала мне знать, что все поняла, и задала вопрос, как только девушка вернулась.
– О да, мисс, я об этом говорила, – чистосердечно ответила девушка. – О том, что ожидаются гости, да о том, что пестрая корова заболела, – вот все новости, которые я принесла с собой на ферму.