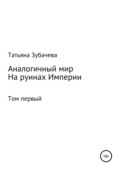Татьяна Николаевна Зубачева
Мир Гаора. Сторрам
– Спасибо за науку, господин надзиратель, – как со стороны услышал Гаор свой голос.
– А теперь за лечение.
– Спасибо за лечение, господин надзиратель.
– А теперь лезь на место, и если я тебя услышу, то, что было, игрушками будет. Понял?
– Да, господин надзиратель.
– Пошёл! И все пошли! Всем спать, и Огонь молить, чтоб я не рассердился.
Все молча шарахнулись по койкам.
Надзиратель не спеша прошёл к выходу, вышел и с лязгом задвинул дверь. Так же не спеша прошёлся по коридору вдоль спален и, наконец, далеко, еле слышно, стукнула, закрываясь, дверь надзирательской. И погас свет.
Как ему удалось подтянуться и лечь на койку, Гаор не понял тогда и не понимал потом. Тело онемело, он не чувствовал его, только мучительно болела голова, хотя по ней-то совсем мало пришлось. Он лёг и провалился в черноту.
В наступившей тишине всхлипнула девчонка.
– Цыц, – шёпотом сказал Старший, – услышит, вернётся.
– Дяденька, – тоненько заплакала она, – я боюсь, дяденька.
– Боишься, так и сидела бы у себя, – откликнулся женский голос.
С койки Старшего соскользнула женщина в мужской, еле прикрывающей ей бёдра рубашке.
– Айда, девка, – позвала она, – коли к мужикам лазишь, так бояться уж поздно.
– Валите, пока дверь закрыта, – сказал Старший.
Женщина что-то хотела ему сказать, он отмахнулся от неё. Из глубины спальни выбежала девчонка, тоже в мужской, но ей почти до колен, рубашке. На секунду две тени помедлили у решётки, прислушиваясь, ловко протиснулись между прутьями и исчезли.
Спальня прислушивалась, затаив дыхание. Но было тихо, видно, сволочь отвела душу и спать завалилась.
– Полоша, – позвал Старший, – посмотри, как он. Живой?
– Дышит, – после недолгой паузы ответил Полоша.
– Всё, мужики, всё завтра, – сказал Старший.
Кто-то в ответ вздохнул, кто-то шёпотом выругался. И вдруг звонким шёпотом заговорил Тукман.
– Зуда, а чего ты наврал, а?
– Цыц, – испуганно откликнулся Зуда, – заткнись, дурак.
– Сам дурак, – обиделся Тукман. – Говорил, у него гладко, ничего нет, а всё наврал. Я, пока его били, рассмотрел, всё у него как у всех, только волосьёв нету. А ты наврал всё, что у него как у лягушки везде гладко.
– Во дурак, – с мрачным удивлением сказал Мастак. – Так ты за этим к нему и полез?
– Ага, – согласился Тукман. – Я ж не поверил, а Зуда говорит, ты пощупай, как заснёт, а то он прикрывается всегда.
Спальня потрясённо молчала.
– Разглядел, значит? – спокойно спросил Старший.
– Ага.
– Ну, так спи теперь.
– Ага, – сонным голосом согласился Тукман.
Когда он засопел, подал голос Зуда.
– Братцы, я ж не хотел, я для смеха…
– С тобой отдельный разговор будет, – ответил Старший. – Всем спать.
Ничего этого Гаор не слышал. Где он, что с ним… ослепительные вспышки не впереди, не сзади, а где-то внутри головы, голова большая и лёгкая, она бы улетела, но её держит тяжёлое, налитое свинцом тело… мимо глаз трассирующие беззвучные пули… вставшая стеной и бьющая в лицо земля… белый круг хирургической лампы, боль в онемевшем теле и хруст разрезаемой кожи… «А вот и она, повезло тебе, сержант, на два ногтя правее и не довезли бы.»… гранитная крошка забивает глаза и рот… колышется чёрная густая вода… это Ущелье или Алзон? Вода в Алзоне, чёрные болота, заглатывающие машины целиком вместе с людьми… проломлена гать… прыгай… Куда?… Прыгай!
Его тело конвульсивно содрогнулось, выполняя ненужную команду. И новый приступ боли снова отбросил его в прошлое… грузовик трясётся на разбитой дороге, каждый толчок отзывается болью, «…тише, парни, тише, не кричите, потерпите, парни, проскочим…» по шоссе нельзя, там заслон, спецвойска, безнадёжных не вывозить, просёлок не перекрыли, проскочим… голова, как болит голова… и тошнит, сейчас вывернет… «…у тебя контузия, потерпи…»
И темнота, чёрная, сплошная и прозрачная сразу, он плывёт в ней, или его несёт, переворачивает, скручивает жгутом, это переправа, Валсская переправа, быстрая с водоворотами и опасными стремнинами Валса, его тянет ко дну, надо всплыть, оружие над головой, снесёт на мины, всплыть, пока не стреляют, с двух до полтретьего у айгринов перезарядка аккумуляторов, когда зарядят, включат прожектора, надо успеть… Валса, какая ты широкая, Валса… Кричат… далеко кричат… в атаку? Нет…
4 день
– Подъём, – наконец услышал он и со стоном открыл глаза.
Тело казалось по-прежнему онемевшим и плохо слушалось. И с каждым движением оживала и нарастала боль. Но… если не можешь ходить, будешь лежать в печке. Седой просил его выжить.
Преодолевая боль, Гаор сел, достал из тумбочки и натянул бельё, слез вниз и побрёл в уборную.
– Рыжий, жив? – спросил кто-то.
– А ты, паря, того… – сказал рядом ещё кто-то.
Конца фразы Гаор не расслышал. Больно, всё больно, всё болит. Не можешь ходить, будешь в печке лежать. Кто выжил, тот и победил…
Он вернулся из уборной, натянул комбинезон, обулся и пошёл в столовую. По-прежнему кружилась голова, и звенело в ушах от боли, иногда его пошатывало, и он налетал на идущих рядом, кажется, ему что-то говорили, он не слышал и не понимал. Но дошёл до своего места, сел, перед ним поставили миску с кашей, кружку с кофе и положили ломоть хлеба.
Гаор взял ложку, набрал, поднёс ко рту и… не смог проглотить. Комок боли в груди не пропускал еду. Осторожно, боясь уронить, он взял кружку и стал пить маленькими глотками, проталкивая с кофе застрявшую в горле кашу. Нет, есть он не может, желудок сводит спазмами, вот-вот вывернет. Удалось нащипать и немного съесть вместе с кофе хлебного мякиша. Что-то сказал Зайча. Он не понял и не ответил, занятый одним: не закричать и не потерять сознания. Гаор допил кофе и встал со всеми из-за стола, оставив нетронутой кашу, шевельнул губами, благодаря Мать, встревожено глядевшую на него, и вышел со всеми в коридор.
Построение, надзиратель идёт вдоль строя, выдернет и снова будет бить, или это другой? Всё в тумане. Налево… марш… холодный воздух обжигает лицо, не отстать от Плешака и не упасть прямо на глазах у надзирателей, гулкий свод, двери складов… обыск… как больно, кричать нельзя… пронесло… быстрый шёпот Плешака.
– Ты не рвись, Рыжий, ты держись за него, я сам подвину. Ах ты, владычица земная, ты держись, Рыжий…
Да, надо держаться… больно… через боль… не можешь ходить, будешь лежать… нет, врёшь, не сдамся, нет… сволочи, обойду, найду проход, нет, этих вы не возьмёте… игра в кошки-мышки со спецвойсками – опасная игра, но добивать раненых он не даст… из Ущелья… нет, там не вывозили, кто мог выходил, кто не мог оставался лежать под гранитными обломками… нет… больно… сволочь, не возьмёшь… выживу… Седой велел выжить… Только ты… да, только я, значит… выживу… нет… больно…
– Рыжий, обед…
Снова идти, снова от каждого шага боль, туман не проходит, надо идти…
Гаор дошёл, не стал умываться, не пошёл в уборную, боясь, что этой боли точно не выдержит, и сразу сел к столу. Но смог съесть только несколько ложек жижи из супа, хотя налили ему густоты, кашу и хлеб не тронул и выпил того, что в обед наливали в кружки и называли киселём. Обычно кисель ему даже нравился, но сегодня ни до чего. Желудок сжимался, выталкивая наружу проглоченное.
– Рыжий, построение…
Он опёрся руками о стол, вставая, и это отозвалось такой болью в плечах и спине, что он застонал почти в голос.
Опять всё сначала. Построение, марш, работа. Прежнего тумана в глазах уже нет, но онемевшее тело отходило и болело всё сильнее. И всё труднее удерживать стоны. Гаор бездумно что-то таскал, катил, переносил с места на место, слышал Плешака, но ничего не понимал.
– Держись, Рыжий, ты полежи пока, я их сам подвину.
– Лягу… не… встану… – раздельно ответил он.
– Ох, владычица земная, спаси и сохрани…
Звонок. Вечерний обыск. Он стонет под руками надзирателя, почти не скрываясь.
– Кто его так? – тихо спрашивает надзиратель.
Ответа Плешака он не разобрал. Снова марш, построение. Ветер пробирает сквозь комбез, даже чуть легче стало, нет, это, пока стоишь, то терпимо. На обыск.
Гаор встаёт к стене и, содрогаясь, ждёт новой боли. Чьи-то руки, еле касаясь, скользят по его телу, и вдруг… голос Гархема.
– Говорят, ты ночью плохо спал?
И похлопывание по спине. Не дубинкой, рукой, мягкой ладонью, но Гаор ощущает их ударами и чувствует, как они разрывают ему внутренности.
– Больше не будешь шуметь по ночам? – и новое похлопывание.
– Не буду, господин управляющий.
– Правильно, – хлопок, – иди, – хлопок.
Последний выбивает из Гаора полувсхлип-полустон. Пошатываясь, Гаор идёт к входу, ничего не видя и не слыша вокруг.
Удивленно приподняв брови, Гархем смотрел ему вслед.
– Говорите, хвастал, что слегка поучил? Один раз и на всю жизнь? Пригласите ко мне начальника ночной смены. Это уже интересно.
Гаор смог спуститься, пройти в спальню, снять комбез, повесить его, разуться. Вокруг обычная вечерняя суета. Но ему… ему ни до чего… Он постоял, держась за стояк.
– Эй, Рыжий, чего ждёшь, айда лопать…
– Паря, поесть надо, свалишься…
Голоса доходили до него глухо, понимать сказанное мешала боль. Он оттолкнулся от стояка и пошёл в уборную. Неужели, эта сволочь отбила ему почки. Тогда конец.
Крови не было, но боль такая, что он заткнул себе рот кулаком и так постоял, пережидая, пересиливая её. А когда вернулся в спальню, там никого не было, все ушли на ужин. Нет, не пойдёт, есть он всё равно не может, съеденное за обедом вот-вот наружу попросится. Надо лечь. Полежать и отлежаться. Гаор подошёл к своей койке, взялся за край и попробовал подтянуться. И вскрикнув от боли, сорвался и полетел в темноту…
Мать уже начала раздавать кашу, а Рыжего всё не было. К столу не опаздывали. Плохо парню, конечно, но чтоб на еду не пришёл… И остальные не начинали есть, поглядывая на миску с воткнутой в кашу ложкой перед пустотой.
– Ой, – сказал кто-то, – как покойнику на помин поставили.
Бледный Зуда – с ним весь день никто не разговаривал – совсем съёжился, не решаясь поднять глаза. Одна из девчонок вдруг сорвалась с места, схватила миску Рыжего и бросила её перед Зудой.
– На! Жри! Чтоб его кусок тебе поперёк глотки твоей поганой стал! – выкрикнула она и выбежала из столовой.
– А чего она? – удивлённо спросил Тукман.
– Ешь давай, – ответил Старший, – какой с тебя спрос.
Зуда сидел неподвижно, не смея взять ложку, да и остальные ели как-то неуверенно. Не было слышно обычной трескотни и смеха за женским столом. Только Тукман радостно молотил кашу, поглядывая на стоящие перед Зудой миски.
– Ой, – вдруг влетела в столовую та самая девчонка, – ой, Мамушка, он лежит и не кричит даже. Я его тронуть побоялась…
– Цыц, – встала Мать. – Садись и ешь, стрекотуха. Старший, Матуха, пошли.
Старший воткнул ложку в недоеденную кашу и встал.
– Все ешьте, – бросила Мать через плечо, выходя из столовой.
Но хоть звала она из мужчин только Старшего, сорвался следом за ней Плешак, на ходу бросив соседям:
– Напарник он мой.
За Плешаком, разумеется, Булан, Зайча и Полоша как соседи. И в мужскую спальню они вошли целой гурьбой.
И сразу увидели его. Он лежал на полу возле койки, раскинув руки, в одном белье и часто мелко дышал, вскрикивая при попытке вздохнуть. Мать наклонилась над ним, осторожно похлопала по щеке.
– Рыжий, очнись, Рыжий.
Он словно не услышал её.
– Никак оммороком вдарило? – неуверенно предположил Плешак.
– Да как бы не хуже, – ответила Матуха, отодвигая Мать и присаживаясь на корточки рядом с распростёртым телом.
Она осторожно положила руку ему на грудь, нащупывая ладонью сердце. Он застонал, не открывая глаз. Матуха подняла голову, снизу вверх посмотрела на Мать.
– Решай, Мать, вытаскиваем, али пускай?
– Да как это пускай?! – даже взвизгнул Плешак. – Парень за всех можно сказать, да за чужую глупость…
– Заткнись, Плешак, – остановила его Матуха. – Не Тукман же ты. Решай, Мать.
– Воду просить будем? – задумчиво спросила Мать, глядя на Матуху.
– Больше здесь некого. А парня жалко. Ни зá что попал.
– Давай, – кивнула Мать и повернулась к мужчинам. – Попробуем вытащить его. Делать всё будете по нашему слову.
Мужчины кивнули.
– Сейчас разденем его, – встала Матуха, – и на койку пока положим. Где его?
– Вона, верхняя, – показал Полоша. – Видно лечь хотел и упал.
– Говоришь много. Пока к тебе положим. Помогайте, мужики.
Старший и Полоша, отодвинув женщин, подняли тяжёлое тело и положили ни койку Полоши.
– Разденем мы его сами, – командовала Матуха, – Плешак, воду горячую из всех кранов в душевой пусти.
– И есть идите, – строго сказала Мать. – Старший, скажешь там.
Матуха и Мать вдвоём наклонились над неподвижным телом и стали его раздевать. Он, не сопротивляясь, тихо стонал.
– Уж не знаю, за что и тронуть его, – вздохнула Мать, – смотри, Матуха, кудри развились.
– Одеяло его возьми, – ответила Матуха, – прикроем его пока, – и осторожно погладила прилипшие к бледному лбу тёмно-рыжие прядки. – Нет, Мать, молод он для Ирий-сада, не пущу!
– Как скажешь, – ответила Мать, бережно, чтоб мягче легло, накрывая обнажённое тело одеялом, – тут ты главная. А синяков-то нет. И не распухло нигде.
– Внутри они у него, – ответила Матуха, – изнутри и пухнет, оттого и есть не мог. Пошли, Мать, до отбоя успеть надо.
Столовая встретила их настороженно выжидающим молчанием.
– Всем есть и быстро выметаться, – скомандовала Мать. – Маманя, посуду пусть без тебя моют. Мужики, где хотите, но чтоб его не трогать и в мыльную, пока не скажем, не заходить. Старший, за Тукманом следи, с него и не то станется.
– Я пригляжу, – сказал Тарпан.
– Раньше приглядывать надо было, – отрезала Мать. – Ну, да что теперь.
Ели все быстро, без обычных смешков и разговоров. И из-за стола встали, не благодаря Мать, только молча кланяясь.
В спальню мужчины заходили осторожно и, косясь на койку Полоши, рассаживались по своим, сбиваясь в компании земель и бригад. Зуда сидел на своей койке, и вокруг него было пусто: ближайшие соседи пересели к другим. И говорили все тихо, полушёпотом. Даже Махотка не пошёл, как обычно, в коридор зубоскалить с девками, а смирно сидел рядом с Мухортиком, и так щуплым, а сейчас словно истаявшим от страха и ожидания.
Матери вошли все вместе, вшестером, все с распущенными волосами в одних белых рубашках-безрукавках. Тукман открыл было рот, но Тарпан быстро пригнул его голову к своим коленям.
– Не смотри, нельзя, – шепнул он.
Тукман послушно зажмурился. Остальные, сидели неподвижно, отводя глаза.
Матери подошли к койке Полоши, сняли одеяло, дружно подняли и поставили на ноги бессильно обвисающее тело. Окружив, поддерживая, подпирая его своими телами, повели в душевую.
Когда за ними закрылась дверь, Старший перевёл дыхание.
– Так, мужики, не шуметь и не заходить. А в остальном, что хотите.
– Знаем, – откликнулся за всех Тарпан и отпустил Тукмана. – Давай в чёт-нечет играть.
– Давай, – согласился Тукман, очень обрадованный таким предложением. Обычно с ним никто играть не хотел.
Сквозь боль и беспамятство Гаор чувствовал, что его трогают, но не то что оттолкнуть эти руки, даже закричать не мог, силы не было, он как истаивал, растворялся в затопляющей его боли. Остатки сознания как лоскуты снега в горячей воде, сейчас растают, и ничего уже не будет, ни боли, ничего… Умирать не больно… пока болит, ты живой, скоро боль кончится, осталось немного… надо потерпеть, немного потерпеть…
Над ним зазвучали голоса.
– Потерпи, парень…
– Кладём его…
– Ох, сволочь какая, что сделал…
– Руки клади…
Жарко, как же жарко, нечем дышать…
Широко раскрытым ртом Гаор хватал влажный горячий воздух, и не мог вдохнуть, протолкнуть застрявший в даже не в горле, а в груди комок.
Чья-то ладонь мягко касается его лица и волос. Это было, когда-то было… Он со стоном открывает глаза. Горячий белый туман, и в этом тумане странные белые фигуры. Женщины? Но почему они… такие?
– Как звать тебя?
– Рыжий, – стоном вырывается из сразу пересохшего горящего рта.
– А раньше как звали?
Раньше это до рабства? Зачем это?
– Гаор… Гаор Юрд…
– Нет, нельзя, не придет Мать-Вода на такое.
– Да уж, не имя, карканье воронье.
Звучат странные непонятные слова, чьи-то руки гладят, растирают ему ступни и кисти, почему-то становится легче дышать.
– Мáтерино имя назови, как мать звала?
Женское лицо склоняется над ним, светлые прозрачно-серые, как тучи на осеннем небе, большие глаза глядят строго и ласково.
– Не помню… – отвечает он этим глазам, – ничего не помню.
– Неужто матерь рóдную забыл?
– Мне запретили помнить…
– Сколько ж было тебе, как забрали?
– Пять…
– Сиротинушка значит,
– Ни матери, ни отца…
– На Рыжего звать будем.
– Не на карканье же это.
И протяжное монотонное пение, непонятные слова…
– Мать-Вода, Рыжего мимо бед пронеси, ты льдом крепка, ты паром легка, приди, Мать-Вода, пронеси мимо бед, не виноватый он в бедах своих…
Руки, гладящие, растирающие ему грудь… Вдруг комок исчезает, и он с всхлипом втягивает в себя воздух.
– Пришла, Мать-Вода
– Вижу, поворачивайте, там вся боль…
Его поворачивают на живот, и те же руки ложатся на его спину. Он вздрагивает, обречённо ждёт боли, но боли нет, она далекая, слабая, но опять становится тяжело дышать.
– Матуня, холодянки ему под лицо поставь.
– И виски смочи.
Прямо у лица прохлада, он, не открывая глаз, тянется к ней, окунает лицо в холодную воду.
– Смотри-ка, не захлёбывается, приняла его вода.
– Пить ему не давай, сердце зайдётся.
– Знаю. Ты не пей, Рыжий, нельзя, дай я тебе виски смочу.
Прохлада отодвигается, но маленькая рука смачивает ему виски, обтирает лицо, и он шевелит губами в беззвучной благодарности.
– Рыжий, Рыжий, – зовут его.
Он с трудом открывает глаза, разрывая слипшиеся от выступивших и мгновенно высохших слёз ресницы. И видит прямо перед собой лицо Матуни, но… но что не так?
– Повторяй, Рыжий, повторяй за мной. Вода-Вода, обмой меня, унеси горести прошлые, принеси радости будущие.
– Матуня, ему сильнее надо, – говорит над ним голос Матери.
– Рано ему Мать-Воду звать, – строго отвечает Матуня, – это в самый раз будет. Повторяй, Рыжий, повторяй за мной. Вода-вода, обмой меня…
Он послушно шевелит губами, выговаривая непонятные слова, и не сразу замечает, что его шёпот уже не отзывается болью в теле, что руки на его спине и ягодицах все сильнее разминают, месят его тело, а боли нет, что он уже почти свободно дышит. Он вдруг осознаёт, что это душевая, он лежит на скамейке, а жарко от горячей воды, что бьёт из всех открытых до отказа кранов, а перед ним Матуня держит маленький пластиковый тазик с холодной водой. Он пытается высвободить руку – они почему-то как-то странно подвернуты у него под тело – и дотянуться до воды.
– Ну, вот и зашевелился, – смеется Матуня, – ты лежи, Рыжий, я подам.
Она окунает руку в воду и обтирает ему лицо, смачивает виски. Но… но Матуня голая. Что это? Его вдруг поворачивают на спину. Боли нет, но он видит вокруг себя матерей, всех шестерых, и они голые, что это? Что они делают? Он пытается прикрыться, но они властно убирают его руки.
– Промеж ног бил? – спрашивает Матуха.
– Да, – отвечает он, зажмурившись.
– Сейчас посмотрю, терпи.
Да, здесь боль ещё сильная, он даже вскрикивает, такой сильной она становится на мгновение.
– Ну что там у него?
– Обойдётся, не раздробил.
Лицо горит то ли от жара, то ли от стыда. Но на сопротивление нет ни желания, ни сил. Их руки, он уже понимает, что это они сняли, куда-то забрали боль, которая не давала ему дышать, есть, двигаться, продолжают гладить, растирать его грудь и живот.
– Дай-ка я ему живот помну.
– Вроде цело там.
– Да, не порвано, обошлось. Сядь, Рыжий.
Ему помогают сесть, и он невольно открывает глаза. Пять женщин стоят перед ним. Голые, с распущенными волосами, он никогда не видел такого, не знает, куда отвести глаза от вьющихся волос на их животах. А рядом садится Матуха и обнимает его со спины, прижимаясь щекой к его спине.
– Дыши, Рыжий. Больно дышать?
– Уже… нет… – отвечает он между выдохами.
– Покашляй.
Кашлять страшно, он ещё помнит, как это было больно, но послушно пытается. Кашель отзывается слабой далёкой болью, но это он может терпеть. Если б ещё они оделись… Не им, ему стыдно… Он склоняется вперед, горбится, закрываясь руками.
Рука Матери властно нажимает ему на голову, откидывая к стене.
– Мы Матери все, не стыдись, нас стыдиться нечего. Мы всё про вас знаем. Рожаем вас, видим, какие вы, зачинаем от вас, видим, какие есть, и обмываем, как в землю положить, тоже видим, какими стали. Подними глаза, Рыжий.
Он заставляет себя поднять веки и смотрит теперь им прямо в лицо.
– Приняла тебя Мать-Вода, не чужой ты нам. Понесёт тебя теперь Мать-Вода мимо горестей.
– Мать-Вода, – старательно повторяет он, – Кто это?
– Потом узнаешь, – улыбается Мать, – очунелся, вижу, любопытным стал.
Улыбаются остальные, смеётся Матуня.
– Ты Матерей не стыдись, – строго говорит Матуха, – нам всё знать можно. Кровь в моче увидишь, или кашлять с кровью станешь, сразу приходи.
Он кивает. Это понятно, но…
– А теперь ложись, сейчас мы тебя ещё раз, уже без зáговора помнём. Матуня, воду выключи, пусть остывает, а то прохватит его.
Он послушно опускается на скамейку, вытягивается на животе, всё опять становится далеким и плохо различимым, но уже не страшным.
– Маманя, ты ему завтра отдельно размазни сделай плошку.
– И травки заварить какой?
– Я посмотрю у себя.
– Пусть побережётся первое время.
– Может, дневальным его оставить, полежит хоть.
– Нет, пусть ходит, да и кто завтра-то?
– Нет, этот не даст.
– Верно, пусть идёт. Он с Плешаком ведь?
– Плешак не подставит, пусть идёт.
Слова доходили издалека, он слышал и не слушал. Блаженное чувство расслабленности от массажа он знал, массажу их учили в училище, в госпитале он тогда попал на экспериментальный курс лечебного массажа – перед тем, как лечить офицеров, новый метод опробовали на рядовых, но сейчас… сейчас это совсем другое. И дело не в том, что это женщины, нет… он знает женские руки, это другие, как тогда… в лунном сиянье снег серебрится… нет, не сейчас, нет…
– Рыжий, что с тобой? – Матуня заглядывает ему в лицо и удивлённо говорит. – Плачет.
– Пусть плачет, – жёсткая рука Матери проводит по его волосам. – Слезой у человека горе выходит.
– Без матери рос, – качает головой Маанька, – а сердце живое, не выжгли ему сердце, значит.
– Видно, мать отмолила его.
Голоса становятся совсем далёкими, он опять уплывает в темноту, мягкую и тёплую темноту сна.
– Всё, бабы, – выпрямилась Мать, – давайте убирать.
– Вытащили, – улыбалась Матуха, отжимая волосы.
Они быстро вытерлись, надели рубашки, тщательно вытерли, растёрли его мокрое от пота и осевшего пара тело, подняли и поставили на ноги и повели, снова подпирая, поддерживая собой. Он, как и тогда, бессильно обвисал, мотая опущенной головой с закрытыми глазами, но уже не стонал, а чуть слышно всхлипывал от недавнего плача.
Когда они вышли в спальню, мужчины опять дружно отвели глаза, потупились, а Тарпан опять пригнул Тукмана к своим коленям. Никто не решился подсматривать, как они вели, поднимали на койку и укладывали большое крепкое тело. Мать взяла его одеяло с койки Полоши, накрыла и аккуратно подоткнула с боков и под ноги.
– Грудь ему открой, – тихо сказала Мамушка.
– Не надо, – так же тихо ответила Матуха, вглядываясь в бледное осунувшееся лицо, – прохватит. Теперь только Мать-Вода, или пронесёт его, или ко дну в Мать-Землю опустит.
Шесть женщин прошли к двери и вышли в пустой тихий коридор. В дверях Мать оглянулась на Старшего, и он, сразу вскочив на ноги, подошёл к ней.
– Если встанет утром, – Мать быстро закручивала себе волосы на макушке, – пусть идёт.
– А не дневальным? – спросил Старший.
– Вспомни, кто завтра, только хуже будет.
– И то, – кивнул Старший. – А… а если…
Мать вздохнула.
– Что могли, мы сделали, а дальше не наша воля. Мать-Вода решит. Не трогайте его до утра. Или встанет, или уж всё.
И ушла.
В спальне задвигались, заговорили. Махотка пошёл зачем-то в душевую и тут же выскочил оттуда с криком.
– Братцы, парильня!
– Цыц, – остановил его Старший, – не кричи, пусть спит. Давайте, мужики, остатнего пара прихватим.
Сдерживая голоса, но с шутками и смехом мужчины побежали в душевую. Парильня – удовольствие редкое. До настоящей бани здешней, конечно, как до неба, но хоть что-то.
Зуда остался сидеть на своей койке, зная, что его сейчас хорошо, если просто изобьют, а то сунут ртом под кипяток и подержат, пока не захлебнётся. Видел он как-то, как с одним такое сделали. Ох, матушка рóдная, вот и пошутил с дураком, смертью шутка обернулась.
Гаор спал, ничего не слыша и не осознавая, без снов. К нему подходили, заглядывали в лицо, но не трогали и не звали, помня запрет Матери. До отбоя совсем ничего оставалось, спать пора.
– Ну и денёк выдался.
– Грех тебе жалиться, не ты криком кричал.
– Ну да, кабы Рыжий на себя не принял, все бы седня так лежали.
– Но ты смотри, сволочь какая.
– А что мы можем?
– Братцы, а если…
– Заткни хлебало, пока не услышали!
И когда уже прокричали отбой и выключили свет, Старший строго сказал:
– Молись, Зуда, чтоб Рыжий завтра встал. Жизнью ответишь.
Зуда только прерывисто вздохнул в ответ. Суровое молчание спальни не оставляло ему других шансов.
Посреди ночи Гаор проснулся как от толчка и не сразу понял, что его разбудило. Тихо, сумрачная темнота, ровное дыхание и похрапывание множества людей. Он лежит на своей койке, под одеялом, закутанный как… и тут сообразил: боли нет. Совсем нет. Он осторожно попробовал напрячь и распустить мышцы. Они слегка заныли, как после большой тренировки или марш-броска под выкладкой, но это же не боль, не та боль. А что же это было с ним? Воспоминания мешались обрывками, не выстраиваясь в ровную шеренгу. Ладно, это он успеет. Главное – печки уже не будет, эту боль он теперь шутя перенесёт. Он улыбнулся и повернулся набок, устраиваясь поудобнее. Голова мокрая. В душе он, что ли, опять был и не помнит? Ладно, неважно, к утру просохнет. А трусы его с майкой так, видно, и висят на трубе, пересохли, придётся разминать, чтоб надеть. Ладно, всё завтра… Главное – он здоров.
5 день
Но утром, попытавшись по привычке спрыгнуть вниз, Гаор понял, что ночью слишком обрадовался отсутствию боли и переоценил своё здоровье. Тело было слабым, бессильно ватным, подчинялось ему медленно, будто нехотя. А где-то далеко внутри была боль и не давала двигаться без оглядки. Как в госпитале, когда он встал после полутора декад лежания под капельницами. Но с этим, он помнил, справиться можно, главное – не дёргаться попусту. Он встал со всеми, оделся, всё, правда, медленно, осторожно, не впереди всех и даже не вровень со многими, но до столовой дошёл, сел на своё место, зачерпнул ложкой жидкую кашу и с опаской поднёс ко рту. Проглотилось неожиданно легко.
– Очунелся? – спросил Зайча.
Догадываясь о смысле, да и вчера Мать вроде, его так же спрашивала, Гаор кивнул. Занятый своими мыслями – как же он будет работать, Плешаку он сейчас не то что не подмога, а помеха, – он даже не обратил внимания, что и каша у него отдельно, полужидкая и другая, и в кружку ему налили не кофе как всем, а какой-то горячей и несладкой жидкости со странным, смутно напомнившим что-то давнее запахом.
За столом переглядывались, показывали друг другу на него глазами, удивлённо крутили головами. Сильны матери, считай, уже у смерти отняли, оклемался парень. Гаор этих переглядываний не заметил, как и радостно испуганных взглядов Зуды.
Встав со всеми из-за стола, Гаор пошёл на построение, уже привычно заняв место рядом с Плешаком. Построение, пересчёт и марш на работу.
Быстро идти он не мог, но шаг у него широкий, и, даже медленно переставляя ноги, он держался вровень с Плешаком. Спуск на склады, обыск, и за ними лязгает дверь.
– Ну, давай, паря, – Плешак пытливо посмотрел на него. – Могёшь?
Гаор осторожно, чтобы не вызвать боль, пожал плечами.
– Сам ещё не понял, – честно признался он.
– Ну, давай помаленьку, – сказал Плешак, – зазря жилы не рви, не дёргай, а мяконько толкай.
Гаор кивнул, становясь к контейнеру.
– А ты вчера пло-ох был, – радостно говорил Плешак, – думали уже всё, отвыть только осталось. А гляди, оклемался.
Оклемался, очунелся, отвыть… сколько же ему надо узнать. Ну и начнём. Чтоб заодно не думать, не прислушиваться к глубинной, и, вроде, уже не опасной боли.
Плешак отвечал охотно, не так переводя, как объясняя, только то и дело удивлённо крутил головой.
– Где ж тебя учили, паря, что ничего не знаешь?
Мысль о том, что в училище могут быть уроки рабского языка, так насмешила Гаора, что он поставил коробку, которую тащил, на пол и долго, до слёз на глазах смеялся. А потом объяснял Плешаку, над чем смеётся, чтоб тот не обиделся на него попусту.
– Надо же, – удивлялся Плешак, – а мне-то и не подумалось, знаешь и знаешь себе. А гришь, паря, ещё языки есть?
– Есть, – кивнул Гаор, прилаживая коробку с нарисованным на ней пылесосом в штабель. – Мы ургоры, а есть ещё айгрины, согайны и алеманы. Воевал я с айгринами. Алеманы нейтралитет пока держат. А согайны союзники айгринов, но сами не воюют, а технику им шлют. Но и добровольцы их были. Лётчики. У согайнов авиация самая сильная.
– Ага, ага, – кивал Плешак. – Ты, паря, её далеко не засовывай, пущай на виду стоит, их часто требуют.
Приезжали за товаром, привозили новый товар и пустые контейнеры. В общем, Гаор справлялся, только не бегал, а ходил, и рывком ничего не брал. И на обед он шёл уже совсем нормально, но, стараясь ноги ставить мягче, чтобы удар подошвы о землю не отзывался внутри.
За обедом ему опять налили отдельно и супу пожиже, чем остальным, но… на второй ложке он догадался, что суп на мясных кубиках и жирный, не меньше двух ему в миску положили, и каша как утром. Тукман насупился было, что Рыжему наособицу, но Тарпан – Тукмана к нему пересадили – прицыкнул на него.
– У тебя гуще.
И Тукман успокоился.
Гаор не заметил этого: все-таки устал.
После обеда работал он уже молча, с «пехотной упёртостью». Усталость пригибала к полу, заставляла волочить ноги. Плешак поглядывал искоса, но пойти полежать в закутке не предлагал. Ведь и впрямь: сейчас если лечь, то встать, ой, как трудно будет. Но перед самым концом они всё-таки посидели, не так отдыхая, как остывая.
Гаор сидел, согнувшись, стараясь не упасть на пол, помнил, что ему ещё идти, стоять в строю и на обыске. Конечно, не сравнить со вчерашним, вчера он и не помнит, как дотянул до конца, только боль и помнит, вот сволочь как бьёт. Недаром говорили, что забить тебя любой сержант может, а спецвойска медленно забивают, сутками будут метелить, а ты и не умираешь, и жить не можешь. Попал к ним, молись, чтоб сразу кончили.
– Рыжий, – вдруг позвал его Плешак.