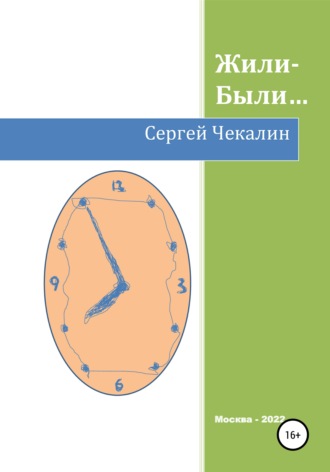
Сергей Иванович Чекалин
Жили-были…
– Говорил же я тебе, нельзя этого делать. Вот теперь и будешь знать.
Говорил, это точно помню. Но очень хочется, потому что нельзя.
(Кстати, этот молоток сейчас у нас, на даче.)
Как о нём, о дедушке, и было записано раньше – «занимался торговлей мясом» – так и продолжалось всю его оставшуюся жизнь. Не мог он жить без базаров. Я повторюсь, что это и необходимо ещё было для нашей семьи, заработать деньги, которые больше негде было заработать. Ведь в то время на один трудодень выплачивали от двадцати восьми до пятидесяти копеек (это я говорю о дореформенном, 1961 г., времени). Положим, отработал ты триста трудодней (к слову сказать – это чрезвычайно много). Вот и получишь свои восемьдесят пять, а то и все сто пятьдесят дореформенных рублей. По тогдашним ценам – это соответствовало трём-шести взрослым гусям. С расчётом, вероятно, на то, что от гусей гусенятки пойдут, расплодятся неимоверно, и станешь богатеньким Буратино.
Я приведу информацию из писем академику А.М.Самсонову о колхозной жизни (Самсонов писал книгу «Знать и помнить» о Второй мировой войне и вообще о жизни в нашей стране; эта книга практически полностью написана на основе читательских писем к нему после его выступления в печати). Учитель С.С.Вдовенко пишет:
«Когда начинаешь говорить об этом (о репрессиях – С.Ч.), обычно отвечают: «Ну, знаете, у Сталина были и очень большие заслуги!» Можно подумать, что заслуги освобождают от ответственности за любые преступления. Но вот в чём главный мой вопрос: какие такие заслуги? Сталин осуществил коллективизацию сельского хозяйства. Что же эта коллективизация дала крестьянам? Такую оплату их труда, какую мы не сыщем в мировой истории. Эта оплата опускалась до 200 граммов ржи на трудодень, а налог с личного хозяйства (25-30 соток огорода, корова, поросёнок) в несколько раз превышал то, что колхозник мог заработать в колхозе. Сталин заложил такие основы колхозного строя, что колхозы даже сейчас, при технической оснащенности, не могут обеспечить страну необходимым количеством продовольствия».
И далее – дополнение к этому пенсионера В.Г.Кантемирова:
«В 30-х годах в нашей стране было кооперировано крестьянство. Была ли в этом необходимость? Можно было бы просто лишить кулачество наёмной рабочей силы – и пусть люди занимаются своим трудом, приносят пользу себе и государству… За эту землю они сражались на фронтах гражданской войны. Но земля стала фактически государственной собственностью, а крестьянин – сельскохозяйственным рабочим, который за работу на этой земле получал мизерную плату, и только в конце года. При наличии земли не более 0.25 га он платил в год государству 49 кг мяса, 100 л молока, 200 штук яиц, какое-то количество шерсти и шкур домашних животных. Кроме того, колхозник платил налог за каждое дерево (если имел сад), за лозу винограда. Крестьяне уничтожали сады, виноградники. Колхозник в течение года должен был выработать минимум трудодней (примерно 120), а ведь не каждая работа в колхозе определялась в 1 трудодень: были работы, которые оценивались в десятых и сотых долях трудодня. Если колхозник в течение года не выработал положенное количество трудодней, он, согласно Указу от 21.02.1948 г. высылался на лесоразработки на Крайний Север сроком на 7 лет, с правом возвращения только в том случае, если он там хорошо работал. Колхозник не имел права выйти из колхоза и перейти на работу на другое производство без разрешения правления колхоза и сельсовета».
И ещё одна информация о жизни в колхозе в советское сталинское время уже после войны. Вот что написано у Бориса Можаева в рассказе «Приятели» (передаётся из общей беседы трёх друзей рассказ одного из них):
«…У нас ведь как было с трудоднями? Установили миним в сто тридцать пять трудодней. Ты его отработал – и делай что хочешь. Можно, к примеру, на лесозаготовки идти или кирпич бить в Тиханово. Но если у тебя минима нет, ты вроде бы в зависимости; во-первых, никуда на заработок не пустят; во-вторых, могут обложить двойным налогом в размере одной тысячи семьсот рублей, как единоличника. Раньше брали налог с коровы, с овцы, даже с козы шерсть брали. Чего посеял, с каждой сотки – опять налог. А если минима нет – всё в двойном размере».
Вероятно, «миним» (минимум) трудодней устанавливался государством время от времени различным либо самим колхозом, ориентируясь на свои возможности.
Дальше я приведу расширенную информацию о том же, которую я взял из Интернета. Автор её пожелал, почему-то, остаться анонимным.
«Вскоре после XIX съезда состоялся пленум обновленного ЦК КПСС, на котором Сталин выступил с резкой критикой своих давних соратников Молотова и Микояна. Причем о последнем высказался следующим образом: «Теперь о товарище Микояне. Он, видите ли, возражает против повышения сельхозналога на крестьян. Кто он, наш Анастас Микоян? Что ему тут не ясно? Мужик – наш должник. С крестьянами у нас крепкий союз. Мы закрепили за колхозами навечно землю. Они должны отдавать положенный долг государству. Поэтому нельзя согласиться с позицией товарища Микояна».
Тяжелее всего было положение собственно жителей деревни: на них буквально давили два налога, установленные еще в 1930-е гг., – денежный и натуральный. Денежный налог выплачивался по прогрессивным ставкам, которые регулярно пересматривались: если в 1940 г. колхозники и единоличники выплатили государству 2,4 млрд руб. сельскохозяйственного налога, то в 1952 г. – уже 8,7 млрд. Если в 1940 г. средняя сумма налога со двора составляла 112 руб., то спустя десять лет – уже 431, в 1951 г. – 471, в 1952 г. – 528 руб.
Натуральный налог представлял собой обязательные поставки мяса, шерсти, молока, яиц, картофеля и пр. – фактически это был оброк. Причем не имело значения, есть ли в хозяйстве живность вообще. В результате «бескоровные» колхозники вынуждены были приобретать мясо на рынке у таких же колхозников по рыночной цене, а затем сдавать его государству бесплатно, в счет налога. Ко всему годовые нормы сдачи мяса после войны только повышались, и если в 1940 г. они составляли 32-45 кг, то в начале 1950-х гг. – 40-60 кг.
Налогами облагалось буквально все, даже растущие на приусадебной территории плодовые деревья (поштучно). Чтобы уплатить их, колхозникам приходилось продавать на рынке почти все произведенное в своем хозяйстве. При этом торговать на городских и сельских базарах, железнодорожных станциях они имели право только при наличии справки о том, что их колхоз полностью выполнил свои обязательства перед государством, а сами они рассчитались по госпоставкам.
За трудодни в большинстве хозяйств сельский труженик не получал почти ничего, кроме отметки в журнале: в 1950-1955 гг. по стране на один трудодень средняя выдача составляла 1,4-1,8 кг зерна, 0,2-0,4 кг картофеля, 1,44-1,88 руб. денег. При этом в 30 % колхозов денежные выплаты не превышали 40 коп., в Курской области колхозники получали за трудодень 4 коп., в Калужской и Тульской – 1 коп. Около четверти всех колхозов страны вообще не выдавали денег на трудодни, ограничиваясь небогатой «натурой» (в Нечерноземье доля таких колхозов составляла почти 40%). Выплаты остальных колхозов составляли лишь пятую часть денежных доходов их работников. Весьма показательна структура денежных доходов колхозников в 1953 г.: доля поступлений от колхоза за трудодни составила 13,3 %. От личного подсобного хозяйства – 41,2%, из прочих источников – 45,5%.
Не менее красноречивы и такие данные. В 1952 г. для того чтобы купить килограмм масла, колхозник должен был отработать 60 трудодней, а чтобы приобрести весьма скромный костюм, нужен был весь его годовой заработок.
Кроме этого, крестьяне, как и рабочие предприятий, впрочем, как и все трудящиеся страны, обязаны были постоянно платить определённую сумму за облигации Государственного займа. Оплату этих облигаций постоянно откладываали, до того момента, когда они вообще практически обесценились. (Например, облигации 30-х – 40-х годов погашались только в середине 60-х, уже после хрущёвской реформы денег 1961 года в отношении 1:10). Я хорошо помню у нас дома эту кипу пустых по цене копеечных облигаций вместе с облигациями умершей в 1962 году бабушки Маши, которые взяла мама из её сундука в опустевшем доме. Словом, крестьяне с момента Великой Октябрьской революции, с октября (ноября) 1917 года, находились в крепостной зависимости от их собственника – государства, как до и после 1861 года, когда было отменено крепостное право…
Тётя Сима рассказывала (привожу цитату из её письма):
«Мне кажется, что папаня любил меня больше всех из детей. Может быть, потому, что я меньшая была из них. Брал на базар только меня. Просил посчитать цену за проданное мясо. Например, килограмм мяса стоит 14 рублей, а весы показали 1 кг 700 граммов. Сколько нужно с покупателя получить денег? Я никак не могла в уме сосчитать. Папаня учил, как это сделать, а в конце торговли хвалил всегда, хотя было не за что. Ездили мы с ним как-то в Токарёвку поросят продавать. Они в кошёлке находились. Сначала спокойно себя вели, а при подъезде к базару разбушевались. Мне пришлось просто висеть над кошёлкой, над их визгом. Когда мы въезжали в ворота базара, нас окружили, спрашивают, почём поросята. А папаня говорит, что не продаются. Это он цену набивал. Я думала, а зачем мы тогда ехали-то? Что же, теперь, домой назад с этим визгом? Потом, когда поросят продали, папаня попросил меня остаться покараулить, а сам ушёл. Приходит и приносит мне косынку шёлковую, цветастую. Вот где мне радость-то была!»
И ещё из рассказа тёти Симы, который прислал из Кишинёва её сын, Володя. Было это летом 1942 года. Мужчин из деревни почти всех мобилизовали на войну, так что все работы в колхозе свалились на женские и детские руки. Тёте Симе в это время не исполнилось и пятнадцати лет. Дали ей наряд на волах привезти из Полетаево (тогда это был районный центр) мешки с мукой. И сказали, что волов на обратном пути надо попоить в пруду. Муку погрузили, дошли волы до деревни Красный Куст перешли через Авилову плотину, и тётя Сима направила их к воде, попить, как ей и сказали. Волы вошли в воду вместе с поклажей, попили, а назад выходить не захотели, жарко, устали, а тут – благодать. Только через какое-то время уже с помощью взрослых вывели волов из воды…
Продажей мяса дедушка занимался не только на базаре, но и дома. Чаще всего товаром были баранина и гуси. Зимой тушки гусей висели рядком в сенях на связи. Товарный вид им дедушка придавать умел, хотя и сами по себе птицы были откормленными. Дедушка укладывал им крылышки, их длинные шеи отправлял внутрь через разрез. Внешняя часть чуть-чуть опаливалась над огнём и становилась немного темноватой. И в конце подготовки тушка покрывалась тонким слоем их же, гусиного, жира. Помню дореформенную 1961 г. цену гуся – двадцать пять рублей.
А кроме мясного дедушка продавал и свои изделия, шил тулупы (с огромными воротниками), овчинные шапки, рукавицы (как их называли – голицы). Про валенки не знаю, продавал или нет, но для всей нашей семьи сам и валял. Отец в этом помогал ему. А вот цену за сшитый тулуп я знаю точно. На моей памяти сговаривались об этом покупатель (кто-то из районного начальства) и дедушка: двести рублей. Я присутствовал и при передаче тулупа и расчётом с дедушкой. Ему за этот тулуп вручили две (больших таких) сотенных бумажки, с изображением Ленина.
Все записи и расчёты по хозяйству он делал в специальной тетради, амбарной книге сероватого цвета. Она была ещё и разлинована на графы, но не дедушкой, а типографским способом. Записывал он всегда карандашом. Их у него было два. Один простой, второй, как мы называли, – химический. Если таким карандашом писать по влажной бумаге, то запись получается чернильной, которая держится прочнее. Этим карандашом дедушка подписывал адреса на почтовых конвертах. Стружку от грифеля такого карандаша, растворённую в воде, использовали как чернила (фиолетового цвета). Да у нас других чернил и не было. Тогда мы, школьники, в наших местах Тамбовской области, пользовались только перьевыми ручками, до самого конца школы.
Соответственно и чернилами фиолетовыми из химических карандашей. Чаще всего…
Выше я писал, дедушка говорил, что не надо держать зла на тех, кто его и других с ним оклеветал. Так, наша семья догадывалась, что в этом был замешан брат Филиппа Степановича Незнанова Александр Степанович. Судя по его характеру и поведению – он мог это сделать. Дедушка зла не держал, и пример этому скоро и наступил. Александр Степанович работал в какой-то государственной организации при Полетаевском райкоме партии. Не знаю в каком году, зимой, в сильную пургу и мороз он пьяный возвращался домой из Полетаево. Пока лошадь плелась по сугробам в деревню, Александр Степанович так сильно промёрз, что сам не мог слезть с саней и пройтись пешком, чтобы согреться, тем более, что и был пьян до беспамятства. Лошадь пришла в деревню и остановилась у первого её дома, как раз нашего. В доме это почувствовали, дедушка вышел к крыльцу и увидел эту неприятность.
Александра Степановича внесли в дом, стали отогревать, как и положено замёрзшего и обмороженного, к утру отвезли в больницу, в Полетаево. Было очень сильное воспаление лёгких, так на всю оставшуюся жизнь и остался он хрипым в разговоре. Кроме того, у него отморозились на обеих руках пальцы, кроме больших. Отмороженные пришлось ампутировать.
Умер дедушка 1 декабря 1958 г. Его в конце ноября положили в больницу с приступом сердца, а через несколько дней он умер. Бабушка перед этим в субботу или воскресенье (примерно буквально за день до его смерти) ходила к нему в больницу. Я тогда учился в четвёртом классе, в нашей деревенской начальной школе. У нас шли уроки. Подошла ко мне наша учительница, Клавдия Семёновна, говорит:
– Серёжа, дедушка твой умер. Иди домой.
А дома все в таком не виданном мною раньше состоянии, растерянные. Бабушка плачет, отец со слезами на глазах, собирается ехать за дедушкой в больницу, лошадь с санями уже у дома. Когда к вечеру привезли дедушку, был готов и гроб, который сделал, как мне помнится, сват, Филипп Степанович Незнанов. На другой день отец сам сделал крест из бревнышка, с двумя плоскими перекладинками, прямой верхней и косой нижней.
Дедушка в гробу в избе, на обеденном столе. В головах, ногах и по бокам гроба прикреплены свечки. Свечка горит и в его сложенных руках. Вместе со свечкой в руках и маленькая картонная иконка. Монашка из деревни Масловка читает Псалтырь и соответствующие этому делу молитвы.
«– Обратись, Господи, избавь душу мою, спаси меня ради милости Твоей, ибо в смерти нет памятования о Тебе: во гробе кто будет славить Тебя?»
Книжка у монашки толстая, потрёпанная, страницы от времени и пользования тёмные, закапанные воском свечей. В избе много наших деревенских – пришли проститься с дедушкой.
«– Со святыми упокой, Господи, душу раба Твоего, Василия, в месте светле, месте злачне, месте покойне, идеже несть ни болезней, ни воздыхания, ни печали, но жизнь бесконечная, и сотвори ему вечную память».
– Ве-е-чная па-а-а-мять, – поют прощающиеся.
В день похорон, по-моему, 3 декабря, перед праздником Введения во Храм Пресвятой Богородицы, была сильная пурга, было очень холодно. Да и снега к этому времени уже выпало довольно много. У дома вырос большой сугроб. Простились мы с дедушкой все дома, а хоронить его поехали только отец и бабушка, да ещё мужики, которые копали могилу и потом засыпали землей вперемешку со снегом. Всем, кто был в это время у нас дома, прощался с дедушкой, выдали так называемые «обмаховальники», беленькие, довольно простенькие платочки. Но это только женщинам. Когда поехали хоронить дедушку, то навстречу им попались сани, в которых ехала домой наша деревенская Панюшкина Ариша, соседка моей бабушки Маши. Положено было и в таком случае «одарить» встречную платочком. Но бабушка, естественно, забыла с собой взять эту вещь. Так Ариша там же, в поле, раскричалась, обиделась. Бабушка уже после ходила к ней домой, передала ей с извинениями этот злополучный платок.
Пусто стало в доме без дедушки. В первое время – особенно. Бабушка плакала в голос. Не в доме, а когда во двор пойдёт. Но и из дома слышны её причитания, как в сказке об Алёнушке и братце её Иванушке. Многие заботы, о которых не знали, вернее, знали, но они были на плечах дедушки, теперь перешли на плечи других. Хозяйством домашним теперь стал заведовать отец, на правах следующего главы семьи.
Отцу теперь и место полагалось почётное, под иконами, в «красном углу», где раньше сидел дедушка. Но от того, что я место это любил, всегда в этот угол садился уроки делать, читать, и сон мне приснился. Вижу дедушку, подошёл ко мне, руку положил на голову, как он часто делал, и говорит:
– Ты, Серёжа, теперь на моё место садись.
Я потом возьми, да и расскажи этот сон. Все и решили, что мне на его место и надо садиться. Так что отобрал я «красный угол» у отца. Хоть бы в голову пришло, сон этот не рассказывать. Маловат был для этого, да ещё эгоизм детский: мои игрушки!
Затерялась там, в Полетаево, могила дедушки, да и его отца, Василия Ивановича, сестры Василисы (Васёны), умершей в 1935 году. Трое их, в тех краях, из родни нашей по линии Чекалиных: Василий Иванович, Василиса Васильевна, Василий Васильевич. Да ещё один по другой линии, Выгловских-Кудиновых, мамин маленький братик Женя, который умер в 1940 году.
Когда мы учились в школе, в Полетаево, дом хозяев, у которых мы были с братом на постое, находился как раз напротив кладбища и примерно напротив того места, где был похоронен дедушка. Первое время крест стоял на месте, потом уж и не помню. Но уже после нашего переезда в 1965 г. в Московскую область я, будучи студентом, в 1970 г., ездил в гости к Незнановым, на свою родину, к свекрови и свёкру Серафимы Васильевны. А сын их, Саша, с которым мы однажды на льдине под нашим домом неудачно прокатились во время половодья, тоже приехал, так мы с ним договорились. В это время и Серафима Васильевна приехала в гости с двоюродными моими братьями, Юрой и Володей (жили они тогда уже в Самарканде). Вот мы с тётей Симой и ходили на могилу к дедушке. На её месте к тому времени ещё оставался маленький зелёный холмик. Эта ли могила, не эта, уже и разобрать трудно было, но в траве я увидел верхнюю часть креста, который сделал отец, почти совсем сгнившую, но узнаваемую. Тогда это даже странным показалось, что так сохранился крест. Да и понятно, пусть и нет дров, но с кладбища на это дело деревянных крестов в те времена не брали.
На этом месте, где лежали остатки креста, мы дедушке и поклонились. В последний раз.
Но не в последний раз получилось у меня. В июне 1991 г. поехали мы с Незнановым Сашей в Полетаево, на 25-летний юбилей окончания школы. Приехали сначала, конечно, в Красный Куст, где в доме их жила мать Саши, тётя Маруся (Мария Николаевна, в девичестве – Мамонтова), вместе с тётей Клавой, Клавдией Ефимовной Мамонтовой. Той тётей Клавой, что в детстве была приёмным ребёнком в семье дедушкиного брата Михаила (я дальше об этом напишу). Тогда мы вместе с Сашей зашли на кладбище, где похоронены его отец, Филипп Степанович, и сестра, Галя. Попытался и я отыскать хотя бы место, где похоронен дедушка, но всё было уже заселено другими могилами. Походил только по памяти, где-то рядом, я думаю, с дедушкиной могилой, не зарекаясь, что в последний раз.
Глава 6. Чекалин Михаил Васильевич
Вы с ума сошли! Вы с ума сошли! Вы с ума сошли!
Кто сказал вам, что мы уничтожены?
Сергей Есенин. «Пугачёв».
В нашей родне таких полных тёзок, Чекалиных Михаилов Васильевичей, два. Один – это брат моего дедушки Василия, 1982 года рождения, второй – его сын, 1925 года рождения, мой дядя. В этой главе речь пойдёт о брате дедушки Васи. Есть и не полный тёзка, Михаил Васильевич (Выгловский), дядя Зинаиды Сергеевны (см. главу 3 – «Выгловский Василий Петрович»).
Женившись, Михаил Васильевич, дедушкин брат, выделился из их большой семьи в отдельную и поселился в своём новом построенном доме в селе Остроухово, что находится примерно на юг от Львово. В прежней семье Василия Ивановича остались младший сын Василий и три дочери, Василиса, Мария и Федосья. Первая жена Чекалина Михаила Васильевича умерла, осталась дочь, которую звали Мариша (если по метрикам или паспорту – Марина). Вторая жена Михаила Васильевича тоже оказалась Маришей. Она была родной тёткой Мамонтовой Клавдии Ефимовны, которая жила в Красном Кусте у брата Незнанова Филиппа Степановича, Александра Степановича. А здесь немного подробнее расскажу о событиях в этой семье.
В полтора года Клавдия осталась сиротой, её содержала и воспитывала эта тётя Мариша. Когда Михаил и Мариша поженились, то и взяли Клавдию в свою семью на обеспечение и воспитание. От второй жены родились дочери Александра и Мария (как их потом называли у нас в семье: Шура и Маруся Остроуховские, по месту их жительства, в Остроухово, которое находилось недалеко от места жительства родственников, о которых идёт здесь речь, на юг примерно в 7-8 километрах от Львово). После рождения Шуры и Маруси и гибели летом 1921 года её мужа, Михаила, мачеха стала плохо относиться к своей тёзке-падчерице Марише. Тут уж за дело взялись дедушка с бабушкой (Чекалины). Они и посватали Маришу за бабушкиного брата Степана Ивановича. Я в Москве встречался с их дочерью, Анной Степановной. С бабушкой Верой, когда она была у нас в Москве, кажется, что в 1979 г., осенью, мы ездили к ней в гости, в Коломенское. Тогда мы с Мариной и детьми жили на первом этаже во дворе дома № 76 по улице Пятницкая, во дворе Филиала Малого театра, что на улице Ордынка. С Анной Степановной, а также и с бабушкиной сестрой Евдокией Ивановной, которая жила в то время в Нагатино, общалась в своё время и тётя Тоня (Антонина Васильевна).
Летом же 1921 года Василий Иванович, распорядился отправить дочерей Марию и Федосью в семью Михаила, расстрелянного большевиками, с целью помощи в жизни и работе на выделенных положенных им десятинах (как раньше называлось – наделе). При нём осталась семья младшего сына Василия (тогда в этой семье было только три человека – Василий, Вера и их дочь Антонина полутора лет) и дочь Василиса.
Вот эти все описания, которые здесь приведены, вряд ли имеют значение для Михаила Васильевича, чьим именем названа эта глава. Конечно, какие-то параллели провести можно, но очень уж они не параллельные.
По дедушкиной родне все старожилы, но вот Михаил Васильевич дожил только до сорока лет, даже и не сорока, а немного меньше того. А в основном эта глава будет касаться нашей государственной истории, событий, которые проходили в период 1918-1921 гг. в местах, где жили наши родственники.
Когда мне удалось почитать уголовное дело, заведённое в 1932 г. на моего дедушку, Василия Васильевича Чекалина, я обратил внимание на то, что дедушка назвал своего брата Михаила «шпионом банды Антонова», и ещё, что он был «выслан» во время ликвидации банды Антонова. Мои розыски (запросы в архивные отделы) в подтверждение этих слов ничего не дали. Не было такого шпиона, человека с таким именем, да и семью с такой фамилией, не высылали, она и после этих событий проживала в той же деревне Остроухово. Может быть, и были, и наверняка были. Как же без этого в таких мощных военных действиях? Но не из нашего рода. Михаил Васильевич был убит карательными большевистскими войсками как заложник летом 1921 г. Просто потом, спустя некоторое время, надо было как-то юридически оправдать перед общественностью, не перед своим народом (перед своим народом наши правители никогда не оправдывались и не извинялись, какие бы события ни происходили; большевистская и советская власть всегда была безоговорочно права), а перед мировой общественностью, преступления против тамбовских крестьян во время их восстания. А так, всех заложников, которых расстреляли, объявили позже «антоновскими шпионами и пособниками» – и никаких оправданий не нужно. Причём, как говорили родственники расстрелянных, называть их шпионами и бандитами просто приказали. Мог бы и свой народ возникнуть, родственники, например, потребовать реабилитации. Но это только теоретически, а практически, после всех событий, на такое вряд ли кто мог решиться, ведь это грозило репрессиями, возможно, что и расстрелом. Мой отец говорил, что им, в их в семье и родне, сказали: надо говорить про то, что Михаил был пособником банды Антонова, шпионом. Так и говорили, да, кажется, потом и думали в последующих поколениях. Так дедушка Вася (даже из первого поколения) сказал и на допросе в 1932 году (ему-то куда было деваться?). Но напрасно.
Теперь о моих розысках. Вряд ли сохранились какие-нибудь документы о количестве убитых заложников, тем более – их фамилий. Позже маршал М.Н.Тухачевский в своём докладе об успехах подавления мятежа скажет, что по неполным сведениям число убитых заложников составило 254 человека. Скорее всего, это не так, поскольку в каком-то из документов, кажется, что в докладе В.А.Антонова-Овсеенко в ЦК РКП(б) от 20 июля 1921 г., называется цифра порядка 3500 заложников-одиночек. Были ещё и не одиночки, а семьи-заложники, число которых в этом докладе указывается более 900. Ведь на территории Тамбовской губернии, в 1920-21 гг., во время расцвета, так называемой, «антоновщины» создали двенадцать концентрационных лагерей. Два из них находились непосредственно в Тамбове, а другие – рассеянно по всей губернии. Так что, дорогой Михаил Николаевич, 254 убитых заложника, которых Вы назвали – весьма и весьма неполные сведения. Солгали Вы, Михаил Николаевич, не сморгнувши.
То, что Тухачевский солгал – это обычное дело для того большевистского времени, времени «красного террора» (да и последующего, «классового террора» – тоже). Называется и публикуется в официальных изданиях некоторое число расстрелянных за контрреволюционную деятельность, а на самом деле это число в десятки раз больше.
О Тамбовском восстании имеется много публикаций и исследований. Из всех, что мне удалось найти, наиболее полным исследованием, на мой взгляд, является труд Владимира Васильевича Самошкина «Хроника Антоновского восстания». Материал из этой книги часто цитируется и другими писателями и исследователями. Кроме этого, большой интерес представляет собой и книга Бориса Владимировича Сенникова «Тамбовское восстание 1918-1921 гг. и раскрестьянивание России 1923-1933 гг.», выпущенная в Москве в издательстве «Посев» в 2004 году. И ещё одна, я её пока не читал, но, думаю, судя по тому, кто её написал (можно убедиться в этом, посмотрев произведения НиколаяТюрина на серверах ПРОЗА.РУ и СТИХИ.РУ), что и она будет весьма интересной и исторически правдивой: это недавно (в начале 2020 года) выпущенная в свет книга Н.Тюрина «Антонов. Последний пожар». И ещё одна весьма полезная информация: статья в «Вестнике архивиста» № 3 за 2019 год, О.В.Безая и В.Б.Безгина «Социальный облик и участь крестьянских повстанцев 1920-1921 гг.», написанная по материалам фондов Государственного архива Тамбовской области…
Теперь – о событиях. 20 февраля 1920 г. президиум Борисоглебского уездного исполкома направил во ВЦИК и в ЦК РКП(б) доклад о безобразиях в деятельности продотряда под руководством Якова Марголина, который, продотряд, занимался вопросами продразвёрстки. В этом докладе указывалось, что Марголин прибегает «к бесчеловечным репрессиям, напоминающим времена средневековья». Сами, в Борисоглебске и Тамбове, не смогли с ним справиться, поскольку Якова Марголина и его действия поддерживал сам тамбовский губпродкомиссар Яков Гольдин, которого, в свою очередь, тоже поддерживал председатель Тамбовского губисполкома, известный в истории нашего государства большевистский деятель, Владимир Александрович Антонов-Овсеенко. После этого Марголина арестовали, но довольно скоро отпустили, благодаря тем же тамбовским продкомиссару и председателю губисполкома. За арестованного Марголина заступался перед самим Лениным и наш знаменитый писатель Максим Горький, откровенно, как говорят, ненавидевший крестьян. Впрочем, как и сам Ленин. В первой нашей Конституции 1918 года, подготовленной не без участия Ленина, было узаконено, что один голос рабочего приравнивается к пяти крестьянским голосам. Что же там говорить о другом?
А вот почему и пролетарский писатель М.Горький откровенно ненавидел крестьян. Это явно следует из его очерка «В.И.Ленин»:
«Мне отвратительно памятен такой факт: в 1919 году, в Петербурге, был съезд «деревенской бедноты». Из северных губерний России явилось несколько тысяч крестьян и сотни их были помещены в Зимнем дворце Романовых. Когда съезд кончился, и эти люди уехали, то оказалось, что они не только все ванны дворца, но и огромное количество ценнейших севрских, саксонских и восточных ваз загадили, употребляя их в качестве ночных горшков, Это было сделано не по силе нужды, – уборные дворца оставались в порядке, водопровод действовал. Нет, это хулиганство было выражением желания испортить, опорочить красивые вещи. За время двух революций и войны я сотни раз наблюдал это тёмное, мстительное стремление людей ломать, искажать, осмеивать, порочить прекрасное».
Конечно, «не судите, да не судимы будете». Но этот осуждающий крестьян пролетарский писатель сам имел весьма отвратительную подлую душонку, которая явно выпучилась после группового посещения видными деятелями политики, искусства и культуры строительства заключенными канала имени Москвы (сначала – имени Сталина). Как он хлопал в ладоши: «Ах, как это хорошо! Такое перевоспитание!»
Максим Горький рассказывал на слете, что с 1928 года наблюдает, как ОГПУ «перевоспитывает людей». Писатель нахваливал ОГПУ за это «великое дело», а каналоармейцев – за то, что «дали стране Беломорско-Балтийский канал». А вот и его «хвалебный гимн» этому строительству, на котором погибло 22000 человек:
«Перевоспитав себя в труде, вы дали стране отличных, квалифицированных работников, которые будут заняты на других стройках. Я чувствую себя счастливым человеком, что дожил до такого момента, когда могу говорить о таких вещах и чувствовать, что это правда… Я поздравляю работников ОГПУ с их удивительной работой, я поздравляю нашу мудрую партию и ее руководителя – железного человека товарища Сталина».
А как ещё раньше этот пролетарский писатель оправдывал «красный террор» в своей статье «О русском крестьянстве»:
«Жестокость форм революции я объясняю исключительной жестокостью русского народа».
Вот так, сами, мол, и виноваты в этих кровопролитиях.







