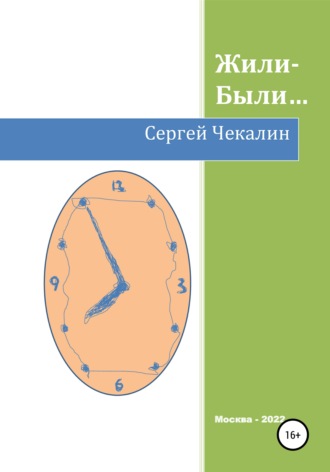
Сергей Иванович Чекалин
Жили-были…
В 1964 г. многие воинские захоронения в Калининградской области объединили (сделали перезахоронения из отдельных могил, которых было много разбросано в этих краях, в одну общую братскую могилу). Тётя Шура, его дочь, говорила, что из военкомата им пришло письмо о перезахоронении, и что, если они захотят, то могут взять прах их отца для захоронения на кладбище по месту жительства. Они не стали этого делать. Она сказала, что этот вопрос они вместе, все его дочки (маме посылали письмо в Красный Куст), обсуждали и решили оставить так: где пролита его кровь – пусть там и останется захороненным, с кем вместе и воевал.
Сейчас прах Кудинова Сергея Егоровича находится в общей братской могиле в Цветково Гурьевского района Калининградской области, что примерно в пяти километрах на юг от Калининграда (и примерно столько же от места его первоначального захоронения). В 2015 году на могилу дедушки Серёжи ездила его правнучка, Малышева Лена, а в 2021 году, на майские праздники, – поехала семья сына Коли (жена Маша и дочь Тоня). Они были на Братском кладбище 2 мая.
Глава 10. Кудинова Мария Васильевна
– Здорово, сваха!
– Здорово, сват!
– Болеешь, сваха?
– Болею, сват.
Этот разговор-частушка произошёл в нашем доме, в Красном Кусте, между дедушкой Василием и бабушкой Машей примерно осенью 1958 г. Тогда серьёзно заболела онкологией желудка бабушка Маша, потом в Москве ей делали операцию. Часто лежала в больнице. Там, в больнице, в Полетаево, в конце ноября месяца 1958 года, оказались вместе сват и сваха, и сват умер 1-го декабря на руках у свахи.
Я помню, конечно, дом бабушки Маши в Красном Кусте. Дом этот она купила в 1948 году, уже после войны, у родственника своего соседа, Панюшкина Егора Федотовича. (Получается, что в Свободном Труде, в полуземлянке, она прожила с детьми всего 18 лет, а без дедушки Серёжи, ушедшем весной 1941 года и погибшем в 1945 году – 7 лет.)
Дом стоял напротив нашего деревенского магазина. Крыша была соломенной. Сени имели две двери, на улицу и во двор. А из сеней – вход в избу с русской печкой, которая находилась слева от входа (то есть, как и у всех в этом порядке деревни – с северной стороны). Насколько я помню, очень у многих печка располагалась слева от входа в избу. Было и другое расположение, справа от входа (как, например, у Незнанова Филиппа Степановича), но у всех печка находилась в северной части дома, а основной фасад дома, на котором было больше окон, располагался на юг. Порядок домов нашей деревни был ориентирован с запада на восток. Если идти по дороге по указанному направлению, то дома оставались с левой стороны, окнами основного фасада на юг, а с правой стороны были погреба, кроме, пожалуй, нескольких, в том числе и погреба моей бабушки Маши, он находился непосредственно во дворе построек, относящихся к её дому. Что ещё примечательно, дом её был деревянным, что в нашей деревне, Красном Кусте, было редкостью. Абсолютное большинство домов были саманными…
Место перед печкой называлось не кухней, а чуланом, который от остального помещения избы закрывался занавеской. В чулане стояла лавка, а над лавкой – полавочник (в произношении звучит как полавоШник). Полавочник, это полка, на которой стояли, кроме всего прочего, хлеб и часто у бабушки Маши там были ржаные пышки. Когда она готовила тесто для хлеба, то обязательно заквашивала его больше, с учётом приготовления и дополнительных ржаных пышек. Формы для хлеба у неё не было, в отличие от нас, хлеб выпекался на поду (внутри жарко протопленной печи непосредственно на кирпичах). Когда была капуста (осенью), то на капустном листе. В другое время – просто на выметенных от золы кирпичах. Форма каравая была круглой и с округлённым верхом, как, например, современный хлеб «Столичный».
Полавочником называли тканое покрывало на лавку. И ещё, если изба топилась по-чёрному, то есть без трубы, а дым уходил в дверь или в отверстие в потолке, то делали такую полку, которую и называли полавочником, для защиты избы от сажи. Ну а третье назначение полавочника – полка для содержания на ней кухонной утвари, а также и, чаще, хлебных изделий…
Набегаемся мы с братом, проголодаемся, а домой бежать далеко. Вот к бабушке Маше, к полавочнику, за пышками. Даже если её и дома не было. Дом она никогда не закрывала на замок, да и вряд ли был у неё какой замок. Только на деревянную палочку.
Долгое время жил у бабушки Маши её внук, Сашка или Шурка, которого мы дразнили Фунтиком, за его тогда малый рост. Сын маминой сестры, Шведовой Марии Сергеевны (она, кстати, единственная из троих сестёр, дочерей бабушки Маши, очень внешне похожа на свою мать). Ох, и озорной был этот двоюродный брат. Досаждал он бабушке. Расшалится, она ему и говорит:
– Шурка! Хватит, говорю, баловаться. Всю ж… карандашом красным испишу!
Но до красного карандаша дело не доходило. Очень уж она любила Шурку. (Как и сейчас тётя Маша, Шведова Мария Сергеевна, до безумия любит своего правнука Мишу, несмотря на его не совсем безобидные проделки. Уже – любила, поскольку умерла 8 ноября 2018 года.) Казалось бы, и мы с Мишей (моим братом) такие же ей внуки. Но этот – домашний, свой. Собственно говоря, такая же ситуация и у всех. Мы ведь с Мишей и Валей бабушке Вере такие же внуки, как и Юра с Володей Незнановы. Но мы были, вероятно, роднее, потому что жили в одной семье…
Дом бабушки Маши был напротив магазина, поэтому он часто атаковался любителями выпить. Да и бабушка была не против этого, потому что ей доставалась пустая бутылка, а то и не одна. Вот один раз мужики пришли с тем же самым – выпить. С собой у них оказалось несколько бутылок какого-то портвейна не очень высокого качества. Типа печально известного портвейна «Солнцедар», а то и тот же самый «Солнцедар». (Это вино как раз только появилось в магазинах; его ещё называли «бормотухой» за очень низкое качество; где-то в начале 1980-х годов прекратили его выпуск.) Начали эти мужики пить, но даже такие крепкие на алкоголь и то не смогли убрать всё принесённое. Осталось в одной из бутылок половинка недопитого портвейна. К Шурке в это время пришёл Пахунов Валерка, который, как потом оказалось, приходился двоюродным племянником моей маме (по одной из её родственных линий было подворье Пахуняты), а нам, следовательно – троюродным братом. Но тогда мы не знали всех этих родственных тонкостей и отношений. И вот эти троюродные братья и допили вместе эту половину бутылки портвейна. Валерка, которому сразу поплохело, побежал домой, благо – недалеко, а Шурка остался дома. Совсем его развезло. Бабушка уж и не знала, что делать. Побежала к нам, привела отца, своего зятя. Разобраться в ситуации. Отец увидел бутылку и всё понял. Об этом портвейне уже тогда ходили не очень приятные отзывы. Шурка лежал на кровати, похоже – без сознания. Отец стал приводить его в чувство, хлестать по щекам. Наконец наш выпивоха очухался, посмотрел мутным взглядом и спросил:
– Где я есть?
– Я тебе сейчас покажу, где ты есть! – Сказала бабушка Маша. – Ты у меня сейчас узнаешь, как пить всякую гадость!
Но отец сказал, что Шурке и так всё отлилось за это дело, не надо его больше наказывать. На том всё и успокоилось.
Потом, позже, появилась в доме бабушки и внучка, Ирина, дочь тёти Шуры, второй маминой сестры, Александры Сергеевны Живилковой, моей крёстной. Но, насколько мне известно, только на лето, а зимой детей забирали родители. Но точно не могу теперь сказать, поскольку хорошо помню, что Шурка жил какое-то время у бабушки и зимой.
С Ириной произошла не очень хорошая история. Во всяком случае, бабушка Маша всегда себя за это казнила. Ира была ещё маленькой, года три-четыре. Дети часто играли около магазина. Вот там около-то и валялась часть разбитой стеклянной бутылки. Ира бежала, упала левой щекой на эту стекляшку. У неё до конца её жизни на щеке остался шрам. Рану в больнице зашили, но срослась она несколько криво, не разгладилась. А как могла бабушка тут углядеть, ведь все дети там играли, так было заведено, и ни с кем из них взрослых не было, тоже не заведено было. Впрочем, от падения при беганье никакой взрослый не защитит, как себя, так и ребёнка.
По какой-то причине в деревне бабушку Машу кое-кто считал чуть ли не ведьмой или колдуньей. Вероятно, из-за того, что у неё получалось знахарскими и оккультными способами лечить людей. Да я и на себе это испытал. У меня на левой ступне появилась бородавка, которая мешала ходить. Бабушка Маша сказала мне, чтобы я приходил к ней утром, до восхода солнца. Мне это было не сложно, поскольку я птичка ранняя (и до сих пор). Трижды через день я ходил к бабушке Маше на «заговор» этой болячки. Она что-то шептала, чего я вообще не понимал, но шептание это было несколько рифмованное, а бородавку при этом поглаживала половинкой разрезанной картошки. После этого она заворачивала эту картошку в тряпицу, обматывала тряпицу ниткой и бросала в подпечье, и тоже с продолжением причитания. После третьего раза бородавка полностью исчезла. И ещё, её лечение-заговор у нас дома. Только я не знаю, кого она приходила лечить. Но точно знаю, что «от живота». Как сейчас вижу – сидит она у края обеденного стола со стороны окна, я стоял сбоку. На углу стола небольшой горкой насыпана мука, в луночку сверху бабушка льёт немного холодной колодезной воды, что-то при этом приговаривает, но что-то другое, чем со мной, не рифмованное. Потом из всего это хозяйства она слепила круглый комочек и отправила его в горячую печь, испекаться. Дожидаться момента готовности она не стала, а бабушке Вере сказала, что потом надо отдать этот печёный комочек кому-нибудь из скота. Вероятно, что-то получилось, поскольку больше с этим она к нам не приходила.
Она очень много знала разных старинных былин (возможно, что она когда-то и читала их в книжках; она была грамотная, в отличие от бабушки Веры), когда-то и читала (по памяти) нам с Шуркой, но я ничего не помню. Помню только, что называла какого-то Бову-королевича, но, как я теперь понимаю, переложенную на свой лад, с другими именами и немного искажёнными событиями. Много она знала поговорок и пословиц. Рассказывала и сказки, но не русские народные, а индийские (типа сказок Шри-Ланки), с обезьянами, обезьяньими царями, слонами, тиграми, крокодилами и пр. Эти сказки, а возможно, и сами книжки, были у них в семье в её детство…
Жужжит самопряха. Это бабушка Маша прядёт шерсть, а мы с Шуркой играем. Я часто приходил ночевать к бабушке Маше, конечно, с разрешения родителей. Шурке скучно по зимним вечерам. Вот и просил, чтобы кто-нибудь из нас, я или Миша, к ним пошли. Чаще ходил я.
Шерстяные нитки бабушка Маша скручивала плотными, как проволока. И носки с варежками получались у неё плотными, как валенок. Жёсткие, зато носились долго. А перед сном сказки нам рассказывала (помимо Бовы). И что интересно, в отличие от сказок бабушки Веры, сказок бабушки Маши я просто не помню. Да и вряд ли это были сказки. Мне кажется, что она просто о чём-то рассказывала, возможно, что и на ходу своё придумывала. Фантазия у неё была богатая, ей очень просто было придумать какую-нибудь интересную историю. Тогда обидно, что не помню. Вполне возможно, что рассказывала и о своей родне, о той жизни в семье её отца, купца Выгловского Василия Петровича.
После смерти бабушки Маши Шурка, Саша, уехал к своей матери, Марии Сергеевне Шведовой, которая жила в Долгопрудном.
В Долгопрудном жила и средняя дочь дедушки Серёжи и бабушки Маши, Александра Сергеевна Живилкова. Там же находилась и дочь Александры Сергеевны, Ирина, и сейчас живёт её внучка Лена.
Когда Саша служил в армии, мы с ним переписывались. Он писал очень подробные письма о службе. Как-то, в одном из писем, он прислал мне своё стихотворение, я его помню до сих пор. Вот оно:
Я выбрал путь – он беспредельно сложен:
Поэтом стать – не перейти ручей,
Я не хочу прожить, как лицедей,
А я хочу вдохнуть пыль бездорожий,
Покинуть шум тошнящих площадей.
Пройти рекой, шумящей и игривой,
И на вершины гор войти победно,
И солнца луч поймать игривый,
Со всем его радужным переливом,
И не покинуть мир бесследно.
А ты, Сергей, учись и мысли,
И где-то, там, в конструкторском бюро,
Где так уютно и тепло,
Смотри, чтоб не прогрызли мыши
Твоё разумное чело.
А Саши-Фунтика нет. Умер летом 1990 года. Что ни говори, а был он талантливым. Поступил на режиссёрский факультет, бросил, но не от таланта. Писал хорошие стихи, знаком был, тогда ещё молоденьким, с Евгением Евтушенко и его компанией. Хорошо рисовал маслом на холсте, играл на трубе и скрипке. Но, к сожалению, так нигде и не пригодилось в его жизни. Осталась от него дочка Катя и внук его, Миша. (В 2013 году Миша поступил в Авиационный институт, проучился три года, но потом бросил, был призван в армию. В 2018 году, весной, комиссован по состоянию здоровья; обещал 12 ноября 2018 г., в день похорон его прабабушки, Марии Сергеевны Шведовой, восстановиться в институте, но, что-то, вряд ли это сделает.) Катя живёт сейчас в Москве, а Миша в Долгопрудном в квартире своей прабабушки.
Вообще говоря, 1990 год был у нас очень урожайным на покойников: в мае месяце, шестого мая, умерла Антонина Георгиевна, бабушка моей жены Марины, летом, подряд друг за другом, тесть, Николай Николаевич и Саша Шведов. Кроме этого, в самом начале мая, умерла и наша бывшая соседка по квартире на Пятницкой, Ларченкова Анна Прокофьевна, которая находилась в доме-интернате для престарелых на улице Островитянова. (С весны 2017 по май 2020 года в этом же доме-интернате находилась Татьяна Юрьевна Рыссак, племянница Марии Васильевны; умерла 6 мая 2020 г.)
5 октября 2012 года умерла от инфаркта и Ирина. В этот день она с дочкой Леной была у своей мамы, Александры Сергеевны, поскольку у мамы был день рождения 2-го октября. Но день этот был будним, тем более, что и Лена работала. Договорились на ближайший выходной. После они с Леной возвратились к себе домой, где Ирине и стало плохо. Вызвали скорую помощь, но Ирина уже умерла, от обширного инфаркта. Похоронена в Новодачном, на Долгопрудненском кладбище, вместе с отцом, Павлом Фёдоровичем Живилковым, бабушкой Машей и Шведовым Александром Николаевичем, моим и её двоюродным братом. А сейчас там же похоронены Александра Сергеевна (06.07.2019) и Мария Сергеевна (08.11.2018)…
Павел Фёдорович Живилков, или, как его называли в нашей родне, Павлик, зять бабушки Маши, очень пришёлся для нашей родни. Когда он служил на сверхсрочной в армии, то познакомился с Александрой Сергеевной, она училась в текстильном училище (тогда вместе с Серафимой Васильевной, моей тётей по линии отца). Взял её адрес в Красный Куст. И вот, как-то зимой, в довольно холодную погоду, он перекладными добирается до этого Красного Куста, находит дом бабушки, стучится. А сам совсем замёрз, особенно ноги. Его быстро отогревать, потом – на печку. Жених, оказывается, приехал! Ну а как быть-то? Отдавать или нет, дочку-то? Поскольку в доме мужиков нет, то бабушка Маша повела его показать к нам, к Чекалиным. Посидели у нас, поговорили. Дядя Паша всем понравился, особенно важно было мнение дедушки, Василия Васильевича, а он тоже отозвался о нём хорошо. Так тем и кончилось, поженились. Случилось это в конце 1952 года.
Расписывались они в Токарёвке (в то время это было просто, в день обращения и расписывали), потом дяде Паше надо было возвращаться в часть, где он проходил службу. Зашли на базар, встретили крёстную тёти Шуры, Любовь Егоровну Собакину (Кудинову), сестру её отца. А Любовь Егоровна потом рассказывала, что на базаре в это время был и её кум, Фёдор Васильевич Выгловский, который вместе с ней крестил тётю Шуру. Она рассказала ему, что по базару ходит его крестница с мужем, только что расписались. Вот оба крёстных и перекрыли выходы с базара (их было два), чтобы перехватить молодоженов. Попались они Фёдору Васильевичу. Он, несмотря на протесты молодых, сказал: «Да вы что? Даже и слушать не хочу, в такой-то день!». Увёз их в Троицкие Росляи, к себе домой, и устроил им скорую свадьбу, по принципу «что Бог послал». А родни в Росляях было много. Вот и сыгралась свадьба, даже с гармошкой. Тётя Шура говорила, что было очень весело…
В 1973 году я закончил институт. На распределении (оно проходило у нас в 1972 году, перед военными сборами) сказали, что есть одно место в Долгопрудном, в ЦАО (Центральная Аэрологическая Обсерватория), но без общежития. Так вот тётя Шура, моя крёстная, и дядя Паша вместе взяли меня к себе жить в однокомнатную квартиру, да ещё и коммунальную. Конечно, обуза я им был достаточная. Ладно – тёте Шуре, а дяде Паше к чему всё это? Потом, через полтора года, я перешёл в общежитие. Я искренне благодарен им за то, что они для меня сделали…
Не хотела, тогда, в 1925 году, бабушка Маша выходить замуж за дедушку Серёжу. Полюбился ей Василий, брат жены Михаила Васильевича Выгловского. Но родительского несогласия побороть не могла. И Василий тоже не мог образумить своих родителей на брак с любимой. На наше счастье. А то бы кто сейчас всё это писал? Ну, правда, дураков («чудаков», как писал Сергей Есенин в стихотворении-письме к своей сестре) в жизни хватает и без нас.
Вскоре после войны ездили в Токарёвку мама и бабушка Маша. Зашли и в семью бывшего жениха, Василия. Его дома не оказалось, на работе был. А по дороге обратно бабушка Маша говорит маме:
– Вот, Зинушка, вышла бы я за Ваську-то замуж – отец у вас был бы. С войны-то, вон, живой вернулся.
Так-то оно так. Но только не с Зинушкой бы ты тогда разговаривала. И опять, строчки эти писал другой бы. А то и не было бы этих и других строк…
Болезнь бабушки Маши не отступила. В 1962 году, весной, она умерла, в Долгопрудном, у своей дочери Александры. Ночью, в дату её смерти, маме, словно наяву привиделось женское лицо и голос:
– Что же ты спишь? Твоя мать умерла.
В этот же день пришла и телеграмма из Долгопрудного.
Похоронена бабушка Маша в Новодачной, на Долгопрудненском кладбище, на 25-м участке, она первая открыла это место (входить надо по центральной аллее налево по тропинке между 24 и 25 участками; ориентиром будет совсем недалеко, с правой стороны от дорожки, могила Битюкова Юры, двоюродного племянника Живилкова дяди Паши). Вместе с бабушкой Машей упокоились в одной оградке и зять её, Павел Федорович Живилков (14.03.1975 г.), и внук, Фунтик, Александр Николаевич Шведов (06.07.1990 г.), и внучка, Ирина Павловна Малышева (05.10.2012 г.), а теперь уж и две последних её дочки – Мария (08.11.2018) и Александра (06.07.2019)…
Дальше я приведу небольшие рассказики из того времени, связанные со Шведовым Шуркой и другими родственниками.
Шурка очень не любил купаться. Прямо до рёва. (Да и кто из детей это любил?) Часто он приходил к нам домой, поиграть с нами, Мишкой и Серёжкой. В тёплое-то время ещё ничего, долго светло. А вот зимой темнеет рано, не очень складно топать до дома по темноте. А как его отправить к бабушке? Выход у мамы нашёлся соответствующий. Она вечером объявляла:
– Так, ребятишки, всё, собирайтесь, сейчас будем купаться!
Тут уж Шурка встаёт и говорит, что, мол, мне надо домой, а то бабушка заругается…
Или такое. Приходит он к нам как-то зимой. А на улице – круговерть, ветер с нашей западной стороны на деревню, шумит даже в трубе. Мама его спрашивает:
– Как же ты дошёл в такой ветер?
– Как хорошо! Я под ветерок!..
1961 год. Полным ходом идёт денежная реформа, обмен 1:10. Из старых денег оставили в обращении только медные 1, 2 и 3-х копеечные монеты. Когда об этом узнали, то было уже поздно. Мама работала в магазине. Накануне этого объявления к ней пришла ревизия и пересчитала медные деньги (их тогда не пересчитывали, а взвешивали, потому что номинал денежки примерно соответствовал количеству граммов сплава, из которого она была изготовлена). Но, помню, что-то осталось и у нас, кажется, два килограмма (порядка 20 рублей новыми или 200 рублей старыми).
Лето. Мы с Шуркой идём на наш конец, к нам. Только что отошли от дома бабушки Маши, идём по дороге напротив магазина и дома Панюшкиных, соседей бабушки Маши, как Шурка поднимает с дороги красную бумажку, свёрнутую в несколько раз. Мы сначала подумали, что это обёртка от конфеты. Но оказалось, что это 10 рублей новыми, а по-старому – 100(!) рублей, огромная сумма. Мы такой даже ещё и в руках-то не держали, хотя и видели, даже и не сообразишь сразу, что это сто рублей. Я-то, конечно, видел, потому что мама приносила домой вырученные деньги, мы их и рассматривали. Пошли к бабушке Маше. Показал ей Шурка денежку, она, естественно, сразу сообразила, что это за деньги.
– Так, – говорит, – ребята, вы никому не сказывайте, что нашли, а то отберут. А тебе, – это она уже Шурке, – я куплю саблю.
Шурка давно уже приставал к ней с этой саблей.
На следующий день бабушка Маша пошла в Полетаево, эти деньги она положила в сберкассу, а Шурке купила долгожданную саблю за 10 рублей (старыми), на её ножнах так и было написано: «Цена 10 руб.».
Тогда, в советское время, на всех товарах стандартно и нестираемо писали цену, например, на литых чугунных утюгах: «ц. 12 р. 30 к.».
Шурке бабушка сказала:
– Вот, теперь ты можешь говорить, что нашёл десять рублей, и тебе бабушка на них купила саблю.
Теперь Шурка ходил по деревне героем, с саблей на боку, на зависть всем друзьям-мальчишкам. Да и было чему завидовать: красные пластиковые ножны, в них блестящее алюминиевое лезвие с пластиковой ручкой, а к ножнам прицеплен с двух концов настоящий кожаный тонкий ремешок. Прямо хоть в командиры назначай…
И другое, что тоже осталось в памяти.
1962 год. В мае месяце умерла бабушка Маша. А летом к нам приехали все долгопрудненские: тётя Шура с дядей Пашей и Ирой, тётя Маруся с Шуркой, а своего тогдашнего мужа, дядю Колю Пашкова, она с собой не взяла. Родители её в этом даже упрекнули. Но он через два дня явился, сам доехал, по адресу. Утром бабушка Вера выходит на улицу, а к дому подходит мужик, спрашивает Чекалиных, где, мол, такие живут.
Помню, что долгопрудненцы привезли с собой чуть ли не два мешка батонов белого хлеба, который мы потом называли «по тринадцать копеек», сушек, баранок, конфет. Может быть, и ещё что было, но из всего этого «ещё» запомнилась копчёная селёдка. Душистая такая и вкусная невообразимо какая. В наш магазин такой товар никогда не привозили.
Послали гонца в Троицкие Росляи, к Фёдору Васильевичу Выгловскому, маминому крёстному, брату бабушки Маши. На следующий день он приехал на тарантасе, но не один, а вчетвером. С кем, не помню, но точно была его дочка Юля, огромного веса тётенька. Как она говорила – «семь пудов». Все за столом не поместились. Детей (Мишу, меня, Валю, Иру, Шурку и кого-то из приехавших с Фёдором Васильевичем), естественно, не сажали, нас отправили обедать на крыльцо, а мама с бабушкой и отец – прислуживали гостям, подавали-принимали.
Какие разносолы были на столе – не помню. Только что помню просто гору сырников и миску сметаны. Потому, вероятно, и помню, что Юля «семипудовая» поедала их в большом количестве. Уж тётя Шура ей сказала:
– Юля, ну куда же ты так много ешь? И так, вон какая полная!
На что Юля ответила:
– А я прямо не могу не есть, всё время голодная! Никак не остановлюсь.
Тарелок отдельных никому не ставили, да их в таком числе вряд ли у нас и было. Ели горячее (первое) и второе (что было не сырники, а мясное) из одной миски. Бабушка с мамой только успевали подливать и подкладывать, а отец распоряжался с бутылками. По случаю таких высоких гостей самогонку не ставили (а она у нас и в Красном Кусте была практически бесперебойно, отец тайно и с большими предосторожностями делал там этот продукт), только водку и портвейн (для желающих). За спиртным в магазин не бегали, поскольку у нас дома всегда (да и до сих пор) было магазинное спиртное. Это ещё повелось с той поры, когда мама работала продавцом в нашем деревенском магазине. Ящик с вином и водкой стоял под кроватью родителей. Но тогда в нашей семье можно было не беспокоиться за его сохранность. Это уже значительно позже, после службы в армии, стал выпивать Миша. Мама потихоньку начала выпивать ещё с Красного Куста, примерно с 1965 года, когда отец уехал добывать новое место жительства в Московской области, а уже в Узуново она пристрастилась сильно к выпивке (они, продавцы в магазинах, часто устраивали застолья прямо на работе).
(Но Миша – настоящий герой, у него оказался очень твёрдый характер: он в одночасье бросил выпивать, окончательно и бесповоротно. Думаю, уже лет тридцать пять этим не занимается, даже чуть-чуть. Хотя в их доме, в Подхожем, не переводятся спиртные напитки, в том числе – самостоятельного изготовления. Надо сказать, что эти напитки весьма вкусные, как вино, так и что-то покрепче. И до сих пор. Вот недавно, летом 2020 года, мы ездили к ним за мёдом. Надя, жена Миши, нам с Мариной дала попробовать поллитра своего виноградного вина, из своего винограда. Нам очень понравилось.)…
Но продолжу о приезде долгопрудненских. Дня через два все гости и часть из нас пошли половить рыбки на Пичаевский пруд, который недавно образовался в связи со строительством плотины. Миша пошёл к своему другу, деревенскому охотнику и рыболову, Авилову Ивану Тарасовичу, а в обиходе – Таращу. Взял у него бредень. Пошли большой шумной компанией: дядя Паша, Миша, дядя Коля Пашков, я и Шурка. Женщин с собой не взяли, как сказал дядя Паша: «Чтобы не спугнуть рыбу».
Помню, что всю дорогу к Пичаевскому пруду хохотали, глядя на пушистые пятки дяди Коли. Дело в том, что прямо перед нашим походом прошёл дождь. Дядя Коля приехал в босоножках и на босу ногу. Носки, заштопанные нитками из козьего пуха, ему дала бабушка. Шли лугом, по мокрой траве. Заштопанные части и распушились, стали мохнатыми. А на обратном пути добавилось и другое. Рыбы в пруду не оказалось, не завелась ещё по молодости пруда (так что и отсутствие женщин в нашей компании, как оказалось, совсем не могло нам помочь), но зато бреднем вытащили гору головастиков, многие даже уже и с ножками, полулягушки. Дядя Коля, увидев их, бросился собирать в ведро с водой, приготовленное для рыбы:
– Какие налимчики маленькие!
Тем дело и кончилось, пушистыми пятками да налимчиками в виде головастиков и нашим весёлым смехом при возвращении домой…
Немного расскажу и о дяде Коле Пашкове. Он был очень добрый и мягкий человек, как, впрочем, и первый её (тёти Маруси) муж, Шведов Николай Николаевич, родом из почти ближней деревни с названием Хорёвка (на картах Менде – Харёвка; получается некоторое разночтение: то ли от животного хорёк, то ли от слова харя). Нашим всем он, Пашков Николай, очень нравился. Тётю Марусю, я уже об этом сказал выше, даже укоряли в первый день, что не взяла его с собой. А вот за что его невзлюбил Шурка, не знаю, даже и в голову не приходит ничего вразумительного. Дядя Коля хорошо к нему относился, старался быть больше даже, чем отцом. Но взаимности не было. Дядя Коля просто стоически терпел выходки Шурки, и продолжал бы терпеть, если бы тётя Маруся с ним не развелась…
Собралось нас, с приездом долгорпрудненских, двенадцать человек. Ночевать в дом бабушки Маши никто не пошёл. Нас, мальчишек, Мишку, меня и Шурку, положили на полу в горнице, мы с Мишей по краям, а Шурка – в серединке. Все Живилковы, дядя Паша, тётя Шура и Ира, спали в омшанике. Тетя Маруся с дядей Колей в избе на бабушкиной кровати, родители в горнице на своей кровати, а рядом с ними, на сундуке, Валя. Бабушка, хоть и лето, на печке.
Как-то вот так лежим мы рядом с Шуркой, он и спрашивает:
– Серёжа, скажи, а вы всегда так едите, как сейчас?
Я ответил, что нет, это потому, что у нас гости. А в другое время сам знаешь, как бывает, по-разному.
Это он потому, вероятно, так спросил, что его мать очень плохо готовила. Когда Шурка жил у бабушки Маши, то разносолов-то, вообще говоря, особых не было. Но что спасало, так это молоко. У бабушки Маши всегда была корова, которая давала много молока, даже до тридцати литров в день. Да и молоко было очень жирное. Когда бабушка Маша заболела, то она сразу продала свою корову, в нашей же деревне. У неё и тёлочки были нарасхват. Какой породы её корова, не знаю, но такого цвета, серого, ни у кого не было…
Дополню следующим, хотя особенно это и не относится к бабушке Маше. Как-то, в один из зимних вечеров, я ночевал у бабушки Маши. В это же время у неё был и внук, Саша Шведов. Запомнилось, что бабушка рассказывала, как однажды, когда они жили в землянке в Свободном Труде (дедушка в это время был на войне), их погреб ограбили. Взяли всё молоко в горшках, сметану, сливки и сливочное масло. Даже больше ей было жалко посуду, а не то, что в ней находилось. Молоко-то – дело наживное, а вот горшки (так у нас называли глиняные кринки) достать – целая проблема. Погреба тогда в деревне не закрывали на замок, кто-то, возможно, и закрывал, но бабушка Маша этого не делала, ни в Свободном Труде, ни в Красном Кусте. Только дверь прикрыта на палочку. Да, впрочем, что может спасти от такого? Обокрали не только её погреб. Ещё несколько хозяев жаловались на то же самое.
И вот это мне вспомнилось, когда я лежал в московской больнице № 83, в феврале 2009 года. Вместе со мной в палате лежал Шохин Михаил Александрович, дядя нашего политика Александра Николаевича Шохина. Он лежал бесплатно, в отличие от меня, поскольку был ликвидатором последствий Чернобыльской аварии.
Михаил Александрович очень хороший собеседник и рассказчик, прямо хоть записывай на магнитофон и потом публикуй без редакции. Весьма редкое качество. Я уж ему сказал, что Вам надо бы всё это записать. На это он ответил, что писать не очень любит, да и когда пишешь, то так не прозвучит, как в простом рассказе.
Я рассказал ему, что мой брат живёт в Подхожем, в Серебряно-Прудском районе, что у него в собственности большой участок земли, 7 гектаров. Михаил Александрович сказал, что он очень хорошо знает Подхожее, так как у его брата там в собственности дом, и Михаил Александрович довольно часто приезжает туда, когда на машине, а больше он любит на мотоцикле (а ему уже было в это время хорошо под восемьдесят лет).
Мало того, я продолжаю рассказывать, что наша семья, вообще-то, приехала сюда из Тамбовской области, из Токарёвского района. На что Михаил Александрович сказал, что он и Токарёвку знает очень хорошо, поскольку находился в ней во время войны в детском доме. Примерно в 1937 году их отца арестовали, маму от троих детей тоже забрали (она знала несколько иностранных языков: французский, английский, немецкий, польский и, кажется, чешский). А события в мире вели к тому, что профессия переводчика становилась очень нужной: дело приближалось к войне с Германией. Всех троих детей разбросали по разным детским домам.







