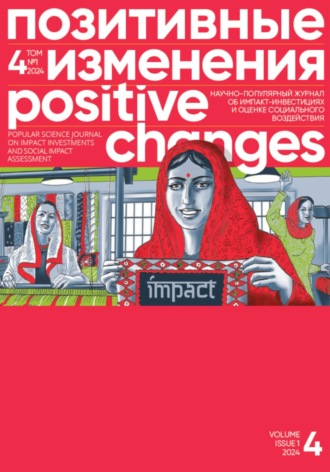
Редакция журнала «Позитивные изменения»
Позитивные изменения. Том 4, №1 (2024). Positive changes. Volume 4, Issue 1 (2024)
«Я немножко гик и айтишник, и это значит, что я люблю всё измерять. Когда я что-то делаю, хочу быть уверен, в первую очередь сам для себя, что это имеет смысл и произвело какие-то эффекты. Для того чтобы знать, что измерять, нужно знать, как действует та программа, которую ты создаёшь. Я говорю о таком инструменте, как теория изменений. По сути, это просто документ, который описывает, как работает ваш проект, почему именно тот путь, которым он идёт, приносит результаты, а ещё он помогает понимать метрики, глядя на которые вы будете видеть – проект работает хорошо или плохо», – поделился Глеб Лихобабин.
Глеб призывает всех применять теорию изменений и получать удовольствие от того, как она открывает реальный взгляд на то, как работает социальный проект. «Приведу короткий пример. Мой первый социальный проект был про помощь учителям. Мы делали фестивали для учителей и учили их использовать IT на уроках. Знаете, какое для меня было откровение, что мой благополучатель – не учитель? А как вы думаете, кто? Правильно, ученик, конечно. Это для меня всё перевернуло – я понял, как работают социальные проекты», – добавил эксперт.
Ухоженный, чистый, безопасный, зеленый город… Здесь комфортно людям разного возраста, развито добрососедство, а домашние и даже бездомные животные чувствуют себя хорошо. В таком городе есть место творчеству, эксперименту и юмору. Локальный продюсер помогает авторам социальных инициатив воплотить свои идеи, а форсайт-модераторы и медиаторы спроектировать будущее территорий и услышать друг друга. Доступная среда создана для людей с любыми особенностями здоровья. А благодаря теории изменений авторы социальных проектов умеют планировать и оценивать импакт. Именно таким видят развитие городов и сообществ участники конференции. А каким его видите вы?
How Kind Is My City? Report from the “City and Community Development” Conference
Yulia Vyatkina
DOI 10.55140/2782-5817-2024-4-1-26-33
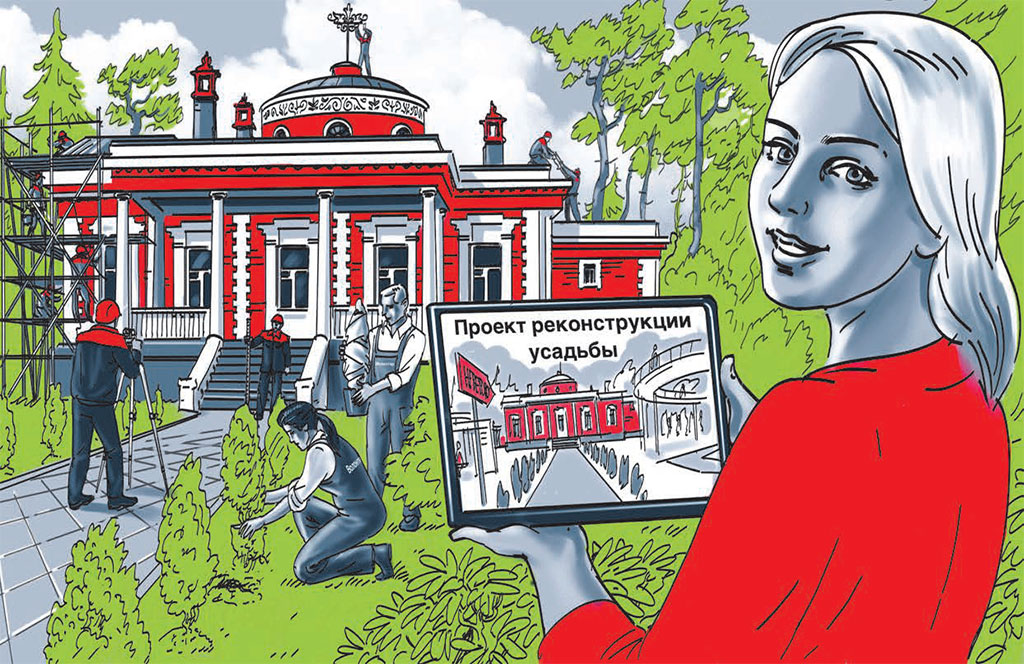
How the dynamics of engaging with local communities are evolving, what lies ahead for them in the near and distant future, how collaborative initiatives between businesses and NGOs assist residents in fostering their localities, and what factors enhance the social efficacy of such endeavors – these were among the topics discussed by urban planners, NGOs, futurists, and business delegates at the City and Community Development practical conference held in Moscow in February 2024. Here, we explore the core insights regarding potential territorial development scenarios as perceived by experts.

Yulia Vyatkina
Editor, Positive Changes Journal
KIND CITIES
In 2023, the Commonwealth of Kind Cities, comprising over 220 territories, teamed up with the Civil Engineering Laboratory to conduct a survey among citizens and tourists across various Russian cities, aiming to address the question: What truly defines a city’s kindness in their eyes? The outcome of this research led to the formulation of a methodology[34] grounded in the genuine needs and perceptions of city dwellers and visitors alike.
“We didn’t have any expectations about what people might reveal, something beyond our knowledge. Rather, we were interested in noticing the recurring themes. We conducted focus group research in Penza, Vladivostok, Irkutsk, St. Petersburg, and other locations. Our guide encompassed 40 questions. Drawing from the responses, we devised the methodology “How Kind Is My City/Town to Its Residents and Visitors.” We analyzed the feedback through the lens of what NGOs could feasibly undertake. This methodology serves as a sort of checklist[35] for evaluating one’s city. Moreover, it is a catalyst to engage with partners and citizens during the project conceptualization phase, shedding light on areas where improvements are still needed within their communities,” says Daria Buyanova, Marketing Director of the Kind City St. Petersburg Charitable Foundation.
The creators of this methodology underscored the significance of non-profit initiatives delivering genuinely beneficial and sought-after projects for the city – endeavors that garner recognition and appreciation from residents and visitors alike, thereby enhancing their happiness and comfort and contributing to the city’s reputation as a benevolent entity.
The kind city methodology encompasses 10 parameters. The authors assert their universality, applicable irrespective of a municipality’s size or geographical location. For instance, the first parameter, “Proud of Heritage and Its Preservation,” extends beyond cities boasting rich historical legacies, also encompassing single-industry towns with three decades of history that cherish their heritage.
The essence of this parameter is the city’s reverence for its history and culture. Historic landmarks are either restored or just maintained well, looking tidy. Many historical sites serve communal functions and are accessible to the public. Attention to detail is important: original signage is refurbished, architectural trimmings and plaques are preserved, and lost elements are recreated. Residents and visitors alike are acquainted, or can readily acquaint themselves, with the city’s history.
Key areas of focus include the restoration and upkeep of historical landmarks, the aesthetic appeal of these sites, the preservation of historical nuances in the urban landscape, as well as initiatives aimed at their conservation and promotion.
Indicators for assessing this parameter are:
• The presence of historical landmarks evoking pride;
• Visible restoration efforts or ongoing processes;
• A scarcity of dilapidated historic structures;
• The visibility of diverse historical elements (including those from the Soviet era);
• The presence of informative plaques detailing building histories;
• Accessibility of historical tours;
• The availability of many historic buildings for internal exploration;
• The existence of projects/events aimed at heritage preservation and promotion, such as clean-up drives, festivals, and historical reenactments;
• Instances of private investors restoring historical sites for commercial use;
• Few instances of historical site demolition or destruction by fire.
The creators of the methodology cite several examples of NGO initiatives:
• Assessing the existence of historical preservation projects within the city;
• Organizing or promoting historical tours;
• Raising awareness through media channels about threats to historical heritage;
• Participating in nationwide movements like the Tom Sawyer Fest or Fasadnik to collectively refurbish building facades;
• Hosting events in the courtyards of historic buildings to underscore the imperative for restoration (case in point: the “City Art Laboratory” held in the courtyard of a historic mansion in Krasnoyarsk);
• Launching public fundraising campaigns to finance the restoration of historical elements in the urban environment.
Among the other parameters of the proposed methodology are: “Helping Animals,” “Visible Presence of NGOs and Initiative Groups in a Kind City,” “Developed Good-Neighborliness,” “City Cleanliness,” “Efficient Navigation,” “Green Areas in the City,” “Good Environment for Children,” “Accessibility,” and “Distinct City Identity and Brand.” “The methodology describes in detail each parameter, along with its indicators and potential actions for NGOs. It is important to reiterate that this is a form of self-assessment. We observe which signs of a kind city are noticeable to both locals and visitors. Then, by examining our projects and programs, we attempt to align them with these focal points. For instance, if cleanliness is deemed a hallmark of a kind city, even as an organization focused on the elderly, we might organize a community cleanup or a tree-planting event. Thus, this methodology serves as a tool for NGOs to reflect on their activities from an external perspective, identifying further avenues for engagement,” explains Daria Buyanova.
Respondents also identified other crucial aspects of a kind city that are challenging for NGOs to influence, but someone may be able to address. These include the provision of public toilets, affordable and delectable dining options, and access to clean drinking water. Additionally, urban media and forums for citizen input into decision-making processes are vital for residents, while polite drivers, street music beyond festive occasions, and positive feedback about the city from locals enhance the experience for visitors.
The kind city methodology encompasses 10 parameters. The authors assert their universality, applicable irrespective of a municipality’s size or geographical location.
LOCAL PRODUCERS, FORESIGHT MODERATORS, AND ALTERNATIVE FORMATS
What forms of engagement can facilitate the understanding and implementation of citizens’ needs? Firstly, participatory design involves creating public spaces with input from local residents, communities, active citizens, experts, government representatives, local businesses, and other stakeholders.
“Participatory practices offer a means to engage with the ultimate beneficiaries of a product. This approach is not limited to developers but is utilized by various entities. Often, initiatives proceed from the top down, lacking validation from the audience. However, involving people in shaping their environment yields significant benefits. The primary impact is a sense of ownership among residents, shifting from a consumer to a custodial mindset. Moreover, participatory practices foster community-building. This process follows a roadmap with stages of evolution: ideation, coalition-building, research, design, active participation, and reflection. Engaging individuals in projects through this process three times is what makes self-organized communities,” elucidates Lyubov Gurariy, an expert in community engagement and curator of participatory practices at A101 Learnity.
Secondly, there is a need for “entry points” for citizens – visible, alternative spaces in the city where residents can showcase their contributions through socially beneficial actions. For instance, Syzran has its ”third place” in the city center – the “anti-space” called Walls, which provides a venue for events, communal coffee breaks, and coworking sessions.
“We’re grassroots in our approach. Residents not only voice their desires but substantiate them through action. When the Tom Sawyer Fest arrived, platbands “took residence” in our anti-space. People came to restore them, accompanied by tea and guitars, sometimes extending into the dead of night. When, six months later, the platbands became an art installation on our riverfront, it underscored people’s commitment to preserving what they had nurtured,” recounts Maria Azizova, founder of Walls anti-space and ambassador for the Commonwealth of Kind Cities.
Participatory practices foster community-building. Engaging individuals in projects from ideation to reflection three times is what makes self-organized communities.
Another illustrative initiative is the “If There’s a Gap…” forum, showcasing contemporary cultural and artistic expressions. The forum featured an initiative competition, with the winning project, Living Dies, shedding light on forgotten yet captivating locales in Syzran.
“The project team explored several sites, proposed an informal tourist route, and presented it at various venues, not only in our anti-space but also at the local community center and during town events. Following Syzran’s victory in the All-Russian Competition for the Best Urban Tourism Project, Living Dies may get a resurgence. It’s a prime example of grassroots efforts leading to something significant – something to take pride in, making the city genuinely benevolent and enhancing its allure,” concludes Maria Azizova.
Another avenue through which significant projects can be initiated is production. Experts anticipate an increasing presence of local producers in cities and towns – individuals who have personally navigated from inception to execution of initiatives and can aid in locating other activists within the community capable of reshaping the social and economic landscape. Moreover, foresight moderators – specialists who facilitate defining the desired future vision and reaching agreements on actions within its context among all stakeholders – are emerging in these territories. For instance, there exists a regional community of foresight moderators in Rostov-on-Don, offering complimentary training on developing moderation skills and fostering trustful communications.
“We’ve recognized that there is no abundance of adept communicators in small towns. Often, at gatherings, every citizen clamors for attention, impeding consensus. They lack a moderator to facilitate hearing all perspectives. Thus, our School of Moderation and Communication was conceived. So far we’ve trained 118 moderators from 5 regions and 15 municipalities. Now they hold foresight sessions in small towns, where representatives of business, government, and NGOs meet. Throughout the day, they exchange views and craft roadmaps for territorial development. Our students hail from various walks of life: government officials, NGO representatives, business owners, educators, school principals, and clergy. The quality moderation training we provide is our contribution to both human capital development and territorial progress,” shares Victoria Musichenko, an expert at ANO Integra and head of the LIRO School of Moderation and Communication.
Experts anticipate an increasing presence of local producers and foresight moderators in cities and towns, capable of reshaping the social and economic landscape.
However, to ensure the visibility of activism in the city, mere community presence is insufficient; funding is imperative, notes Oleg Sharipkov, director of the Endowment Knowledge Center. Funding mechanisms include endowments, grant and social startup competitions with low entry barriers, initiative schools, and accelerators.
“When we administer micro-grant competitions and review applications, we discern the townspeople’s grievances and their readiness to tackle issues autonomously. Funding tools like endowments sustain community engagement, enhancing their living environment. Yet, horizontal connections are equally vital – we require more of them,” asserts Oleg Sharipkov.
Recognition of citizens’ endeavors in shaping a benevolent and appealing city can be found in tourism development. This is also a format highlighted by experts.
“In small towns and communities, there are invariably two patterns. There are residents inclined towards profit-making, while others greet any tourist with skepticism. I recall our trip to Myshkin in the late 90s, then a tiny town in Yaroslavl Region, near the Gazprom pipeline. We debated whether domestic tourism was viable in Russia. Presently, Myshkin’s tourist influx rivals that of island towns (editor’s note: Myshkin’s population is circa 5,000, and the city annually welcomes about 200 thousand tourists). Tourism must encompass economy, environment, community, and brands – a form of professional democracy enabling everyone to contribute manually. These principles underpin sustainable development and cost-conscious management,” remarks Evgenia Podarina, a member of the Committee for Sustainable Tourism Development at the Russian Union of Travel Industry.
Compelling instances of tourism and urban development rooted in community engagement include Vyksa’s Art Gully festival, Ivanovo Region’s distinctive locales (Ivanovo, Plyos, Palekh, Lukh), Suzdal, Uryupinsk, and Dobryanka.
HUMAN-CENTRICITY VS. TECHNOCENTRICITY
In contemplating the future of urban and community development, the discourse naturally gravitates towards human-centricity – the cultivation of an environment offering novel avenues for personal growth and enhanced self-perception. However, this ethos finds itself juxtaposed with a technocentric worldview where humans become mere data sources. Ruslan Yusufov, a futurologist and the founding managing partner of MINDSMITH, believes that given society’s accelerating digitization, it is time for us to contemplate creating an inclusive environment not only for individuals with disabilities but also for those opting to augment their health capabilities or cognitive faculties through technical enhancements. Moreover, current realities present us with stark dichotomies. On one end, there are communities and tribes rejecting modern technologies entirely, thereby evading associated risks, while on the other, individuals are increasingly integrating with technology to the extent of resembling cyborgs.
“Experiments are already underway to implant devices in the human brain that significantly enhance IQ. But will such individuals be able to effectively communicate their thoughts to us? How can we bridge the gap in life experiences to communicate effectively? Isn’t it time to consider creating a comfortable environment for these individuals? NGOs tasked with addressing social issues may find themselves ineffective without a grasp of the emerging challenges. From childcare to the issues of troubled teens and unemployment, if NGOs fail to understand the implications of AI, their efficacy may dwindle. The range of things they can influence will shrink. It is crucial for all social initiatives and organizations to get additional expertise and anticipate future needs to maintain relevance,” noted Ruslan Yusufov.
Whether discussing the present or the future, developing a quality social project should adhere to the principles of the Theory of Change,[36] asserts Gleb Likhobabin, co-founder and strategy director of Collab.
“As a bit of a geek and an IT enthusiast, I love to quantify everything. When I do something, I need to ensure, primarily for my own satisfaction, that it’s meaningful and impactful. To determine what metrics to measure, one must understand how the project functions. This is where the Theory of Change comes into play. Essentially, it’s a document outlining the inner workings of your project, explaining why the chosen path yields results. It also aids in comprehending metrics that indicate project efficacy,” shared Gleb Likhobabin.
Gleb advocates for the widespread application of the Theory of Change, emphasizing how it provides genuine insights into the mechanics of social projects. “Allow me to share a brief example. My first social project aimed to support teachers. We organized festivals for educators, teaching them how to integrate IT into their teaching practices. Imagine my revelation when I discovered that our true beneficiaries weren’t the teachers. Who do you think they are? That’s right, the students, of course. This realization completely transformed my perspective on social projects,” added the expert.
A well-maintained, clean, safe, and green city, where individuals of all ages find comfort, where there’s a strong sense of community, where even stray animals feel at home. Such a city allows for creativity, experimentation, and humor. Local producers aid the authors of social initiatives in bringing their ideas to life, while foresight moderators and mediators help shaping the future of territories by facilitating dialogue. An inclusive environment caters to individuals with diverse health needs. And thanks to the Theory of Change, social project leaders possess the tools to plan and evaluate their impact. It is this vision of urban and community development that resonates with conference participants. How do you envision it?
Экспертные статьи / Expert Publications
«Я люблю свою работу». Факторы корпоративного благополучия в НКО и гипотезы о роли оценки
Алексей Кузьмин, Владимир Балакирев
DOI 10.55140/2782-5817-2024-4-1-34-44

Когда представители некоммерческих организаций обсуждают благополучие или качество жизни, в фокусе внимания, как правило, оказываются их благополучатели. Это вполне естественно, поскольку некоммерческие организации (НКО) создаются ради того, чтобы решать проблемы людей, которые нуждаются в поддержке, способствовать повышению их качества жизни. Благополучие сотрудников НКО, как правило, оказывается «за кадром», хотя существенным образом влияет на эффективность работы НКО и, в конечном итоге, на то, в какой мере они способны помочь своим благополучателям.

Алексей Кузьмин
PhD, генеральный директор компании «Процесс Консалтинг», член совета Международной Академии оценки

Владимир Балакирев
Директор по развитию компании «Процесс Консалтинг»
В этой статье[37] мы попытаемся отчасти восполнить этот пробел и обсудить факторы, влияющие на корпоративное благополучие НКО. Кроме того, мы постараемся обосновать гипотезу о том, что полномасштабное внедрение оценки в деятельность НКО может повысить уровень благополучия сотрудников этих организаций.
ЧТО ТАКОЕ «КОРПОРАТИВНОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ»
В литературе используются как минимум три термина, значения которых очень близки: корпоративное благополучие, благополучие сотрудников и благополучие на рабочем месте. В данной публикации мы будет считать их синонимичными.
В целом степень благополучия свидетельствует о том, как люди себя чувствуют, как функционируют и как оценивают свою жизнь. Исследователи отмечают три аспекта благополучия (Jeffrey, Mahony, Juliet & Abdallah, 2014):
• Гедонистический[38] (относится к чувствам или эмоциям людей).
• Эвдемонический[39] (относится к ощущению счастья).
• Оценочный (относится к тому, как люди оценивают свою жизнь).
Эти три аспекта благополучия характеризуют определенное состояние сотрудника, при котором он успешно реализует собственный потенциал, продуктивно работает и вносит свой вклад в развитие компании и общества в целом (Лисовская, Кошелева, Соколов & Денисов, 2021). Такое состояние называют благополучием сотрудника (там же).
Таблица 1. Структура благополучия: видение консалтинговых фирм

Источник: Лисовская и др., 2021
МОДЕЛИ КОРПОРАТИВНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ
Существуют различные модели благополучия на рабочем месте, которые отличаются количеством составляющих. Майра Лещевиц и Зейн Густа на основании проведенного ими анализа литературы выделяют следующие подходы (Leščevica & Gusta, 2022):
• 5 составляющих благополучия на рабочем месте: положительные эмоции, вовлеченность, взаимоотношения, значимость, достижения.
• 8 составляющих благополучия на рабочем месте: физическая, связанная с работой, интеллектуальная, социальная, духовная, экологическая, эмоциональная, финансовая.
Консалтинговые компании, которые специализируются в сфере корпоративного благополучия, используют собственные модели (Таблица 1).
В последние годы все чаще обсуждается цифровая составляющая благополучия сотрудников[40]. Цифровое благополучие чаще всего описывают как способность сотрудника заботиться о своем здоровье, безопасности, отношениях и балансе между работой и личной жизнью в цифровой среде. Сюда также относится способность использовать цифровые инструменты для достижения личных целей (например, для укрепления здоровья и занятий спортом), для участия в общественных мероприятиях, для управления цифровой рабочей нагрузкой (Shah, 2019).
Рисунок 1. Модель корпоративного благополучия

Источник: Jeffrey et al., 2014
Легко заметить, что во всех приведенных выше моделях есть сходные компоненты. Но у них есть одно не столь очевидное сходство. Дело в том, что благополучие на рабочем месте характеризуется ощущением сотрудника, которое связано с удовлетворенностью внутренними и внешними факторами (Aryanti, Diah Sari & Widiana, 2020). То есть все факторы благополучия во всех моделях можно разделить на внешние и внутренние.
К числу внешних факторов, оказывающих влияние на уровень благополучия на рабочем месте, относятся: эффективное использование времени, условия труда, стиль руководства, возможности продвижения, признание хорошо выполненной работы, признание как личности на работе, заработная плата, безопасность работы. Внутренние факторы, оказывающие влияние на уровень благополучия на рабочем месте: ощущение и осознание своих достижений; ощущение собственного прогресса, развития; чувство ответственности (там же). Отметим, что внутренние факторы во многом определяют позитивную самооценку человека («я – хороший», «я – могу», «я – ответственный»).
Универсальная модель корпоративного благополучия, сформированная на основании анализа литературы, представлена на Рисунке 1.
ВЛИЯНИЕ БЛАГОПОЛУЧИЯ СОТРУДНИКОВ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИИ
Исследователи полагают, что связь между благополучием сотрудников и эффективностью работы организации можно считать доказанной (De Neve, Kaats & Ward, 2023). Чем выше уровень благополучия сотрудников, тем выше производительность труда и удовлетворенность клиентов, лучше атмосфера в коллективе и рабочий настрой, ниже риск выгорания и текучесть кадров (Смурова, 2018).
Заботиться о том, насколько комфортно и благополучно работник ощущает себя внутри рабочего процесса и вне его, в конечном итоге, оказывается выгоднее, чем концентрироваться исключительно на премиях и контрактных обязательствах (Mercer Marsh Benefits, 2019).
КАК ЛУЧШЕ ВСЕГО СПОСОБСТВОВАТЬ БЛАГОПОЛУЧИЮ НА РАБОТЕ
Анализ публикаций, посвященных исследованиям факторов корпоративного благополучия, позволил исследователям сформулировать такие рекомендации (Jeffrey et al., 2014):
• Имеются убедительные доказательства положительной связи между хорошим здоровьем (включая здоровый образ жизни) и благополучием.
• Установление правильного баланса между работой и личной жизнью является эффективным способом избежать одного из главных факторов стресса на работе.
• Максимизировать общее благополучие сотрудников организации можно посредством справедливой оплаты их труда.
• Организации могут использовать различные подходы к обеспечению занятости (например, гибкий график или работа из дома), чтобы помочь своим сотрудникам достичь более высокого уровня удовлетворенности работой.
• Было доказано, что работа с сотрудниками над тем, чтобы они чувствовали, что справляются с решением поставленных перед ними задач, способствует большей удовлетворенности от работы и более высокому уровню морального духа.
• Стили управления, предполагающие диалогичность, вовлечение сотрудников в обсуждение важных вопросов, связанных с развитием организации, кажутся более успешными в укреплении благополучия на рабочем месте.
• Создавая безопасную рабочую среду, а также вызывая чувство социальной ценности работы организации, можно повысить ощущение удовлетворенности работой у сотрудников.
• Обеспечивая на достаточном уровне соответствие должности и имеющихся навыков, а также создавая условия для развития сотрудников, работодатели будут иметь хорошие возможности для формирования высокого уровня удовлетворенности сотрудников своей работой.
• Сотрудники лучше работают и чувствуют большее удовлетворение от того, чем занимаются, если имеют возможность контролировать свою деятельность, в частности, самостоятельно отслеживать выполнение планов, достижение поставленных целей, качество работы.
• Принимая меры по улучшению отношений на работе – уделяя особое внимание отношениям между персоналом и руководством, можно повысить не только удовлетворенность работой, но и удовлетворенность жизнью.
ОСОБЕННОСТИ КОРПОРАТИВНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ В НКО
Сразу отметим, что число исследований и публикаций на эту тему очень ограничено.
Исследователи отмечают, что для НКО-сектора типичны ситуации, когда значение внутренних ценностей превосходит значение внешних факторов, влияющих на благополучие работника (Navajas-Romero, López del Río & Ceular-Villamandos, 2020). При этом современные исследования показывают, что этого недостаточно для реализации самых благих намерений и достижения поставленных целей. Такой подход выглядит устаревшим и с точки зрения обеспечения благополучия сотрудников НКО. Внешние факторы необходимо принимать во внимание, чтобы избежать ошибок управления и повысить защиту персонала от выгорания, а также предотвратить потерю мотивации и снижение лояльности сотрудников (там же).
Так, согласно исследованиям, важнейшим ресурсом для руководителей НКО является команда сотрудников: инвестиции в совершенствование команд положительно влияют на организационный климат и способствуют повышению уровня корпоративного благополучия (там же).
Исследование подходов международных НКО к заботе о персонале (Porter & Emmens, 2009) показало, что ситуация весьма далека от благополучной. И это при том, что такие НКО имеют гораздо больше ресурсов и возможностей, чем, к примеру, небольшие НКО, ориентированные на решение проблем местных сообществ. Вот некоторые выводы по результатам упомянутого выше исследования:
• Практика заботы о персонале в исследуемых НКО выглядит непоследовательной, а существующие рекомендации (или минимальные стандарты), как правило, не соблюдаются.
• Во всех организациях действовали определенные меры, охватывающие отдельные аспекты заботы о персонале, но только одна треть опрошенных организаций имела четкую и конкретную политику заботы о персонале.
• Не существует согласованных определений, касающихся практики заботы о персонале в НКО-секторе.
• Некоторые организации разработали программы взаимной поддержки сотрудников. Взаимоподдержка обеспечивает оперативное реагирование на кризисы, но выстраивание такой системы требует времени.
• Менее трети опрошенных организаций проводят оценку своей практики заботы о персонале. Ни одна организация не проводила исследований (с опубликованными отчетами) в этой сфере.
Упомянутое исследование было проведено во время мирового финансового кризиса 2008–2009 гг. Мы полагаем, что на тот момент в международных НКО забота о персонале находилась под угрозой дальнейшего сокращения. Очень вероятно, что так и произошло, причем не только в такого типа НКО. По крайней мере, тема корпоративного благополучия в НКО точно не стала более популярной среди исследователей. В частности, нам не удалось найти более поздних опубликованных отчетов об оценке либо об исследованиях практики заботы о персонале в «третьем секторе».
МОЖЕТ ЛИ ВНЕДРЕНИЕ ОЦЕНКИ ПРОЕКТОВ И ПРОГРАММ В ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НКО ВЛИЯТЬ НА БЛАГОПОЛУЧИЕ СОТРУДНИКОВ? ГИПОТЕЗЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
Начнем с того, что именно мы считаем полномасштабным внедрением оценки в деятельность НКО. Попытаемся кратко описать идеальный вариант, который мы представили на IX конференции АСОПП в 2023 году[41]:







