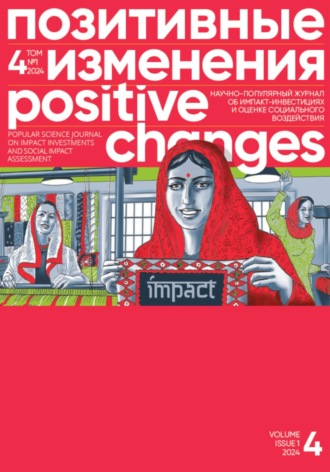
Редакция журнала «Позитивные изменения»
Позитивные изменения. Том 4, №1 (2024). Positive changes. Volume 4, Issue 1 (2024)
WHAT COMES NEXT?
The convergence of boundaries between hybrid NGOs, socially responsible businesses, and social entrepreneurs represents a natural progression in the evolution of social initiatives and the broader economic landscape. Impact entrepreneurship signifies a novel paradigm, synthesizing the foremost practices from these sectors to pursue genuine, substantial, and enduring social transformation.
More than a mere trend, this signifies a tangible shift toward a more constructive and accountable society, employing the most efficient methodologies and financial models to enact positive change. NGOs, social enterprises, and businesses will no longer have to adjust to a vast number of organizations that make decisions and regulate their activities and support measures. When the rules of engagement are straightforward and standardized for everyone, life and work become fundamentally simpler.
Развиваем позитивно. Опыт внедрения новой концепции профилактики детского и подросткового неблагополучия
Анна Хегай
DOI 10.55140/2782-5817-2024-4-1-74-85

Сосредоточиться на сильных сторонах подростков и молодежи, их потенциале и способностях, а не на нивелировании последствий трудного поведения – так звучит основная идея позитивного развития молодежи. Эта концепция стала набирать популярность в мире в 1990-х годах. В России тоже есть примеры некоммерческих организаций, разделяющих и применяющих на практике принципы данного подхода. В чем заключаются особенности этой концепции, и как ее использование помогает в профилактике детского и подросткового неблагополучия, рассказывает эксперт Благотворительного детского фонда «Виктория»[85].

Анна Хегай
Сотрудник департамента психологии, преподаватель, аспирант НИУ ВШЭ, ведущий психолог, методист Благотворительного детского фонда «Виктория»
АКТУАЛЬНОСТЬ
Начиная с 2010-х годов в Российской Федерации все больше обращают внимание на необходимость развивать потенциал подростков и молодежи. Стратегия развития молодежной политики на период до 2030 года адресована всем гражданам РФ в возрасте от 14 до 35 лет включительно. Одна из целей стратегии – поддержка молодых людей в стремлении к саморазвитию, благоустройству страны, преображению будущего.
Задачи активного вовлечения молодежи в гражданскую жизнь, профессиональное и личностное саморазвитие стоят перед разработчиками социальных политик по всему миру. Например, Европейская молодежная политика до 2027 года включает в себя такие цели, как равенство для всех молодых людей, инклюзия, конструктивный диалог, психическое здоровье и благополучие, расширение возможностей для молодых людей, проживающих в сельской местности и малых городах, качественная занятость и обучение для всех молодых, участие молодежи в гражданской и политической жизни, продвижение добровольческих и молодежных организаций. При этом отдельной сложностью является вовлечение в активную жизнь молодых людей, взрослеющих в трудных жизненных ситуациях.
Известно, что молодые люди, находящиеся в трудных жизненных ситуациях, переживают свой подростковый период и молодость как время борьбы с разного рода сложностями (Arnett, 2015), как время выхода на часто враждебный к молодежи рынок труда (Edin & Kefalas, 2005; Furstenberg, 2010). Ряд качественных исследований (Hendry & Kloep, 2010; Silva, 2016; Arnett, 2015) показывает, что подростки, имевшие трудный детский опыт, часто чувствуют себя взрослыми раньше, чем их сверстники, потому что им приходится брать на себя серьезные обязанности в раннем возрасте.
По данным Росстата за 2023 год, в РФ около 25 % всех детей и подростков живут за чертой бедности, около 2 % имеют опыт сиротства, а у порядка 7,5 % детей есть ограниченные возможности здоровья. Примерно 3,5 % всех детей и подростков, начиная с 2022 года, оказались непосредственно затронуты военными действиями[86]. Поэтому значительная часть молодых людей в России имеет относительно низкие стартовые возможности для реализации своего потенциала.
Современная социальная работа в России рассматривается как способ развития личности человека, реабилитации его субъектности. При этом практическая профилактическая работа с подростками и молодежью в тяжелых жизненных ситуациях часто сосредотачивается на выявлении дефицитов и их компенсации, и реже – на развитии сильных сторон личности (Жуков, 2022).
Современные теоретики социальной работы все больше говорят о необходимости пересмотреть подход к профилактике, перестать сосредотачиваться на дефицитах, а, напротив, уделить внимание работе с потенциалом развития каждого подростка и молодого взрослого в трудной жизненной ситуации, начать смотреть на клиентов не как на людей с ограничениями, а как на людей, обладающих неиспользованными ресурсами когнитивных, физических, эмоциональных, социальных и духовных способностей (Amodeo & Collins, 2007). Одним из таких подходов в решении вопросов детского и семейного неблагополучия является Концепция позитивного развития молодежи (Positive Youth Development, PYD), которая была разработана для интеграции молодых людей с трудным жизненным опытом в социальную жизнь и реализации их потенциала (Youngblade et al., 2007; Catalano et al., 2019).
ПОЗИТИВНОЕ РАЗВИТИЕ МОЛОДЕЖИ
Позитивное развитие молодежи – экологичная модель личностного развития человека, которая учитывает не только внутриличностные факторы, но и социальную среду, а также роль межличностных отношений в формировании успеха. Основоположник этой модели Ури Бронфенбреннер (Bronfenbrenner & Morris, 2007) подчеркивает, что развитие не является исключительно внутренним процессом, а скорее результатом двунаправленных отношений между людьми и их изменяющимся окружением. Ученые, педагоги и психологи, развивающие модель позитивного развития молодежи, опираются на сложный и нелинейный характер развития человека в периоде подросткового возраста и становящейся взрослости и учитывают неотъемлемую связь между молодыми людьми, контекстами и сообществами, в которых они взрослеют.
При использовании подхода PYD специалисты фокусируются на том, что уже есть, на доступных социальных и психологических ресурсах каждого молодого человека, а не на его недостатках, занимаются долгосрочным развитием и планированием, а не решают за молодых людей их текущие проблемы (Amodeo & Collins, 2007).
В фокусе внимания помогающего специалиста – навыки взрослой жизни, которыми должны овладеть молодые люди, а также факторы, которыми должна обладать окружающая среда, чтобы способствовать процветанию молодежи.
Модель позитивного развития молодежи включает в себя пять типов навыков (Bowers et al., 2010):
• Компетентность (competence) – включается социальная, когнитивная, академическая и профессиональная компетентность;
• Уверенность (confidence) – уровень самоуважения и воспринимаемой самоэффективности в отношении себя как личности, а не в отношении каких-либо отдельных характеристик;
• Связи (connection) – как наличие положительной связи с людьми и социальными институтами;
• Характер (character) – уважение к социальным и культурным правилам и нормам, владение стандартами поведения, чувство морали и чувство целостности;
• Забота (caring) – чувство симпатии и эмпатии по отношению к другим людям.
Также модель позитивного развития молодежи включает в себя создание специальной развивающей и защитной среды для подростков и молодежи в трудных жизненных ситуациях.
Компонентами такой среды (защитными факторами) являются (Youngblade et al., 2007):
• Поддержка семьи: программы позитивного развития молодежи должны вовлекать и поддерживать семью, поскольку она является важнейшим элементом защиты и руководства молодыми людьми;
• Заботливые взрослые: присутствие поддерживающих и заботливых взрослых в жизни молодых людей очень важно для их позитивного развития;
• Позитивные группы сверстников: программы должны быть направлены на вовлечение молодежи в позитивное взаимодействие со сверстниками и развитие поддерживающих отношений со сверстниками;
• Поддержка самооценки и чувства собственного достоинства: программы должны помогать молодым людям развить сильное чувство собственного достоинства и высокую самооценку, которые являются жизненно важными составляющими для их благополучия и успеха;
• Вовлеченность в школьную и общественную деятельность: поощрение молодежи к активному участию в школьных и общественных мероприятиях способствует их позитивному развитию;
• Возможности для развития лидерства и навыков: программы PYD должны предоставлять молодежи возможности для развития лидерских качеств под руководством заботливых взрослых;
• Физическая и психологическая защита и безопасность: создание безопасной и спокойной среды для молодых людей является основополагающим фактором их позитивного развития;
• Эмоциональная и моральная поддержка: программы должны оказывать эмоциональную и моральную поддержку молодым людям, помогая им справляться с трудностями, с которыми они сталкиваются;
• Возможности для принятия решений и управления: предоставление молодым людям возможности принимать решения, участвовать в управлении и брать на себя лидерские роли по мере взросления.
Рисунок 1. Общая схема работы со случаем

Источник: Борзов, 2020
В комплексных PYD программах обычно сочетают образовательные, волонтёрские, творческие, спортивные и иные мероприятия для максимального раскрытия потенциала молодежи (Taylor et al., 2017; Ciocanel et al., 2017). Программы позитивного развития молодежи сосредотачиваются на сильных сторонах, талантах и интересах молодых людей вместо исправления их недостатков (Karakulak & Cüre-Acer, 2021; Lerner et al., 2005).
Элементы концепции позитивного развития молодежи могут быть интегрированы в любую программу. Единого и правильного способа реализации подхода PYD не существует (Waid & Uhrich, 2020).
Мариан Амодео и Мери Элизабет Коллинз так определяют основные качества программ, опирающихся на концепцию позитивного развития молодежи (Amodeo & Collins, 2007):
• Опора на сильные стороны. Акцент делается на ресурсах молодежи, а не на проблемах;
• Сотрудничество. Молодежь привлекается в качестве партнеров для планирования своего будущего;
• Сообщество. Много внимания к активности в сообществе, где живет и взрослеет молодежь, а также к высокой степени участия молодежи в работе общественных институтов;
• Формирование компетенций. Деятельность направлена на овладение широким спектром навыков;
• Связанность. Межличностные и социальные связи, а также связи с членами сообщества занимают центральное место;
• Идентичность. Ключевым аспектом всех процессов развития и деятельности является понимание молодежью своей идентичности, чувство принадлежности к предпочитаемым группам;
• Целостность. Уделяется внимание всем аспектам здорового личностного роста, таким как физический, социальный, моральный, эмоциональный и когнитивный;
• Устойчивость и долгосрочность. Упор делается на долгосрочное планирование, а не на краткосрочные решения;
• Нормализация. Молодых людей поощряют видеть себя похожими на других молодых людей в поведении и развитии;
• Просоциальность и проактивность. Поощряется здоровое просоциальное развитие;
• Универсальность. Мероприятия доступны для всех, а не ориентированы на молодых людей с проблемами.
ПРИМЕР ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ КОНЦЕПЦИИ PYD В РАБОТЕ БДФ «ВИКТОРИЯ»
Благотворительный детский фонд «Виктория», чья миссия – сохранять, возвращать, создавать опору детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, в своей работе опирается на концепцию «Позитивное развитие молодежи». Ее отдельные элементы используются организацией с 2017 года, а с 2020 года – в полном виде.
Один из значимых проектов фонда – «Дом выпускника», в рамках которого выпускники приёмных семей и интернатных учреждений Краснодарского края получают социальные, психологические, юридические и иные виды помощи, а также возможность временного проживания в социальной гостинице.
Специалисты по социальной работе, психологи и кураторы БДФ «Виктория» сочетают концепцию PYD с технологией «Работа со случаем» (Борзов, 2020). Основные шаги технологии представлены на Рисунке 1.
Благодаря такому синтезу можно следить за тремя типами процессов, происходящих одновременно.
ПЕРВЫЙ ТИП ПРОЦЕССОВ. РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ
В фокусе работы куратора случая находится решение проблемы молодого человека с опытом сиротства. Специалист вместе с клиентом переводит проблему в задачу или серию задач для совместной работы. Примером может стать восстановление в учебном заведении, поиск работы и закрепление на рабочем месте, решение жилищного вопроса, восстановление утраченных документов.
Помогающий специалист и клиент совместно составляют план действий, где отдельно выделены зоны ответственности и конкретные шаги, которые будет предпринимать сам клиент, и конкретные шаги, которые будет совершать помогающий специалист.
ВТОРОЙ ТИП ПРОЦЕССОВ. РАЗВИТИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ КЛИЕНТА
Куратор случая рассматривает процесс решения проблемы как психолого-педагогическую возможность для развития навыков клиента: компетентности, уверенности, умения выстраивать связи, опираться на свои ценности, проявлять заботу по отношению к другим людям. Планируя реализацию плана действий, помогающий специалист и клиент стараются максимально задействовать сильные стороны для решения этих задач, а также ставить задачи в зоне ближайшего развития для каждого из этих навыков (Обухова, 2010).
ТРЕТИЙ ТИП ПРОЦЕССОВ. РАЗВИТИЕ ПОДДЕРЖИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ
БДФ «Виктория» прикладывает специальные усилия для создания поддерживающей среды на всей территории города Армавир, где реализуется проект «Дом выпускника». Фонд развивает программы поддержки приемных родителей (фактор – заботливые взрослые), оказывает содействие подростковым и молодежным проектам, направленным на развитие участия молодежи (факторы – возможность участия в решениях и управлении, лидерство), а также подростковым и молодежным волонтерским и спортивным проектам (факторы – лидерство, позитивные группы сверстников, вовлечение в общественную деятельность). Организует большое количество досуговых и поддерживающих мероприятий для разных возрастных групп (факторы – позитивные группы сверстников, эмоциональная поддержка), предоставляет безопасное жилье (фактор – физическая и психологическая защита).
В ходе проживания в социальной гостинице – центре «Дом выпускника» – у ребят формируются и укрепляются не только базовые навыки ведения домашнего хозяйства и личного бюджета, но и бережного отношения друг к другу, уважение, сплоченность, понимание «братского плеча», умение находить конструктивный выход из конфликтных ситуаций.
Специалисты, работающие в проекте, играют важную роль в помощи выпускникам в решении социальных, психологических и юридических проблем. Наличие необходимой профессиональной поддержки и опоры способствует укреплению индивидуальной сети социальных контактов, а также повышает уверенность в будущем.
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ПРОГРАММ И ТРЕНИНГОВ С ПОМОЩЬЮ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ МЕТОДИК
Одна из задач проекта «Дом выпускника» – обеспечить психологическую помощь выпускникам в проработке прошлого травматичного опыта, повышении самооценки и готовности к самостоятельной жизни, эмоциональному и личностному развитию. Особое внимание уделяется тренингам жизнестойкости (Ордина, 2023). Для измерения результативности и эффективности работы в направлении психологической помощи молодым людям с опытом сиротства, использовались следующие методики:
1. Тест жизнестойкости (С. Мадди) в адаптации Д. А. Леонтьева и Е. И. Рассказовой.
2. Опросник способов совладания (Ways of Coping Questionnaire – WCQ), разработанный Р. Лазарусом и С. Фолкман в 1984 г. в адаптации Л. И. Вассермана.
3. Экспресс-диагностика уровня самооценки, разработанный Н. П. Фетискиным и В. В. Козловым.
4. Опросник «Исследование волевой саморегуляции», разработанный А. В. Зверьковым и Е. В. Эйдманом.
ВЫБОРКА
Исследование проводилось в 2021–2022 учебном году. В тренингах жизнестойкости в рамках проекта «Дом выпускника» участвовали 27 подростков (предвыпускники и выпускники), из них 11 девушек (41 %) и 16 юношей (59 %) в возрасте от 14 до 20 лет (М = 16.3). Все они приняли участие в трехмесячных программах по развитию жизнестойкости. 27 человек – это 100 % возрастной группы молодежи, на которую был направлен проект.
МЕТОДЫ АНАЛИЗА ДАННЫХ
Описательные статистики, дисперсионный анализ по t-критерию Стьюдента для зависимых выборок выполнены в программе Jamovi 2.4.11.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Изменение показателей жизнестойкости по результатам программ психологической помощи в проекте «Дом выпускника» (2021–2022)
Ключевыми показателями теста жизнестойкости являются:
1. Вовлечённость (commitment) – убеждённость человека в том, что вовлечённость в происходящее даёт максимальный шанс найти нечто стоящее и интересное для личности.
2. Контроль (control) – убеждённость человека в том, что борьба позволяет повлиять на результат происходящего, пусть даже это влияние не абсолютно и успех не гарантирован.
3. Принятие риска (challenge) – убеждённость человека в том, что все происходящее способствует его развитию за счёт знаний, извлекаемых из опыта, – неважно, позитивного или негативного.
4. Общий балл жизнестойкости – сумма баллов по трем шкалам. Описательные статистики показателей жизнестойкости представлены в Таблице 1. Данные распределены нормально, что позволяет использовать процедуру дисперсионного анализа для анализа эффективности тренинга. Т. к. данные собирались с помощью бумажных опросников и часть анкет не содержала ответов на все вопросы, в таблице можно увидеть разное число респондентов – от 24 до 27.
Таблица 1. Описательные статистики

РЕЗУЛЬТАТЫ ДИСПЕРСИОННОГО АНАЛИЗА. РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ТРЕНИНГА ЖИЗНЕСТОЙКОСТИ
Для оценки результативности тренинга жизнестойкости был проведен дисперсионный анализ с помощью t-критерия Стьюдента для зависимых выборок. Результаты тестирования до программы и после программы показали значимое (,03 < p <,008) улучшение по показателям вовлеченности, принятия риска и общему баллу жизнестойкости со средним размером эффекта (d-Коэна от 0,5 до 0,6). Однако не удалось выявить значимых улучшений по показателю контроля, поскольку изначальные баллы контроля были средние или высокие. Подробные результаты представлены в Таблице 2.
МОНИТОРИНГ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Для оценки эффективности сотрудники проекта «Дом выпускника» осуществляют регулярный (ежемесячный) мониторинг реального уровня жизни выпускников по таким критериям как:
1. Социальное положение (образование, трудоустройство).
2. Средства к существованию (стипендия, заработная плата, сберегательная книжка, социальные выплаты).
3. Семейное положение (женат/холост/замужем/не замужем; состав семьи, психологический климат).
4. Законопослушность (правонарушения, алкоголизм, токсикомания и т. д.).
5. Жилищно-бытовые условия (состояние жилья, сохранность имущества, оплата коммунальных услуг).
6. Взаимоотношения с кровными родственниками.
7. Дополнительная информация (психологическая характеристика).
Таблица 2. Результаты дисперсионного анализа по t-критерию Стьюдента для зависимых выборок по показателям жизнестойкости

Также проводятся ежегодные качественные интервью с участниками проекта «Дом выпускника» для оценки его эффективности. В качестве примера приведем отзыв Леры, студентки Армавирского государственного педагогического университета:
«Когда я пришла в «Дом выпускника», в моей жизни произошли большие изменения. До проекта у меня были только серые краски. Все было одно и то же: гулянки, долги финансовые и по учебе, проблемы с квартирой (задолженность по коммунальным платежам). Специалистам проекта я рассказала о своих проблемах, и мне помогли. Начали появляться яркие краски в жизни. Можно сказать, что я заново училась жить: распределять финансы, справляться с трудностями. Ушла боль, за ней и серость. Летом я начала работать, а потом поступила в универ, меня выбрали в студенческий совет, сейчас я активная участница жизни Армавирского государственного педагогического университета и проекта «Дом выпускника». Теперь у меня есть уверенность, что я со всем справлюсь».
ДРУГИЕ СОЦИАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В целом жизнь молодых людей-участников проекта «Дом выпускника» меняется, они стали более открытыми и смело говорят о своих трудностях, задают вопросы, проявляют инициативу в принятии важных решений всей группы (жизнь в социальной гостинице – центре «Дом выпускника», правила, порядок взаимодействия и др.). По результатам полуструктурированного интервью с 30 участниками проекта «Дом выпускника», проведенного психологами, 85 % участников (25 человек) свободно говорят о будущем и строят планы на перспективу, самостоятельно решают вопросы по учебе, работе, медицинским потребностям. 25 % выпускников (7 человек) получили средне-профессиональное образование, трое из них окончили колледж с красным дипломом. Одним из важных социальных результатов проекта является тот факт, что ребята поверили в себя, свои силы и возможности. 30 % участников (9 человек) приняли решение после окончания техникумов и колледжей продолжить обучение и поступать в вузы Краснодарского края.
Важное событие произошло у 20 % выпускников-участников проекта (6 человек), им были вручены ключи от собственных квартир. Юристы проекта помогли выпускникам своевременно получить жилье, в том числе в судебном порядке.
Таким образом, в ходе реализации проекта «Дом выпускника» были достигнуты значительные качественные результаты. Молодые люди, участвующие в тренингах и других мероприятиях проекта, повысили свой уровень жизнестойкости, развили навыки самостоятельности и ответственности, а также умение обращаться за помощью, слушать и слышать друг друга. Как показывают регулярные мониторинговые полуструктурированные интервью с участниками и сотрудниками проекта «Дом выпускника», возрастает количество активной молодежи, появляются проекты и занятия по инициативе самих ребят, например, они стали предлагать новые идеи для досуга и тем психологических встреч.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Позитивное развитие молодежи – современный подход к реализации помощи молодым людям в тяжелых жизненных ситуациях, опирающийся одновременно на личностные ресурсы и ресурсы среды. На основании представленного опыта БДФ «Виктория», можно говорить о том, что с опорой на идеи позитивного развития молодежи возможно успешно реализовывать программы поддержки выпускников детских домов. Важно при этом отметить, что создаваемые эффекты, как показало представленное в материале исследование, могут быть измерены. Об эффективности использования данной концепции свидетельствуют результаты проведенного исследования – увеличение личностных ресурсов участников программы (например, жизнестойкости), рост личной активности участников проекта и другие.
Таким образом, позитивное развитие молодежи – рамка, которая позволяет эффективно планировать, реализовывать и оценивать эффективность программ развития личностного потенциала молодых людей в трудных жизненных ситуациях.
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ
1. Борзов, С. (2020). Технология работы со случаем.
2. Вассерман, Л. И., Иовлев, Б. В., Исаева, Е. Р., Трифонова, Е. А., Щелкова, О. Ю. & Новожилова, М. Ю. (2009). Методика для психологической диагностики способов совладания со стрессовыми и проблемными для личности ситуациями.
3. Жуков, В. И. (2022). Технологии социальной работы.
4. Леонтьев, Д. А. & Рассказова, Е. И. (2006). Тест жизнестойкости. М.: Смысл.
5. Обухова, Л. Ф. (2010). Детская (возрастная) психология.
6. Ордина, З. А. (2023). Тренинги жизнестойкости, целеполагания, временных перспектив: руководство для ведущих. Режим доступа: https://victoriacf.ru/wp-content/uploads/2023/04/treningi-zhiznestojkosti-czelepolaganiya-i-vremennyh-perspektiv_2023.pdf. (дата доступа: 21.03.2024).
7. Сорокина, В. Ю. (2023). Социальная профилактика как технология социальной работы с подростками, склонными к девиантному поведению. Студент и наука (гуманитарный цикл) – 2023: материалы международной студенческой научно-практической конференции, Магнитогорск, 28–31 марта 2023 года, сс. 1387–1390.
8. Фетискин, Н. П., Козлов, В. В. & Мануйлов, Г. М. (2002). Социально-психологическая диагностика развития личности и малых групп.
9. Amodeo, M. & Collins, M. E. (2007). Using a Positive Youth Development Approach in Addressing Problem-Oriented Youth Behavior. Families in Society: The Journal of Contemporary Social Services, 88, 75–85. https://doi.org/10.1606/1044-3894.3594
10. Arnett, J. (2015). Does Emerging Adulthood Theory Apply Across Social Classes?
National Data on a Persistent Question. Emerging Adulthood, 4(4), 227–235. https://doi.org/10.1177/2167696815613000
11. Arnett, J. J. (2015). Identity development from adolescence to emerging adulthood: what we know and (especially) don’t know. In the Oxford handbook of identity development, pp. 53–64. https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199936564.013.009
12. Bowers, E., Li, Y., Kiely, M., Brittian, A., Lerner, J. & Lerner, R. (2010). The Five Cs Model of Positive Youth Development: A Longitudinal Analysis of Confirmatory Factor Structure and Measurement Invariance. Journal of Youth and Adolescence, 39, 720–735. https://doi.org/10.1007/s10964-010-9530-9
13. Bronfenbrenner, U. & Morris, P. A. (2007). The Bioecological Model of Human Development. Handbook of Child Psychology. https://doi. org/10.1002/9780470147658.CHPSY0114
14. Catalano, R. F., Skinner, M. L., Alvarado, G., Kapungu, C. & Petroni, S. (2019). Positive Youth Development Programs in Low- and Middle-Income Countries: A Conceptual Framework and Systematic Review of Efficacy. The Journal of Adolescent Health: Official Publication of the Society for Adolescent Medicine, 65(1), 15–31. https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2019.01.024
15. Ciocanel, O., Power, K., Eriksen, A. & Gillings, K. (2017). Effectiveness of Positive Youth Development Interventions: A Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. Journal of Youth and Adolescence, 46(3), 483–504. https://doi.org/10.1007/s10964-016-0555-6
16. Edin, K. & Kefalas, M. (2005). Unmarried with Children. Contexts, 4(2), 16–22. https://doi.org/10.1525/ctx.2005.4.2.16
17. Furstenberg, F. F. (2010). On a New Schedule: Transitions to Adulthood and Family Change. The Future of Children, 20(1), 67–87. https://doi.org/10.1353/foc.0.0038
18. Hendry, L. B. & Kloep, M. (2010). How universal is emerging adulthood? An empirical example. Journal of Youth Studies, 13(2), 169–179. https://doi.org/10.1080/13676260903295067
19. Karakulak, A., & Cüre-Acer, S. (2021). Book Review: Handbook of Positive Youth Development: Advancing the Next Generation of Research, Policy, and Practice in Global Contexts. Frontiers in Psychology, 12. https://doi.org/10.3389/ fpsyg.2021.716388
20. Lerner, R., Almerigi, J. B., Theokas, C., & Lerner, J. (2005). Positive Youth Development a View of the Issues. The Journal of Early Adolescence, 25(1), 10–16. https://doi.org/10.1177/0272431604273211
21. Silva, J. M. (2016). High Hopes and Hidden Inequalities: How Social Class Shapes Pathways to Adulthood. Emerging Adulthood, 4(4), 239–241. https://doi.org/10.1177/2167696815620965
22. Taylor, R. D., Oberle, E., Durlak, J. A. & Weissberg, R. P. (2017). Promoting Positive Youth Development Through School-Based Social and Emotional Learning Interventions: A Meta-Analysis of Follow-Up Effects. Child Development, 88(4), 1156–1171. https://doi.org/10.1111/cdev.12864
23. Waid, J. & Uhrich, M. (2020). Scoping Review of the Theory and Practice of Positive Youth Development. The British Journal of Social Work, 50(1), 5-24. https://doi.org/10.1093/bjsw/bcy130
24. Youngblade, L., Theokas, C. & Schulenberg, J. (2007). Risk and Promotive Factors in Families, Schools, and Communities: A Contextual Model of Positive Youth Development in Adolescence. Pediatrics. https://doi.org/10.1542/peds.2006-2089H







