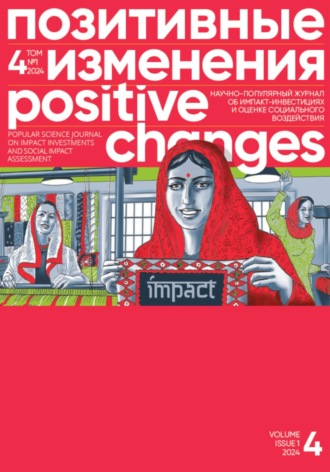
Редакция журнала «Позитивные изменения»
Позитивные изменения. Том 4, №1 (2024). Positive changes. Volume 4, Issue 1 (2024)
Also, a crucial aspect is the engagement (or inclusion) of vulnerable and marginalized groups. Currently, inclusion is conventionally seen as a means to achieve diversity within teams. Those who are compelled to keep pace with the times, study demographic forecasts and the like, are actively trying to cover the deficit in organizational capability to involve “not like everyone else” in the value creation chain and the consumption of goods. Therefore, the standard should include more coherent and near-future oriented requirements for the involvement of vulnerable groups (people with disabilities and special needs, young professionals, individuals with migration experience, women with young children, the elderly, etc.). “The conversation should not just be about the simple demonstration of hiring metrics (though it would be good if companies start to disclose this data), but about organizational and other innovations,” Novikov emphasizes.
Understanding the need for significant revisions to the standard, the expert speaks of being ready to engage in its adjustment and supplementation, because the practice of conveying information about a company’s activities cannot be developed once and for all; it is an iterative process. Given the dynamics with which the world changes, it is necessary to quite frequently revisit ideas and the specific ways of their implementation in reports. “We need to understand that conveying information about the company’s activities in sustainable development and other areas requires not just temporary working groups but a community of constantly active experts,” concludes Novikov.
SUSTAINABILITY AND INDICATORS
Undoubtedly, all existing methodologies are commendable in their own right, and the mere existence of such initiatives is a big advantage. However, when talking about sustainability, it is essential to address indicators directly related to this concept in terms of social impact. When reports contain only quantitative metrics, they fail to correlate with promises of analyzing or forecasting systemic qualitative changes. What is missing is a transition formula or an explanation of correlations. Hence, there is a clear understanding of the need to expand the list of indicators, including assessments of social impact, as well as topics of corporate volunteering, inclusive practices, and media influence as evaluation indicators.
Following the strategic session “Sustainable Development Reporting Standard as a tool for the development of volunteering and social involvement,” a resolution draft was created based on the discussion outcomes, which we believe should be presented below unchanged.
“To add to the original list of suggestions:
• Finalization of the social effect assessment section;
• In reporting, show not quantitative characteristics of indicators and metrics, but social effects based on them;
• Increase focus on quality indicators;
• The list of indicators should be based not only on international standards and national SDG targets, but also on national projects;
• Include community and partnership development and non-profit sector development in the assessment;
• Include communication projects in the evaluation; inclusion of indicators based on information agenda and quality of campaigns (regional campaigns, federal IRI campaigns, partnerships with ANO “National Priorities”);
• Show the need for linkage indicators between environmental and social (based on them) projects;
• Increase focus on indicators of employee and resident involvement in the management of the enterprise and regional development;
• Include indicators reflecting the accumulation and consolidation of social impact (including partnerships, communities, information agenda);
• Include reintegration rates for employees leaving the position due to retirement, illness, disability;
• Include indicators for implementing an inclusive approach in all areas of the company’s internal and external activities;
• Retain “sustainable investments, including green investments” in the list of economic indicators;
• Disclose information on sustainable investments in terms of national taxonomies.”
Natalia Gladkikh, a leading expert of the Institute of Socio-Economic Design at the National Research University Higher School of Economics and Editor-in-Chief of the Positive Changes Journal, considers the discussion that has arisen regarding the domestic reporting standard under development to be very valuable, as it gives an opportunity for representatives of different parties to express their opinions. The word ‘Standard’ in the document title indicates the presence of a set of important principles in its content, which are essential for everyone to follow and rely on. Therefore, the expert would like the final document to be one that not only helps companies and their stakeholders understand their performance results but also sets certain standards and recommendations on how to do this most effectively and successfully.
“Several important points are noteworthy in the current version of the standard, which is still a work in progress. The first is the obvious gap in the narrative rhetoric in the document in the part where it describes why the standard is needed, what it offers, what it includes, etc., and in what specific actions and indicators are ultimately proposed,” says Natalia Gladkikh.
Thus, according to her, the first part actively uses terminology from the field of impact assessment, for example:
“Information related to sustainable development is understood as information about the impacts, risks, and opportunities of the organization associated with sustainable development”;
“The usefulness of information related to sustainable development increases if the information is comparable, verifiable, timely, and understandable, and also sufficient to reflect the significant impact on the economy, environment, and social sphere and to give interested parties the opportunity to assess the organization’s performance (the principle of completeness) for the reporting period.”
“However, within the block of indicators, there is nothing that could be attributed to social impact. Indicators are principally defined by various metrics of activity – such as the number of employees involved and the amount of funds expended. The actual impact of these activities remains conspicuously absent from this list,” the expert remarks.
A second significant flaw she notes is the underlying logic of describing and assessing results, the principle of ‘the more spent, the better’.” According to the standard’s logic, a company’s substantial investments in social objectives imply it is doing well, yet there is no comment on the actual effectiveness of these investments. The specific changes that have occurred in the region or country as a result of such expenditures are not considered relevant. If a more economical solution is identified, the current logic of the standard would interpret this as the company’s deteriorating position relative to others.
“The traditional rationale for social investment, demanding an essential evaluation of the achieved results rather than just a description of actions taken or expenses incurred, is strikingly missing from the current version of the standard. This component, in my view, is crucial,” states the expert. – “Until we pose questions not only about the volume of funds spent but also the tangible outcomes of such expenditures, we cannot truly speak of results in the terms of social impact, as is claimed in the intent of the standard.”
The realm of social project design is evolving, just like any branch of science or practice, and the methodologies of project development and reporting are increasingly complex. This is evident in the practices of the Presidential Grants Fund, where updates and the incorporation of new elements and focuses in application formats are routinely implemented. For instance, in the current iteration of the application, it is crucial not only to describe the project concept but also to validate its pertinence with references to pertinent sources. The document places emphasis on the evidential substantiation of the proposed approach to addressing the issue. Several grant-giving organizations are shifting toward applications based on the so-called theory of change, which mandates the clear definition not only of the problems and their origins but also a detailed description of each activity to be undertaken in relation to the three-tiered framework of immediate results, social effects, and societal impact. The theory of change also figures into the planning strategies of state bodies when conceptualizing strategic projects.[29]
“To speak of outcomes, and all the more of the impact of their projects and programs, in terms reflective of activity characteristics – ‘conducted so many events, spent so much’ – has long been outmoded in the ‘third sector’ and is becoming ever more challenging in the governmental sphere,” says Natalia Gladkikh. – “If we establish a benchmark for businesses wherein the end result is deemed significant not for its transformational nature but merely as a static form, this would represent a regression in the theory and practice of social project planning and social investment, methodologies and approaches to impact assessment developed thus far.”
It is also necessary to standardize the verifiability and justifiability of the employed social and ecological practices. Of crucial importance is the extent to which the utilized methodologies are substantiated and whether robust procedures for monitoring and assessment of changes – both intended and incidental effects arising within the course of a project or program’s execution – are in place. For NGOs, particularly when projects are financed externally – by grant-making entities or social investors – activities are regularly subjected to rigorous assessment and oversight. Conversely, when a project or program is initiated by a business entity, it lacks an overseeing body that would be obliged to pay close attention to the level of proof underpinning the practices utilized. If such guidance is not included in the standard, CSR programs may turn into a ‘space for experiments on people and nature.’
Additionally, the expert opines that it is essential to embed within the standard the concept of an assessment model. This pivotal term reflects the anticipated process by which results will be evaluated: how data on achieved changes will be collected, and who will be involved in these evaluative undertakings and how, at what stage. According to Natalia, the practice of soliciting assessment services from auditing firms for evaluating social impact is exceptionally uncommon among social investors or non-governmental organization. The mere fact that figures have been calculated correctly is unlikely to offer any significant insights or new knowledge to the project team or organization, particularly in terms of its sustainable development. When discussing an external, independent ‘evaluating’ party that implies a ‘mutually beneficial’ partnership, one should keep in mind universities, where expertise, researchers, and proven scientific approaches can be found.
“A standard will truly become truly significant and valuable when it transcends the prevailing narrative of ‘we’ll grade you – and you might get an F’ to enhance companies’ awareness of how they might further reflect their contributions to sustainable development in all its depth and beauty,” concludes Natalia Gladkikh. – “Once the standard encompasses varied approaches that enable any organization, regardless of size, to ‘see itself’ in a newer, more splendid light.” Described approaches and methods will assist companies in establishing their internal evaluative models, considering the unique aspects of their activities without any retributive implications. The chief advantage should inherently lie in the benefit it presents to the company itself – reveling in the transformations it prompts within the sphere of sustainability.”
In conclusion, Natalia Gladkikh put forth precise recommendations for modifications to be made to the standard. The fundamental point is that all activities conducted within the framework of sustainable development must meet criteria for evidence and validity. Specifically:
1. Issues to be addressed should be distinctly defined and their causes pinpointed, relying on existing data, knowledge from similar endeavors, etc.
2. All implemented programs and projects should describe their target audiences.
3. The action plan should be clearly defined and the relationship between the realized actions and the problems, their causes, as well as the planned results should be obvious, the experience of similar projects, the effectiveness of the chosen approach (social, ecological technology) should be studied.
4. The immediate results, social effects, and social impact should be clearly spelled out for each intervention.
5. The activity planning stage specifies the plan of activities and their results, as well as indicators to conclude on the achievement/ non-achievement of the planned changes.
6. For each project or program implemented within the framework of achieving sustainable development, an evaluation model should be developed, which implies a system of monitoring and evaluation of changes achieved, in accordance with the system of indicators.
7. For each project or program implemented within the framework of achieving sustainable development, it is recommended to calculate an evidence and validity index.
8. The development and implementation of a model for assessing the impact of a sustainable development project/program, reflecting the changes it achieves (achieved), can be carried out by the organization independently or with the involvement of research and other specialized companies, scientific organizations, including those based at research universities.
The recommendations provided are not confined to a specific federal document under development; rather, they are meant to be immediately applicable in real-time across any corporation. This does not, however, diminish their relevance for inclusion in the national Reporting Standard.
We would like to conclude the overview with data from a November 2023 survey by Expert RA rating agency, according to which almost 80 % of non-financial and 60 % of financial companies will be prepared to report on sustainable development at the end of the year.[30] This trend is being noticed and supported by government agencies as well. And it is important that more and more leaders of social change are involved in this work.
Репортажи / Reports
Насколько добрый мой город? Репортаж с конференции
«Про развитие городов и сообществ»
Юлия Вяткина
DOI 10.55140/2782-5817-2024-4-1-26-33
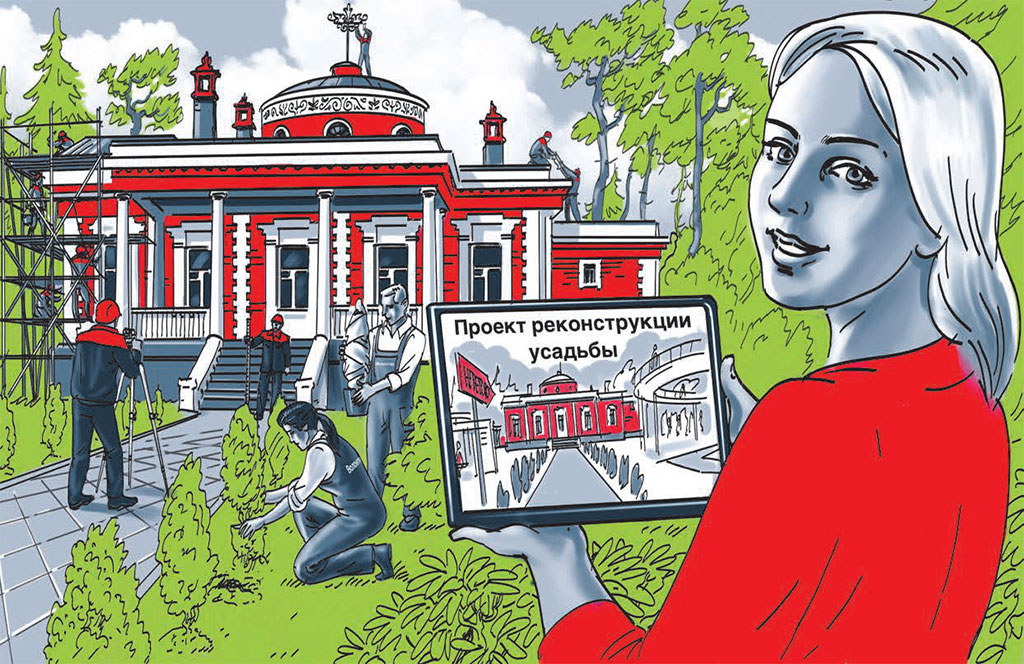
Как меняется работа с местными сообществами, что будет с ними происходить в ближайшем и отдалённом будущем, как партнёрские проекты бизнеса и НКО помогают жителям развивать свои территории и за счёт чего повышается социальная эффективность таких проектов? Об этом и многом другом урбанисты, НКО, футурологи и представители бизнеса говорили на практической конференции «Про развитие городов и сообществ», прошедшей в феврале 2024 года в Москве. Делимся ключевыми тезисами о том, каковы возможные сценарии развития территорий по мнению экспертов.

Юлия Вяткина
Редактор журнала «Позитивные изменения»
ДОБРЫЕ ГОРОДА
В 2023 году Содружество Добрых городов, в которое входит больше 220 территорий, совместно с лабораторией «Гражданская инженерия» провели опрос горожан и туристов в разных городах России, чтобы ответить на вопрос – что делает город в их глазах действительно добрым? Результатом исследования стала методика[31], основанная на реальном запросе жителей и гостей города.
«Каких-то ожиданий, откровений, что скажут люди, чего мы не знали, у нас не было. Нам было интересно, что назовут чаще всего. Мы проводили фокус-группы в Пензе, Владивостоке, Иркутске, Санкт-Петербурге и других городах. Гайд включал 40 вопросов. На основании ответов мы предложили методику «Насколько добрый мой город/поселок для его жителей и для гостей». На ответы мы смотрели через призму того, что по силам сделать НКО. Методика – это своеобразный чек-лист[32], по которому можно оценить свой город. И, конечно, это повод еще на этапе проектирования каких-то инициатив обсудить их с партнерами и горожанами и понять, чего пока не хватает в их населенном пункте», – говорит Дарья Буянова, директор по маркетингу БФ «Добрый город Петербург».
Как отмечают создатели методики, им было важно, чтобы некоммерческие организации делали для города действительно полезные, востребованные проекты – то, что заметят и оценят жители и гости, что повышает их радость и комфорт, оценку города как доброго.
Методика доброго города включает 10 параметров. Авторы говорят, что их можно считать универсальными, применимыми независимо от величины муниципального образования и его места на карте. Так, первый параметр, «Гордимся наследием и бережём его», касается не только городов с богатым историческим прошлым, но и моногородов с 30-летней историей, которые ценят свое наследие.
Суть этого параметра заключается в следующем. Добрый город заботится о своей истории и культуре. Объекты исторического наследия реставрируются или просто хорошо содержатся, опрятно выглядят. Многие исторические объекты выполняют общественные функции и открыты для посещения. Детали тоже не остаются без внимания: оригинальные вывески реставрируются, наличники и таблички сохраняются, а утраченное – воссоздаётся. Горожане и гости знают или легко могут узнать историю города.
На что надо обратить внимание: на реставрацию и содержание объектов исторического наследия, внешний вид объектов, исторические детали городской среды, проекты и мероприятия по сохранению и популяризации наследия.
Индикаторы оценки параметра:
• в городе есть объекты исторического наследия, которыми можно гордиться;
• заметны отреставрированные объекты или процесс реставрации;
• мало руинированных исторических зданий;
• заметны разнообразные исторические детали (в т. ч. советского периода);
• есть таблички, которые рассказывают историю зданий;
• в городе можно записаться на историческую экскурсию;
• во многие исторические здания можно попасть и посмотреть их изнутри;
• в городе есть проекты/мероприятия по сохранению и популяризации наследия: субботники, фестивали, исторические реконструкции и др.;
• известны случаи, когда частные инвесторы реставрируют исторический объект и открывают там бизнес;
• мало случаев, когда исторический объект снесли или он сгорел.
Создатели методики приводят несколько примеров, что могут сделать НКО:
• узнать, есть ли в городе проекты по сохранению исторического наследия;
• организовать историческую экскурсию или популяризовать те, что есть;
• сообщить в СМИ, если заметили, что историческое наследие под угрозой;
• вступить во всероссийское движение «Том Сойер Фест» или движение «Фасадник» и совместными усилиями привести в порядок фасады зданий;
• провести мероприятие во дворе исторического здания, чтобы привлечь внимание к необходимости его реставрации (пример – «Лаборатория искусства города» во дворе исторического особняка в Красноярске);
• провести общественную кампанию по сбору средств на реставрацию исторических деталей городской среды.
Среди других параметров предложенной методики такие как: «Помогаем животным», «В добром городе заметны НКО, инициативные группы и их работа», «Развито добрососедство», «В городе чисто», «Хорошая навигация», «В городе зелено», «Хорошо детям», «Доступная среда», «У города есть лицо, бренд».
«Каждый параметр, индикаторы, на что можно посмотреть, какие действия совершить НКО – в методике описаны достаточно подробно. Еще раз подчеркну, что это самооценка. Мы смотрим, какие признаки доброго города заметны местным и приезжим. И дальше, глядя на свои проекты и программы, пытаемся актуализировать их с учетом этого фокуса внимания. Если люди считают, что признаком доброго города является чистота, то даже если мы – организация, занимающаяся старшим поколением – можем организовать субботник или посадку деревьев. Таким образом, эта методика – инструмент взгляда на себя для НКО со стороны, как еще можно актуализировать свою деятельность», – говорит Дарья Буянова.
Респонденты также назвали другие важные параметры доброго города, на которые НКО сложно повлиять, но возможно у кого-то это получится. Это наличие общественных туалетов, а также мест, где можно вкусно и недорого поесть, где бесплатно выпить чистой воды. Для горожан также важны городские медиа и чаты, возможность влиять на принятие решений, а для приезжих – вежливые водители, музыка на улицах не только в праздник, хорошие отзывы местных жителей о своем городе.
Методика доброго города включает 10 параметров. Авторы говорят, что их можно считать универсальными, применимыми независимо от величины муниципального образования и его места на карте.
ЛОКАЛЬНЫЙ ПРОДЮСЕР, ФОРСАЙТ-МОДЕРАТОР И ДРУГИЕ ФОРМАТЫ
Какими могут быть форматы деятельности, которые помогают услышать и воплотить то, что важно горожанам? Во-первых, это соучаствующее проектирование, когда общественные пространства создаются с вовлечением в процесс местных жителей, сообществ, инициативных граждан, экспертов, представителей администрации, локального бизнеса и других заинтересованных в проекте сторон.
«Соучастные практики – это возможность обратиться к конечному благополучателю вашего продукта. Эти практики используются многими, не только девелоперами. Часто, когда мы что-то делаем, мы идем сверху вниз, не проверив идею на аудитории. Что происходит, когда мы вовлекаем людей в работу со своей средой? Самый важный эффект – «присвоение через руки», т. е. со стороны жителей происходит смена с клиентской позиции на хозяйский подход. Кроме того, соучастные практики – это инструмент создания сообществ. У соучастия есть своя дорожная карта и стадии развития: идея – поиск единомышленников – исследование – проектирование – активная деятельность – рефлексия. Если люди прошли этот алгоритм три раза, вместе поучаствовали в каком-то деле от идеи до рефлексии, то они становятся самоорганизованным сообществом», – поясняет Любовь Гурарий, эксперт по работе с сообществами, куратор соучастных практик А101 Лернити.
Во-вторых, необходимы так называемые «точки входа» для горожан – альтернативные, заметные в городе площадки, где социально полезными действиями жители могут заявить о себе. Например, в Сызрани в центральной части города есть свое «третье место» – антипространство «Стены», где можно провести свое мероприятие, выпить кофе в компании единомышленников, поработать в коворкинге.
«Мы как раз действуем «снизу». Жители могут не только за явить, что они хотят сделать, но и действием доказать это. Когда в нашем городе появился «Том Сойер фест», в нашем антипространстве «поселились» наличники. Люди приходили их восстанавливать, делали это с чаем, гитарами, порой это все затягивалось до трех часов ночи. Когда наличники через полгода стали арт-объектом на нашей набережной, мы поняли, что люди будут биться за сохранение того, к чему они приложили руку», – рассказала Мария Азизова, основатель антипространства «Стены», амбассадор и технолог Содружества Добрых городов.
Соучастные практики – это инструмент создания сообществ. Когда люди вместе поучаствовали три раза в каком-то деле от идеи до рефлексии, то они становятся самоорганизованным сообществом.
Еще один пример, который привела эксперт, – форум «Свято место пусто…» в области актуальных форм культуры и искусства. На форуме проводился конкурс инициатив, победителем стал проект «Живое умирает», рассказывающий истории «живых», но совсем забытых мест Сызрани.
«Команда проекта изучила несколько объектов, предложила неформальный туристический маршрут и презентовала его на разных площадках: не только в нашем антипространстве, но и в центре местного сообщества, а также на дне города. После того, как Сызрань победила во Всероссийском конкурсе лучших проектов туристского кода центра города, проект «Живое умирает» может получить новое прочтение. Это тот самый пример, когда «снизу» вырастает что-то глобальное, то, чем можно гордиться, что делает город по-настоящему добрым, добавляет ему привлекательности», – говорит Мария Азизова.
Еще один формат, благодаря которому можно создать заметные проекты, – это продюсирование. Эксперты уверены, что все чаще мы будем встречать в городах и поселках локальных продюсеров – людей, которые сами прошли путь от инициативы до ее воплощения и могут помочь найти на территории других активистов, способных изменить социальную и экономическую повестку. Кроме того, на территориях будут появляться форсайт-модераторы – специалисты, помогающие определить желаемый образ будущего и договориться о действиях в его контексте со всеми заинтересованными сторонами. Так, в Ростове-на-Дону есть региональное сообщество форсайт-модераторов, которое проводит бесплатное обучение по развитию навыков модерации и построения доверительных коммуникаций.
Эксперты уверены, что все чаще мы будем встречать в городах и поселках локальных продюсеров и форсайт-модераторов, способных изменить социальную и экономическую повестку.
«Мы столкнулись с тем, что в небольших городах очень мало хороших коммуникаторов. Бывает так, что на собраниях каждый горожанин что-то кричит, люди не могут между собой договориться, им не хватает модератора, который бы помог услышать все заинтересованные стороны. Так родился наш проект «Школа модерации и коммуникации». Мы уже обучили 118 модераторов из 5 регионов и 15 муниципальных образований. Сейчас они проводят форсайт-сессии в малых городах, где встречаются представители бизнеса, власти, НКО. В течение всего дня они обмениваются мнениями и создают дорожные карты развития территорий. К нам приходят учиться самые разные люди: и госслужащие, и представители НКО, бизнеса, учителя, директора школ, представители церкви. Обучение качественной модерации – это наш вклад в развитие человеческого капитала и территории», – рассказывает Виктория Мусиченко, эксперт АНО «Интегра», руководитель Школы модерации и коммуникации ЛИРО.
Чтобы активность в городе была видна, наличия сообществ недостаточно, необходимо финансирование, обращает внимание Олег Шарипков, руководитель Центра знаний по целевым капиталам. Среди инструментов финансирования – эндаумент, грантовые конкурсы и конкурсы социальных стартапов с низким порогом входа, школы инициатив и акселераторы.
«Когда мы проводим конкурс микрогрантов и читаем заявки, видим, что болит у горожан и как они сами готовы решать вопросы. Инструменты финансирования, такие как целевой капитал, позволяют поддерживать активность сообщества, делать лучше свою среду обитания. Но не менее важны горизонтальные связи – нужно, чтобы их было больше», – говорит Олег Шарипков.
Внешним признанием усилий горожан по созданию образа доброго и привлекательного города можно считать развитие туризма. Это еще один формат, который назвали эксперты.
«В малых городах и малых поселениях всегда есть две истории. Есть жители, которые хотят зарабатывать, и есть жители, которые на любого туриста говорят «понаехали». Я помню, как в конце 90-х мы ездили в Мышкин в Ярославской области, это был поселок городского типа, рядом с которым проходила труба «Газпрома». У нас тогда зашел спор, возможен ли внутренний туризм в России. Сейчас туристическая нагрузка Мышкина сравнима с островными городками (население Мышкина 5 тыс. человек, ежегодно город посещают около 200 тыс. человек – прим. ред.). В туризме обязательно должна быть экономика, экология, сообщество, бренды – профессиональная демократия, чтобы каждый мог еще что-то делать руками. Это принципы устойчивого развития и бережливого хозяйствования», – говорит Евгения Подарина, член Комитета по развитию устойчивого туризма Российского союза туриндустрии.
К числу интересных кейсов развития туризма и городов, построенных на вовлечении сообществ, относятся Выкса с фестивалем «Арт-овраг», Ивановская область, где у каждого города свои интересные места (Иваново, Плес, Палех, Лух), Суздаль, Урюпинск, Добрянка.
ЧЕЛОВЕКОЦЕНТРИЧНОСТЬ VS. ТЕХНОЦЕНТРИЧНОСТЬ
Заглядывая в будущее развития городов и сообществ, нельзя не сказать о человекоцентричности – создании среды, обеспечивающей людям новые возможности для развития и более комфортного самоощущения. Однако этому подходу противопоставляется техноцентричный мир, в котором человек становится источником данных. Футуролог, основатель и управляющий партнер MINDSMITH Руслан Юсуфов считает, что уже сейчас, учитывая темпы цифровизации общества, пора задумываться о создании инклюзивной среды не только для людей с ограниченными возможностями здоровья, но и людей, которые делают выбор в пользу, к примеру, установки технических устройств для расширения своих возможностей здоровья, когнитивной сферы. Кроме того, мы уже сегодня видим несколько примеров полярностей. С одной стороны, есть общины и племена, которые вообще не используют новые технологии и на них не распространяются связанные с этим риски, с другой стороны, есть люди, которые превращаются практически в киборгов.
«Уже сегодня идут эксперименты по вживлению в мозг человека имплантов, значительно повышающих IQ. Смогут ли такие люди доносить свои мысли до нас с вами? Как мы сможем общаться, имея такой разный жизненный опыт? Не пора ли задуматься о комфортной среде для таких людей? НКО, которые призваны решать социальные вопросы, могут это делать, не имея никакого представления о завтрашних проблемах. Воспитание детей, проблема трудных подростков, безработица и прочее – если НКО не в курсе последствий, которые влечет за собой ИИ, они будут приносить все меньше и меньше пользы. Их спектр влияния сократится. Важно любым социальным инициативам и организациям накапливать дополнительную экспертизу, смотреть в будущее, чтобы оставаться эффективными», – отметил Руслан Юсуфов.
Говорим мы про настоящее или будущее, а разработка качественного социального проекта должна опираться на постулаты теории изменений[33], уверен Глеб Лихобабин, сооснователь, директор по стратегии компании Collab.







