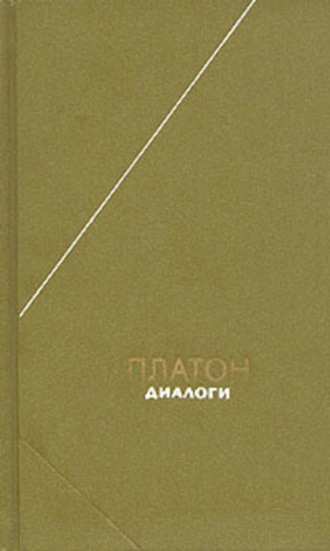
Платон
Диалоги
– Как бы не так! – отозвался он.
294
– Значит, вы всё знаете, коль скоро знаете что-либо?
– Всё, – отвечал он. – И ты так же, если знаешь что-либо одно, знаешь всё.
– Великий Зевс! – воскликнул я. – О каком чуде ты говоришь и сколь великое возвещаешь благо! Так и другие люди либо всё знают, либо ничего?
– Конечно. Ведь невозможно, чтобы одно они знали, а другое нет и одновременно были бы знающими и незнающими.
– Ну а все-таки? – переспросил я.
– Все, – отвечал он, – знают всё, если они знают что-либо одно.
b
– Но ради богов, Дионисодор, – взмолился я, – теперь-то мне ясно, что вы говорите серьезно (еле-еле удалось мне от вас этого добиться!); итак, вы в самом деле знаете всё – и плотничье ремесло, и сапожничье?
– Конечно, – отвечал он.
– И накладывать швы из жил вы умеете?
– И тачать сапоги, клянусь Зевсом, – отвечал он.
– Ну а такие вещи – например, сосчитать, сколько звезд в небе или песка на дне морском?
– Разумеется, – подтвердил он. – Или ты думаешь, что мы в этом не признаемся?
c
Тут Ктесипп не выдержал.
– Ради Зевса, Дионисодор, – сказал он, – дайте мне такое доказательство этих слов, чтобы я поверил в их истинность.
– Какое же мне дать доказательство? – возразил Дионисодор.
– А вот: знаешь ли ты, сколько зубов у Евтидема, а Евтидем – сколько их у тебя?
– Не довольно ли тебе знать, – отвечал Дионисодор, – что нам известно решительно всё?
– Нет, не довольно; скажите нам лишь это одно и докажите, что вы говорите правду. И если каждый из вас скажет, сколько у другого зубов, и после того, как мы сосчитаем, вы окажетесь знатоками, мы поверим вам и во всем остальном.
d
Почувствовав насмешку, они не уступили в этом Ктесиппу, ограничившись утверждением, что знают все вещи, о которых он спрашивал их в отдельности. А Ктесипп кончил тем, что совершенно откровенно стал спрашивать их обо всем на свете, вплоть до вещей уж совсем непристойных, – знают ли они их; те же два храбреца шли напролом, утверждая, что знают, – ни дать ни взять кабаны, прущие прямо на нож, так что я и сам, Критон, побуждаемый недоверием, в конце концов спросил, умеет ли Дионисодор плясать.
А он:
– Ну конечно, умею, – говорит.
e
– Но уж само собой, – возразил я, – ты не можешь кувыркаться на остриях мечей и вертеться колесом – в твоем-то возрасте! Ведь не столь далеко зашел ты в своей премудрости.
– Нет ничего, – отвечал он, – чего бы мы не умели.
– Но, – спросил я, – вы только теперь всё знаете или вам всегда всё было известно?
– Всегда, – отвечал он.
– И когда детьми были, и даже новорожденными, вы тоже всё знали?
Оба в один голос подтвердили это.
– Но нам это кажется невероятным.
А Евтидем в ответ:
295
– Тебе это кажется невероятным, Сократ?
– Всё, за исключением того, что вы, на мой взгляд, мудрецы.
– Но если ты пожелаешь мне отвечать, – сказал он, – я покажу, что и тебе свойственно признаваться во всех этих чудесах.
– Да я с радостью приму такое доказательство. Если я сам не знал, что мудр, ты же докажешь, что я все знаю и знал всегда, выпадет ли за всю мою жизнь более счастливый случай?
b
– Отвечай же, – сказал он.
– Спрашивай, я буду отвечать.
– Итак, Сократ, – начал он, – ты знаешь что-либо или нет?
– Знаю, конечно.
– А знающим ты являешься благодаря тому, чем ты познаёшь, или по какой-то другой причине?
– Благодаря тому, чем я познаю. Ведь, полагаю, ты имеешь в виду душу? Или же нет?
– И тебе не стыдно, Сократ? На вопрос ты отвечаешь вопросом!
– Хорошо, – возразил я, – но как же мне поступать? Я буду делать так, как ты мне велишь. Когда я не понимаю, что ты от меня хочешь, ты все же велишь мне отвечать, не переспрашивая тебя?
c
– Да ведь что-то ты усваиваешь, – сказал он, – из того, что я говорю?
– Да, конечно, – отвечал я.
– Так на то и отвечай, что ты усвоил.
– Как же так? – возразил я. – Если ты, спрашивая, имеешь в виду одно, я же восприму это по-другому и соответствующим образом стану тебе отвечать, тебя удовлетворит такой несуразный ответ?
– Меня-то да, – сказал он, – тебя же, я думаю, нет.
– Так не стану же я, Зевс свидетель, отвечать, – возразил я, – пока все в точности не пойму.
– Ты никогда не отвечаешь, хоть и прекрасно все понимаешь, потому что ты болтун и донельзя отсталый человек!
d
И я понял, что он зол на меня за то, что я расчленяю выражения, в то время как он хотел поймать меня в словесные силки. Тут я вспомнил о Конне[42]: он ведь тоже сердится на меня всякий раз, как я ему не уступаю, и перестает заботиться обо мне, словно я какой-то тупица. А так как я задумал поступить в обучение и к Евтидему, то порешил, что необходимо ему уступить, дабы он не отказал мне, сочтя меня бестолковым учеником. Итак, я сказал:
e
– Пусть будет по-твоему, Евтидем, если ты того хочешь. Ты ведь во всех отношениях умеешь рассуждать лучше, чем я, человек простой и неискусный. Спрашивай же сначала.
– Отвечай же, – начал он, – сызнова: познаешь ли ты чем-либо то, что ты познаешь, или нет?
– Разумеется, познаю, – отвечал я, – а именно душою.
– Ты опять, – сказал он, – предвосхищаешь вопрос! Я ведь не спрашиваю тебя, чем именно ты познаешь, а лишь познаешь ли чем-то.
296
– Снова, – говорю, – по неотесанности я ответил больше должного. Но прости мне это: теперь-то уж я отвечу просто, что познаю чем-то то, что я познаю.
– А всегда ли, – спросил он, – ты познаешь одним и тем же или то одним, то другим?
– Всегда, – говорю, – когда я познаю, то одним и тем же.
– Да перестанешь ли ты вставлять лишнее?!– вскричал он.
– Но как бы нас не подвело это «всегда».
b
– Если это и подведет кого-либо, – сказал он, – то не нас, а только тебя! Но отвечай: всегда ли ты познаешь одним и тем же?
– Всегда, – отвечал я, – если уж нужно исключить это «когда».
– Значит, ты всегда познаешь одним и тем же. А познавая всегда, ты одно познаешь тем, чем познаешь, а другое – другим или все познаешь одним и тем же?
– Одним и тем же, – отвечал я, – познаю в целом все то, что я познаю.
– Вот-вот! – воскликнул он. – Опять такая же вставка!
– Ну, хорошо, – отозвался я, – я исключу «то, что я познаю».
c
– Да не исключай ты ничего, – сказал он, – ведь я ничего от тебя не требую! Но отвечай мне: можешь ли ты познавать «все в целом», если не познаешь всего?
– Это было бы дивом! – возразил я. А он в ответ:
– Теперь можешь вставлять все, что хочешь: ведь ты признался, что знаешь все.
– Что ж, – говорю, – если «то, что я познаю» не имеет никакого значения, значит, я знаю все.
– Итак, ты признал, кроме того, что всегда познаешь одним и тем же то, что ты познаешь, – когда бы ты ни познавал и что бы тебе ни было угодно: ведь ты согласился, что всегда познаешь и вместе с тем – всё.
d
Значит, ясно, что и будучи ребенком ты все знал, и при рождении, и при зачатии, а также и раньше, чем ты явился на свет, раньше возникновения неба и земли ты знал все в целом, коль скоро ты всегда знал. И, клянусь Зевсом, – воскликнул он, – ты всегда будешь всё знать, если я того захочу!
– Так захоти этого, высокочтимый Евтидем, – попросил я, – коль скоро ты молвишь правду. Но я не вполне поверю в эту твою возможность, если только тебе не подсобит в этом присутствующий здесь Дионисодор, твой брат. В этом случае ты, быть может, и покажешься на это способным.
e
Скажите же мне оба, – продолжал я, – вот что (во всем прочем я не смогу с вами, людьми столь диковинной мудрости, спорить и утверждать, будто я не все знаю, в то время как вы говорите противное): смогу ли я настаивать, Евтидем, будто я знаю, что достойные люди несправедливы? Скажи же, знаю я это или не знаю?
– Конечно, ты это знаешь, – отвечал он.
– Что именно я знаю? – спросил я.
– Что достойные люди не несправедливы.
297
– Разумеется, я это давным-давно знаю. Но спрашиваю я не об этом, а о том, откуда я взял, что достойные люди – несправедливы?
– Ниоткуда, – ответствовал Дионисодор.
– Значит, я этого не знаю, – заключил я.
– Ты разрушаешь все рассуждение, – обратился Евтидем к Дионисодору. – Ведь окажется у нас, что он чего-то не знает, и выйдет, что он одновременно и знающий и незнающий.
Дионисодор покраснел.
b
– Но ты-то что при этом думаешь, Евтидем? – спросил я. – Не кажется ли тебе, что прав твой брат – он, всеведущий?
– Ведь я – брат Евтидема, – живо подхватил Дионисодор.
А я на это:
– Брось это, милейший, пока Евтидем не покажет мне, что я знаю, будто достойные люди – несправедливы, и не мешай этому моему познанию.
– Ты увиливаешь, Сократ, – возразил Дионисодор, – и не желаешь отвечать.
c
– Естественно, – сказал я. – Ведь я слабее каждого из вас, так не могу я не бежать от вас обоих! Мне ведь далеко до Геракла, а и он не был в силах сражаться с гидрой – настоящей софисткой, которая, когда снимали одну голову с ее рассуждения, выпускала вместо нее, пользуясь своей мудростью, много новых, – а также с неким раком, другим софистом, недавно приплывшим, как мне кажется, прямо из моря: поскольку этот рак досаждал ему своими речами и укусами слева[43], он позвал на помощь своего племянника Иолая, и тот ему крепко помог. Мой же Иолай [Патрокл][44], если придет, только испортит дело.
d
– Отвечай же, – вставил тут Дионисодор, – раз уж ты сам затянул эту песню: был ли Иолай больше Геракловым племянником, чем твоим?
– Да уж самое лучшее для меня, Дионисодор, – возразил я, – ответить тебе! Ты ведь не оставишь свои вопросы, – я почти в этом уверен, – и будешь сердиться и мне мешать, не желая, чтобы Евтидем научил меня той премудрости.
– Так отвечай же, – настаивал он.
– Итак, я отвечаю, что Иолай был племянником Геракла; моим же, как мне кажется, не был ни в коей мере. Ведь отцом его не был мой брат Патрокл, но был Ификл, близкий ему по имени брат Геракла[45].
e
– А Патрокл[46], – спросил он, – твой брат?
– Разумеется, – отвечал я, – но по матери, не по отцу.
– Значит, он и брат тебе и не брат.
– Не со стороны отца, милейший, – отвечал я. – Его отцом был Хэредем, моим же – Софрониск[47].
– Отцом-то был, – говорит он, – и Софрониск и Хэредем?
– Конечно, – отвечаю, – Софрониск – моим, Хэредем – его.
– Значит, – говорит он, – Хэредем отличается от отца?
298
– От моего, – отвечаю.
– Следовательно, он был отцом, отличным от отца? Или же ты подобен камню?[48]
– Боюсь, – отвечал я, – как бы по твоей милости я и в самом деле не показался камнем. Себе же я таким не кажусь.
– Значит, ты отличаешься от камня?
– Конечно, отличаюсь.
– То есть, отличаясь от камня, ты сам – не камень? И, отличаясь от золота, ты сам – не золото?
– Это так.
– Значит, и Хэредем, отличаясь от отца, сам не может быть отцом.
– Похоже, что он и впрямь не отец, – отвечал я.
b
– Если же, с другой стороны, – подхватил тут Евтидем, – Хэредем – отец, то Софрониск, отличаясь от отца, не является отцом, и у тебя, Сократ, нет отца.
Тут вмешался Ктесипп.
– А разве с вашим отцом, – сказал он, – не произошло того же самого? Ведь он отличен от моего отца?
– Вовсе нет, – отвечал Евтидем.
– Значит, он с моим отцом – одно и то же?
– Да, одно и то же.
c
– Я бы с этим не согласился. Но, Евтидем, мне ли он только отец или и прочим людям?
– И прочим людям также, – отвечал тот. – Или ты думаешь, что один и тот же человек, будучи отцом, может не быть отцом?
– Я и в самом деле хотел бы так думать, – отвечал Ктесипп.
– Как же так? – возразил Евтидем. – То, что является золотом, будет не золотом? Или тот, кто есть человек, не будет человеком?
– Да нет же, Евтидем, – отвечал Ктесипп. – Как говорится, не громозди на заплату заплату[49]. Ведь чудные вещи ты говоришь – будто твой отец также отец всем людям.
– Но это верно, – говорит тот.
– А только ли людям, – спросил Ктесипп, – или также лошадям и всем прочим животным?
– Всем животным, – отвечал тот.
d
– И мать твоя – мать всем животным?
– И мать.
– И морским ежам, – спросил Ктесипп, – она также мать?
– Да, и твоя мать – тоже.
– И значит, ты – брат телят, щенят и поросят?
– И ты тоже.
– А вдобавок отцом твоим будет кабан или пес?
– И твоим также.
– Ты тотчас же, – вмешался Дионисодор, – если станешь мне отвечать, с этим согласишься, Ктесипп. Скажи мне, есть у тебя пес?
– Да, и очень злой, – отвечал Ктесипп.
– А щенята у него есть?
e
– Есть, тоже очень злые.
– Этот пес, значит, им отец?
– Сам видел, – отвечал Ктесипп, – как он покрыл суку.
– Ну что же, разве это не твой пес?
– Конечно, мой, – отвечает.
– Следовательно, будучи отцом, он твой отец, так что отцом твоим оказывается пес, а ты сам – брат щенятам.
И снова Дионисодор, не дав Ктесиппу произнести ни звука, продолжил речь и сказал:
– Ответь мне еще самую малость: бьешь ты этого пса?
А Ктесппп, рассмеявшись:
– Да, – говорит, – клянусь богами! Ведь не могу же я прибить тебя.
– Значит, ты бьешь своего отца?
299
– Нет, гораздо справедливее было бы, если бы я прибил вашего отца, которому взбрело в голову взрастить таких мудрецов сыновей. Но, верно, Евтидем, – продолжал Ктесипп, – немалыми благами попользовался от этой вашей мудрости ваш отец, он же и отец щенят?
– Однако ни он не нуждается во многих благах, Ктесипп, ни ты сам.
– И ты, Евтидем, тоже не нуждаешься? – спросил тут Ктесипп.
b
– Мало того, и никто из людей. Скажи мне, Ктесипп, считаешь ли ты благом для больного пить лекарство, когда он в том нуждается, или это представляется тебе не благом? Или когда кто-нибудь идет на войну, быть вооруженным лучше, чем выступать безоружным?
– Думаю, что да, – отвечал Ктесипп, – хотя и ожидаю, что ты нас чем-нибудь огорошишь.
– Да, в наилучшем виде, – промолвил тот. – Но отвечай: коль скоро ты признаёшь, что пить лекарство – благо для человека, когда он в этом нуждается, и, значит, этого добра надо пить по возможности больше, то ему будет хорошо, если кто-нибудь разотрет и намешает ему целый воз эллебора?[50]
А Ктесипп отвечал:
c
– Да, очень хорошо, если пьющий это лекарство будет ростом с дельфийское изваяние[51].
– Значит, и на войне, коль скоро это благо – иметь оружие, надо иметь как можно больше копий и щитов, ведь это же благо?
– Разумеется, – отвечал Ктесипп. – А ты этого не думаешь, Евтидем? По-твоему, достаточно одного щита и одного копья?
– По-моему, да.
– И ты бы так вооружил, – возразил Ктесипп, – и Гериона и Бриарея?[52] Я-то думал, ты более искусный боец в тяжелом вооружении – и ты, и твой дружок.
d
Евтидем тут промолчал. А Дионисодор, возвращаясь к тому, на что Ктесипп уже отвечал, спросил его:
– Тебе и золото, значит, кажется благом?
– Конечно, и очень большим, – отвечал Ктесипп.
– Что ж, разве ты не думаешь, что блага надо иметь всегда и везде?
– Безусловно, – отвечал тот.
– Значит, ты признаешь, что золото – это благо?
– Уже признал ведь, – отвечал тот.
– Значит, его нужно иметь повсюду, и особенно – в себе самом? И счастливейшим был бы тот человек, который имел бы три таланта золота в желудке, один талант – в черепе и по золотому статеру в каждом глазу?
e
– Да ведь рассказывают же о скифах, Евтидем, – молвил тут Ктесипп, – в точности как ты сейчас говорил о родителе-псе, что достойнейшими и счастливейшими из них считаются те, у кого много золота в черепах, а еще удивительнее, что и пьют они из своих собственных позолоченных черепов, держа собственные головы в руках и заглядывая им внутрь[53].
300
– Ну а смотрят-то и скифы, и все прочие люди, – спросил Евтидем, – на то, что им доступно видеть или недоступно?
– Конечно, на то, что доступно.
– Значит, и ты также?
– И я.
– А видишь ты наши плащи?
– Да.
– Значит, им доступно видеть.
– Восхитительно! – воскликнул Ктесипп.
– Ну и что же дальше? – спросил Евтидем.
– Ничего. А ты, возможно, такой простак, что не веришь, будто плащи видят? Но мне кажется, Евтидем, что ты спишь наяву, и, коли возможно, чтобы говорящий не говорил, так ты именно это и делаешь.
b
– А разве невозможно, – вмешался Дионисодор, – молчащему говорить?
– Никоим образом, – отвечал Ктесипп.
– И говорящему – молчать?
– Еще менее того, – отвечал он.
– А когда ты говоришь о камнях, о дереве, о железе, разве ты говоришь не о молчащем?
– Вовсе нет, наоборот: когда я бываю в кузницах, железо, как говорится, вопит и издает прегромкие звуки, если к нему притрагиваются. А ты, со своей премудростью, этого не знал и сказал ерунду. Но вы мне все-таки покажите, как это возможно – говорящему молчать.
c
Тут мне показалось, что Ктесипп из-за своего любимца чересчур увяз в споре.
– Но разве, – сказал Евтидем, – когда ты молчишь, это молчание относится не ко всему?
– Ко всему, – отвечал Ктесипп.
– Значит, ты молчишь и о говорящем, если только то, что говорится, относится ко всему.
– Как так? – спросил Ктесипп. – Разве всё не молчит?
– Конечно, нет, – отвечал Евтидем.
– Но тогда, почтеннейший, всё говорит?
– Да, всё говорящее.
– Однако, – возразил Ктесипп, – я спрашиваю не об этом, но о том, говорит ли всё или молчит.
d
– Ни то ни другое, а вместе с тем и то и другое, – подхватил здесь Дионисодор. – Уверен, что ты не извлечешь ничего для себя из этого ответа.
Но Ктесипп, по своей привычке громко захохотав, сказал:
– Евтидем, твой братец, внеся двусмысленность в рассуждение, поражен насмерть!
А Клиний смеялся и радовался, и Ктесипп почувствовал, что силы его удесятерились. Мне же показалось, что этот ловкач Ктесипп перенял у них собственный их прием: ведь никто другой из ныне живущих людей не обладает подобной мудростью. И я сказал:
e
– Что же ты, Клиний, смеешься над столь важными и прекрасными вещами?
– Так, значит, Сократ, тебе все-таки известна какая-то прекрасная вещь? – вставил тут Дионисодор.
– Известна, Дионисодор, и не одна, а многие.
– Но вещи эти отличны от прекрасного или они – то же самое, что прекрасное?
301
Тут я всем своим существом почувствовал затруднение и подумал, что это мне поделом: не надо было произносить ни звука; однако я отвечал, что прекрасные вещи отличны от прекрасного самого по себе: в каждой из них присутствует нечто прекрасное.
– Так, значит, если около тебя присутствует бык, то ты и будешь быком, а коль скоро я нахожусь около тебя, то ты – Дионисодор?
– Нельзя ли поуважительней, – сказал я.
– Но каким же образом одно, присутствуя в другом, делает другое другим?
b
– И это тебя затрудняет? – возразил я; теперь я уже попробовал подражать мудрости этих двух мужей, настолько я ее жаждал.
– Как же не затрудняться и мне, и всем прочим людям в том, чего нет на свете?
– Что ты говоришь, Дионисодор? Прекрасное не прекрасно и безобразное не безобразно?
– Да, – отвечал он, – если так мне кажется.
– А тебе так кажется?
– Конечно, и даже очень.
c
– Значит, одно и то же – это одно и то же, а другое – это другое? Ведь конечно же другое не может быть одним и тем же; думаю, и ребенку ясно, что другое не может не быть другим. Но ты, Дионисодор, нарочно это опустил: мне кажется, что, как мастера колдуют над тем, что им положено обработать, так и вы великолепно отрабатываете искусство рассуждения.
– А знаешь ли ты, – сказал он, – что подобает делать каждому из мастеров? И прежде всего, кому подобает ковать?
– Знаю, конечно, – кузнецу.
– А заниматься гончарным делом?
– Гончару.
– А кто должен забивать скот, свежевать и, нарубив мясо на мелкие куски, жарить его и варить?
d
– Повар, – отвечал я.
– Значит, если кто-нибудь делает то, что ему надлежит, он поступает правильно?
– Безусловно.
– А повару, как ты утверждаешь, надлежит убой и свежевание? Признал ты это или же нет?
– Признал, – отвечал я, – но будь ко мне снисходителен.
– Итак, ясно, – заявил он, – если кто, зарезав и зарубив повара, сварит его и поджарит, он будет делать то, что ему подобает; и если кто перекует кузнеца или вылепит сосуд из горшечника, то он будет делать лишь надлежащее.
– Великий Посейдон! – воскликнул я. – Теперь ты увенчал свою мудрость! Но будет ли когда-нибудь так, что она станет моею собственной?
e
– А признаешь ли ты ее, Сократ, – возразил он, – если она станет твоею?
– Коль ты того пожелаешь, – отвечал я, – ясно, что признаю.
– Как? – спросил он. – Ты думаешь, что знаешь свое?
– Да, если ты не возражаешь (ведь начинать нужно с тебя, а кончать вот им – Евтидемом).
302
– Итак, – сказал он, – считаешь ли ты своим то, что тебе подвластно и чем ты можешь пользоваться, как тебе угодно? Например, считаешь ли ты, что тебе принадлежит вол или мелкий скот, который ты можешь продать, подарить или принести в жертву любому из богов по выбору? И то, чем ты не можешь распорядиться подобным образом, ты ведь не считаешь своим?
А я, чувствуя, что из всех этих вопросов вынырнет нечто прекрасное, и сгорая от желания поскорее его услышать, говорю:
– Безусловно, дело обстоит именно так: только подобные вещи и могут считаться моими.
– Ну а животными, – сказал он, – ты называешь то, что имеет душу?
– Да, – отвечал я.
b
– А ты признаешь, что из животных лишь те твои, в отношении которых тебе позволено делать все то, что я сейчас перечислил?
– Признаю.
Выдержав с весьма ироническим видом паузу, как если бы он обдумывал нечто значительное, Дионисодор спросил:
– Скажи мне, Сократ, есть ли у тебя родовой Зевс?[54]
А я, заподозрив, к чему именно он клонит свою речь, сделал беспомощную попытку вывернуться, подобно дичи, пойманной в сеть, и бросил рывком:
– Нету, Дионисодор!
c
– Злополучный же ты человек и вовсе не похож на афинянина, коли у тебя нет ни родовых богов, ни святынь, ни чего-либо другого прекрасного и достойного.
– Позволь, Дионисодор, – возразил я, – не богохульствуй и не учи меня уму-разуму. Есть у меня и семейные, и родовые святыни и все прочее в том же роде, что имеют другие афиняне.
– Значит, у других афинян, – молвил он, – нет родового Зевса?
– Ни у кого из ионян, – отвечал я, – нет такого бога-покровителя – ни у тех, кто выселился из нашего города, ни у нас самих; покровитель наш – Аполлон, через род Иона[55]. Зевса же мы не именуем «Родовым», но «Оградителем» и «Фратрием», и Афину также «Фратрией»[56].
d
– Однако довольно, – прервал меня Дионисодор. – Похоже, что у тебя есть и Аполлон, и Зевс, и Афина.
– Несомненно, – отвечал я.
– Так разве боги эти не твои? – говорит он.
– Нет, они мои родоначальники и повелители.
– Но ведь твои же, – возразил он. – Или ты не признал, что они принадлежат тебе?
– Признал, – отвечаю. – Куда ж мне деваться?
– Но, – говорит он, – разве эти боги – не живые существа? Ведь ты признал живыми существами всех тех, кто имеет душу. А эти боги разве не имеют души?
– Имеют, – отвечал я.
e
– Значит, они – животные?
– Животные, – отвечаю.
– А из животных, – говорит он, – ты тех признал своими, которых ты волен дарить, продавать и приносить в жертву тому из богов, какому тебе заблагорассудится?
– Да, я это признал, – говорю. – Вижу, Евтидем, что нет у меня пути к отступлению.
303
– Так иди же вперед, – говорит он, – и отвечай: когда ты признаёшь, что Зевс и все остальные боги – твои, ты тем самым считаешь, что волен их продавать, дарить и всячески использовать по своему разумению, как и других животных?
А я, Критон, как бы пораженный насмерть этим рассуждением, остался безгласен. Но Ктесипп, желая прийти мне на помощь, воскликнул:
– Геракл меня побери! Да это чудо что за рассуждение!
А Дионисодор на это:
b
– Так что же, Геракл – это «тебя побери» или «тебя побери» – это Геракл? И Ктесипп отвечал:
– Великий Посейдон! Потрясающие слова! Отступаюсь: эти мужи непобедимы.
Тут уже, милый Критон, не было ни одного из присутствующих, кто бы не превозносил в похвалах этих мужей и их рассуждение: все смеялись, рукоплескали и восторгались до изнеможения. До сих пор при каждом метком слове поднимали ужасный шум лишь поклонники Евтидема, теперь же зашумели чуть ли не сами колонны Ликея, радуясь за этих двух мужей!
c
Я и сам был в таком настроении, что готов был признать, будто никогда не видывал людей столь премудрых, и, совершенно покоренный их мудростью, принялся их восхвалять и прославлять в таких словах:
«О вы, блаженно одаренные столь удивительным свойством и сумевшие выполнить столь великое дело так проворно и в такой малый срок! В ваших речах, Евтидем и Дионисодор, содержится много прекрасного, но великолепнее всего то, что вам нет никакого дела до многих людей, весьма уважаемых и, по-видимому,
d
значительных, а вы думаете лишь о тех, кто подобен вам. Уверен, что речи вроде ваших любезны лишь немногим людям, похожим на вас, другие же о них столь низкого мнения, что, я знаю, более стыдились бы опровергать с их помощью собеседников, чем быть опровергнуты сами. Есть в ваших речах еще одна черта – дружелюбие и благожелательность: когда вы утверждаете, что не существует никаких прекрасных и достойных вещей, ничего белого и ничего другого в том же роде, да и вообще
e
никаких различий между вещами, вы просто-напросто зашиваете людям рты (впрочем, вы и сами это признаете); но поскольку это касается не только других, но, по-видимому, и вас самих, это становится очень приятным и крадет у ваших речей их явную непривлекательность. Самое же главное – ваши рассуждения таковы и так искусно изобретены, что в самый небольшой срок научают любого человека: я наблюдал это и на
304
примере Ктесиппа – ведь он прямо с места научился вам подражать. Это умение быстро преподать – прекрасная черта вашего ремесла, однако она неудобна для публичных выступлений с рассуждениями; если бы вы меня послушались, вы воздержались бы от речей перед толпой, а не то, быстро выучившись вашему делу, эти люди не почувствуют к вам благодарности. Лучше всего вам рассуждать между собою; если же у вас будет
b
слушатель, то пусть лишь такой, который заплатит вперед. То же самое, по зрелом размышлении, вы посоветуете и своим ученикам – никогда не вести рассуждений ни с кем из людей, кроме как с вами и между собою. Ты ведь понимаешь, Евтидем, что ценны редкие вещи, самая же дешевая вещь – вода, хоть она и превосходна, по выражению Пиндара[57]. Но, – заключил я, – примите все же в обучение меня и нашего Клиния».
c
После этой речи, мой Критон, и краткого обмена словами мы удалились. Так смотри же начни посещать школу этих двух мужей, ведь они уверяют, что могут обучить любого, кто заплатит деньги, причем ни природные свойства, ни возраст им не помеха; а еще важнее тебе узнать, что, по их мнению, даже и деловая занятость не может служить препятствием любому с налета воспринять их премудрость.
Критон. Конечно, Сократ, я внимательный слушатель и с радостью чему-нибудь поучился бы, но боюсь, что я один из тех, непохожих на Евтидема, о которых ты сказал, что они с большей радостью позволяют опровергать себя подобными речами, чем сами опровергают других.
d
И хотя смешно было бы мне наставлять тебя уму-разуму, все же я хочу сообщить тебе то, что я слышал. Знай же: один из покинувших вас после беседы подошел ко мне во время моей прогулки – муж, почитающийся весьма мудрым, из тех, кто особенно искусны в судебных речах[58], – и молвил:
«– Критон, ты не слушаешь этих мудрецов?
– Нет, клянусь Зевсом, – отвечал я. – Я не сумел пробиться сквозь толпу, чтобы послушать.
– И однако, – возразил тот, – стоило бы это сделать.
– Зачем же? – спрашиваю.
e
– Чтобы услышать рассуждения мужей, искуснейших ныне в такого рода речах.
А я в ответ:
– Ну а как они показались тебе?
– Да не иначе, – отвечал он, – как всегда, когда слушаешь людей подобного сорта – болтливых и придающих мнимую серьезность никчемным вещам. (Вот прямо так он мне это сказал.)
– Однако, – возразил я, – ведь милое это дело – философия.
305
– Да чем же, – говорит, – почтеннейший, оно мило? Самое никчемное дело, и, если бы ты оказался там, я уверен, тебе было бы очень стыдно за своего приятеля: уж очень он был нелеп в своем стремлении пойти в обучение к людям, совершенно не задумывающимся над своими словами и имеющим на все готовые возражения. А ведь они, как я тебе сейчас сказал, ходят нынче в сильнейших. Но, Критон, – продолжал он, – их дело – пустое, и люди, занимающиеся таким делом, пусты и смешны».
b
Мне же, Сократ, показалось, что само дело ошибочно порицают и он и другие, кто этим занимается; но он правильно порицал стремление рассуждать с такими людьми перед лицом целой толпы.
Сократ. Ах, Критон! Удивительны подобные люди. Не знаю, что тебе и сказать. А тот, кто подошел к тебе и порицал философию, – из каких он? Из тех ли, кто искусны в судебных препирательствах, какой-нибудь оратор, или же он сам посылает таких ораторов в суд, сочиняя для них речи, с помощью которых они участвуют в тяжбах?
Критон. Да нет, клянусь Зевсом, он не оратор;
c
полагаю, он никогда даже не появлялся в суде. Но говорят, что он очень хорошо понимает судебное дело – клянусь Зевсом – и весьма искусные сочиняет речи.
Сократ. Теперь понимаю. Я и сам только что хотел сказать о подобных людях. Это те, Критон, кого Продик называет пограничными между философом и политиком: они воображают себя мудрейшими из всех и
d
вдобавок весьма значительными в глазах большинства, причем никто не мешает им пользоваться у всех доброй славой, кроме тех, кто занимается философией. Поэтому они думают, что если ославят философов как людей никчемных, то уж бесспорно завоюют у всех награду за победу в мудрости. Ведь они считают себя поистине великими мудрецами, но, когда терпят поражение в частных беседах, сваливают вину за это на последователей Евтидема.
e
Естественно, что они считают себя мудрецами, ибо в меру заимствуют у философии, в меру – у политики, и делают это на вполне достаточном основании: следует-де насколько положено приобщаться к тому и другому; при этом, оставаясь вне опасностей и споров, они пользуются плодами мудрости.
Критон. Ну и как, Сократ? Кажется тебе, дело они говорят? Ведь в их словах есть все-таки какая-то видимость истины.
306
Сократ. Но на самом деле, Критон, здесь больше видимости, чем истины. Ведь нелегко убедить их в том, что и люди, и все прочие вещи, расположенные на грани неких двух [начал] и причастные к ним обоим, когда находятся посредине между благом и злом, оказываются хуже блага и лучше зла; те, что слагаются из двух разнородных благ, хуже каждого из них в том, в отношении чего каждое из них хорошо; и лишь те, что слагаются из двух разнородных зол и расположены посредине
b
между ними, лучше каждого из двух зол, к которым они причастны. Итак, если философия – это благо и политическая деятельность – тоже, однако в различных отношениях, те, кто причастен к ним обеим и находятся посредине между ними, болтают вздор, ибо они ниже и той и другой; если же одна из них – благо, а другая – зло, то они хуже представителей одной из них и лучше представителей другой. Наконец, если и то и другое —
c
зло, то лишь в этом случае они правы, в противном же случае – никогда. Но я не думаю, чтобы они признали как то и другое злом, так и одно из них добром, а другое – злом. На самом деле, будучи причастны к тому и другому, они ниже и философии и политики во всем том, в чем та и другая заслуживают внимания, и, занимая поистине третье место, претендуют, однако, на первое. Надо простить им это поползновение и не сердиться на







