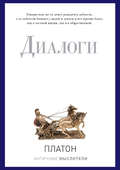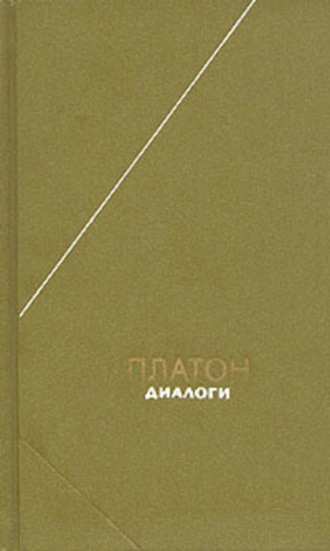
Платон
Диалоги
XXVIII
Из всего этого естественно вытекает положение Платона о том, что целью является посильное уподобление божеству. Он излагает это по-разному. Иной раз он говорит, что уподобиться божеству – значит быть разумным, справедливым и благочестивым, – так в «Теэтете»48. Потому и надо стремиться как можно быстрее бежать отсюда туда: бегство и означает посильное уподобление божеству, а уподобление заключается в том. чтобы стать справедливым и благочестивым благодаря размышлению. Он может ограничиться и справедливостью, как в последней книге «Государства»49; в самом деле, боги не оставят своим попечением того, кто предан стремлению стать справедливым и в меру человеческих сил уподобиться богу, ведя добродетельную жизнь.
В «Федоне» о том, что уподобиться божеству – значит быть рассудительным и справедливым, он говорит примерно так: «А самые счастливые и блаженные, уходящие самой лучшей дорогой, – это те, кто преуспел в добродетели, полезной народу и гражданам; имя ей – рассудительность и справедливость»50.
Иногда он говорит, что цель – уподобиться божеству, иногда – следовать, например: «Бог, в котором, по древнему учению, начало и конец» и т. д. Иногда – и то и другое, например: «Душа, которая следует божеству и уподобилась ему» и т. д. Но ведь благо есть и начало всякой пользы, и можно сказать, что оно – от бога; а такому началу соответствует цель, состоящая в уподоблении божеству, – я имею в виду, конечно, бога небесного, а не занебесного, клянусь Зевсом, который не обладает добродетелью, поскольку он выше ее. Поэтому правильно будет сказать, что несчастье есть демонская порча, а счастье – расположение демона.
Мы можем достичь богоподобия, если при соответствующих природных задатках приобретем хорошие привычки, будем должным образом наставлены и воспитаны в духе закона и, самое главное, если благодаря разуму и обучению усвоим те знания, которые позволяют удалиться от большинства людских забот и постоянно заниматься умопостигаемыми предметами. Если же нам предстоит посвящение в более высокие науки, то подготовкой и предварительным очищением демона в нас может стать музыка, арифметика, астрономия и геометрия; при этом мы должны следить за нашим телом и заниматься гимнастикой, которая закаляет тела как для войны, так и для мирных занятий.
XXIX
Добродетель есть вещь божественная, представляющая собой совершенное и наилучшее расположение души, благодаря которому человек приобретает благообразие, уравновешенность и основательность в речах и делах, причем как сам по себе, так и с точки зрения других. Различаются следующие добродетели: добродетели разума и те, что противостоят неразумной части души, каковы мужество и воздержность; из них мужество противостоит пылкости, воздержность – вожделению. Поскольку различны разум, пыл и вожделение, различно и их совершенство: совершенство разумной части – рассудительность, пылкой – мужество, вожделеющей – воздержность.
Благоразумие51 есть знание добра и зла, а еще того, что не является ни тем ни другим. Воздержность есть упорядоченность страстей и влечений и умение подчинить их ведущему началу, каковым является разум. Когда мы называем воздержность упорядоченностью и умением подчинять, мы представляем нечто вроде определенной способности, под воздействием которой влечения упорядочиваются и подчиняются естественному ведущему началу, т. е. разуму.
Мужество52 – сохранение представления о долге (dogmatos ennomou) перед лицом опасности и без таковой, т. е. некая способность сохранять представление о долге. Справедливость53 есть некое согласие названных добродетелей друг с другом, способность, благодаря которой три части души примиряются и приходят к согласию, причем каждая занимает место, соответствующее и подобающее ее достоинству. Таким образом, справедливость заключает в себе полноту совершенства трех добродетелей: благоразумия, мужества и воздержности. Правит разум, а остальные части души, соответствующим образом упорядоченные благодаря разуму, подчиняются ему; поэтому правильно положение о том, что добродетели взаимно дополняют друг друга.
В самом деле, мужество, будучи сохранением представления о долге, сохраняет и правильное понятие, поскольку представление о долге есть некое правильное понятие; а правильное понятие возникает от разумности. В свою очередь разумность связана также и с мужеством: ведь она является знанием добра, а никто не может увидеть, где добро, если смотрит, подчиняясь трусости и другим страстям, с нею связанным. Так же не может быть разумным человек разнузданный и вообще тот, кто, побежденный той или иной страстью, совершает нечто вопреки правильному понятию. Платон считает это воздействием незнания и неразумия; вот почему не может быть разумным тот, кто разнуздан и труслив. Итак, совершенные добродетели нераздельны друг с другом.
XXX
Но мы говорим о добродетелях и в другом смысле, называя, например, даровитость или успехи, ведущие к добродетели, тем же именем, что и совершенные добродетели, по сходству с ними. Так мы называем мужественными воинов, а иной раз говорим, что некоторые храбры, хотя и неразумны. Очевидно, что совершенные добродетели не усиливаются и не ослабевают, а вот порочность может быть сильнее и слабее, например этот неразумнее или несправедливее, нежели тот. Но в то же время пороки не взаимосвязаны друг с другом, поскольку одни противоречат другим и не могут сочетаться в одном и том же человеке. Так, дерзость противоречит трусости, мотовство – скупости; кроме того, не может быть человека, одержимого всеми пороками, как не может быть тела, имеющего в себе все телесные недостатки.
Еще следует допускать некое среднее состояние между распущенностью и нравственной строгостью, поскольку не все люди либо безупречно строги, либо распущенны. Таковы те, кто довольствуется определенными успехами в нравственной области. Но ведь и в самом деле нелегко перейти от порока к добродетели: расстояние между этими крайностями велико и преодолеть его трудно.
Из добродетелей одни нужно считать главными, а другие – второстепенными; главные связаны с разумным началом, от которого получают совершенство и остальные, а второстепенные – с чувственными. Эти последние ведут к прекрасному благодаря разуму, а не сами по себе, поскольку сами по себе они разумом не обладают, а получают его благодаря разумности при соответствующем образе жизни и воспитании. И поскольку ни знание, ни искусство не могут образоваться ни в какой другой части души, кроме разумной, оказывается невозможным обучить добродетелям, связанным с чувственностью, поскольку они – не искусства и не знания и не обладают собственным предметом. Поэтому разумность, будучи знанием, определяет, что свойственно каждой добродетели, наподобие кормчего, подсказывающего гребцам то, чего они не видят; и гребцы слушаются его, как и воин слушается полководца.
Порочность может быть большей и меньшей, и преступления неодинаковы, а одни большие, другие меньшие; поэтому правильно, что законодатели назначают за них то большее, то меньшее наказание. И хотя добродетели, конечно, суть нечто предельное в силу своего совершенства и сходства со справедливостью, их с другой точки зрения можно рассматривать как нечто среднее, поскольку если не каждой, то большинству из них соответствуют два порока, один из которых связан с избытком, а другой – с недостатком; например, щедрости противоположны: с одной стороны – мелочность, а с другой – мотовство.
В самом деле, неумеренность страстей возникает тогда, когда либо преступают меру должного, либо не достигают ее. Нельзя считать впечатлительным того, кто без гнева смотрит, как оскорбляют его родителей, и сдержанным того, кто гневается по всяким пустякам, – совсем наоборот. Точно так же следует считать бесчувственным того, кто не скорбит, когда его родители умирают, и угнетенным переживаниями и безмерно страдающим – того, кто готов умереть от скорби; умерен в страстях тот, кто скорбит, но соблюдает меру в переживаниях.
Кто буквально всего и очень сильно боится – труслив; кто ничего не боится – самонадеян; а мужествен тот, кто отважен и осторожен в меру; точно так же обстоит дело и со всем прочим. И поскольку в том, что касается страстей, умеренность – наилучшее, а умеренность есть не что иное, как середина между избытком и недостатком, такого рода добродетели существуют в этой середине потому, что они позволяют нам придерживаться в страстях среднего.
XXXI
Но такова же и добродетель, поскольку она также есть то, что в нашей воле и ничему не подвластно. В самом деле, порядочность не была бы чем-то похвальным, если бы она возникала от природы или доставалась в удел от бога. Добродетель должна быть чем-то добровольным, поскольку она возникает в силу некоего горячего, благородного и упорного устремления. А раз добродетель добровольна, значит, порочность невольна. Действительно, кто добровольно выберет величайшее из зол для достойнейшего и драгоценнейшего в себе? Когда кто-то устремляется к злу, исходно это устремление к злу не как к злу, но как к благу; и когда кто-то обращается к злу, с тем чтобы приобрести с помощью незначительного зла превосходящее его благо, он находится в совершенном заблуждении, но опять-таки совершает зло невольно, поскольку невозможно, чтобы кто-то устремлялся к злу, желая себе зла, а не в надежде на благо или не из страха перед большим злом.
Все несправедливые дела злого человека также оказываются невольными, потому что если несправедливость невольна, то совершение несправедливости должно быть невольным тем в большей степени, что несправедливое действие является большим злом, чем несправедливость, которая не проявляет себя. Но хотя несправедливые поступки и невольны, тех, кто их совершает, следует наказывать, причем неодинаково, поскольку неодинаков причиняемый ими вред; а сама невольность объясняется либо незнанием, либо аффектом, от чего можно избавить вразумлением, воспитанием, образованием и заботой.
Несправедливость – такое зло, что скорее следует избегать самому совершать несправедливые поступки, чем подвергаться несправедливости[54]: первое присуще порочному человеку, а второе – всего лишь слабому. Конечно, постыдно и то и другое, но совершать несправедливое настолько же хуже, насколько и позорнее; и преступнику лучше быть наказанным, как больному лучше доверить свое тело искусству врача, поскольку всякое наказание как раз и есть некое врачевание заблудшей души.
XXXII
Поскольку большинство добродетелей так или иначе связаны с аффектами, следует определить, что есть аффект. Аффект есть неразумное движение души, все равно к злу или к благу. Движение называется неразумным, потому что аффекты не суть ни суждения, ни мнения, но движения неразумных частей души: оно возникает в чувствующей части души и есть наша непроизвольная деятельность. Аффекты часто возникают в нас против воли и вызывают противодействие. Иной раз, даже зная, что с нами не происходит ничего печального, радостного или страшного, мы все же находимся под воздействием происходящего; этого мы не испытывали бы, если бы аффекты совпадали с суждениями, поскольку суждение мы можем отвергнуть, поняв относительно его, что так должно или не должно. Аффекты вызывает либо хорошее, либо дурное, поскольку при появлении безразличных предметов аффекта не возникает: все аффекты связаны с появлением хорошего либо дурного. Когда мы замечаем, что нам хорошо сейчас, мы радуемся, а к грядущему благу стремимся; когда же мы замечаем, что нам плохо, мы огорчаемся и боимся грядущего зла.
Есть два простых и основных аффекта: удовольствие и страдание, а остальные лепятся из них. В самом деле, нельзя считать страх и вожделение изначальными и простыми наряду с этими двумя, поскольку тот, кто испытывает страх, не полностью лишен удовольствия: ведь он не сможет пережить несчастье, если перестанет верить, что избавится от зла и наступит облегчение; но вместе с тем он переполнен тревогой и беспокойством и поэтому страдает. А испытывающий вожделение, надеясь обрести вожделенное, чувствует удовольствие, но, поскольку он не полностью уверен и у него нет твердой надежды, грустит.
Если вожделение и страх не изначальны, несомненно, придется согласиться, что ни один из прочих аффектов также не является простым, каковы, например, сожаление, зависть и тому подобные, поскольку в них также можно усмотреть удовольствие и страдание, из которых они как бы смешаны.
Одни из аффектов дикие, другие кроткие; кроткие суть естественные, они необходимы человеку и естественны для него, пока остаются умеренными, так как при неумеренности ведут к извращению. Таковы удовольствие, страдание, пыл, жалость, стыд; естественно удовольствие по поводу соответствующего природе и страдание из-за несоответствующего; необходим пыл при наказании врагов и отмщении; при любви к людям естественна жалость; необходим стыд, чтобы уклоняться от позорного. Аффекты дикие суть противоестественные, они возникают от испорченности и низости нрава. Таковы насмешливость, злорадство, человеконенавистничество; они могут быть сильнее или слабее, но, каковы бы они ни были, они всегда суть нечто извращенное, и для них нет надлежащей меры.
Об удовольствии и страдании Платон говорит, что аффекты эти вызываются в нас неким изначальным природным движением: страдание и боль рождаются при движении против природы, а удовольствие – при восстановлении природного порядка55. Он считает, что состояние, соответствующее природе, – среднее между болью и удовольствием; оно не совпадает ни с той, ни с другим, и в нем мы большее время пребываем.
Он учит также о многих видах удовольствия, в частности об удовольствиях тела и души; одни удовольствия смешиваются с тем, что им противоположно, а другие остаются чистыми и несмешанными; одни возникают от воспоминания, а другие – благодаря надежде; одни – позорные – у людей разнузданных и несправедливых, другие – удовольствия людей умеренных – так или иначе причастные к благу, например удовольствие от свершения хороших дел и добродетельной жизни.
Относительно множества низменных удовольствий нет нужды исследовать, могут ли они принадлежать к числу благ как таковых, поскольку они являются преходящими и ничего не стоят, возникают в качестве побочного следствия природных свойств, не имеют в себе ничего существенного и изначального и допускают наряду с собою то, что им противоположно; удовольствие и страдание здесь смешиваются, а этого не происходило бы, если бы одно было благом как таковым, а другое – злом.
XXXIII
Дружбой56 в наивысшем и собственном смысле называется не что иное, как чувство, возникающее от взаимного расположения. Оно появляется в том случае, когда каждый из двоих хочет, чтобы близкий и он сам были равно благополучны. Это равенство сохраняется только в том случае, когда у обоих похожий нрав, поскольку подобное дружественно подобному как соразмерному, тогда как несоразмерные предметы не могут пребывать в согласии ни один с другим, ни с предметами соразмерными.
Есть и иные чувства, которые, не будучи дружбой, тем не менее называются дружескими, неся на себе некий налет добродетели. Таково естественное расположение родителей к детям и родственников друг к другу, так называемое гражданское чувство и товарищество57, которые, однако, не всегда построены на взаимном расположении.
Вид дружбы представляет собой и любовное чувство. Любовь бывает благородная – в душах взыскательных, низкая – в душах порочных и средняя – в душах людей посредственных. Поскольку душа разумного человека бывает трех разрядов – добрая, негодная и средняя, поэтому и видов любовного влечения – три. Более всего о различии этих трех видов любви можно судить на основании различия их предметов. Низкая любовь направлена только на тело и подчинена чувству удовольствия, поэтому в ней есть нечто скотское; предмет благородной любви – чистая душа, в которой ценится ее расположенность к добродетели; средняя любовь направлена и на тело, и на душу, поскольку ее влечет как тело, так и красота души.
Достойный любви также представляет собой нечто среднее между негодным и благородным, в силу чего воплощением Эроса следует представлять не бога, а. скорее, некоего демона, который, никогда не облекаясь в земное тело, служит как бы перевозчиком от богов к людям и обратно. Поскольку три наиболее общих вида любви были названы выше, любовь к благу следует определить как некое искусство, не связанное с аффектами, относящееся к разумной части души и занятое рассмотрением, которое дает знание того, как обрести предмет, достойный любви, и обладать им. О предмете любви это искусство судит по его устремлениям и порывам – насколько они благородны, направлены на прекрасное, сильны и искренни. Стремящийся к такой любви обретет ее не путем ублажения и превознесения любимца, но, скорее, удерживая его и доказывая, что не следует и дальше вести такую жизнь, какую он ведет теперь. Когда он завоюет предмет любви, он будет общаться с ним, склоняя его к тому, в чем, упражняясь, станет он совершенным; а цель их общения – из влюбленного и любимца стать друзьями.
XXXIV
Платон говорит, что среди государств одни идеальны (anypothetoys) – их он рассмотрел в «Государстве», где сначала описано государство, не ведущее войн, а затем – исполненное воинственным пылом, причем Платон исследует, какое из них лучше и как его можно осуществить[58]. Подобно душе, государство также делится на три части: на стражей, воинов и ремесленников59. Одним он поручает управление и власть, другим – военную защиту в случае необходимости (их следует соотносить с пылким началом, которое находится как бы в союзе с началом разумным), третьи заняты ремеслами и другим производительным трудом. Он считает, что власть должна быть у философов и созерцателей первого блага.
В самом деле, только в таком случае можно устроить все соответствующим образом, поскольку в человеческих делах никогда не избавиться от зол, если философы не станут царями или же – по какому-то божественному определению – те, кого именуют царями, не станут по-настоящему философами. Наилучшим и справедливым образом они смогут вести город тогда, когда каждая часть его будет самостоятельна, правители будут заботиться о народе, воины служить им и сражаться за них, а остальные будут послушно им повиноваться.
Платон называет пять видов государственного устройства: при аристократии у власти стоят лучшие, второй вид – тимократия, когда у власти честолюбцы, третий – демократия, затем – олигархия и, наконец, наихудший вид – тирания60.
Он описывает и другие государства, построенные на определенной реальной основе (ex hypotheseos), из которых одно изображено в «Законах», а другое (в виде указаний, как исправить существующее положение) – в «Письмах»61. Такие указания он дает и для описанных в «Законах» больных городов62, которые занимают ограниченное место, населены отборными людьми всякого возраста и – в силу различия их природы и размещения – нуждаются каждый в особенном воспитании, образовании и вооружении: приморские города будут заниматься мореплаванием и вести морские сражения; населяющие равнины, удаленные от моря, приспособятся к битве в пешем строю с более легким вооружением, чем у жителей гор, но с более тяжелым, чем у жителей низин; некоторые из них могли бы завести конницу. В такого рода государстве не идет речи об общности жен.
Гражданская добродетель является одновременно и теоретической и практической; к ней относится умение обеспечить в городе благополучие, счастье, единомыслие и согласие; будучи искусством приказывать, она имеет в подчинении военное, полководческое и судебное искусства, а кроме того, занята рассмотрением тысячи других дел, в частности определением того, вести войну или нет.
XXXV
Из сказанного ясно, каков философ. Софист отличается от него, во-первых, обычаем, например тем, что обучает юношей за плату63 и больше стремится к тому, чтобы казаться хорошим и добрым человеком, чем быть таким. Во-вторых, предметом занятий, потому что философ занят тем, что обладает вечно тождественным и неизменным бытием, а софист хлопочет о небытии, удаляясь туда, где мрак не позволяет ничего разглядеть64. Небытие не есть противоположность бытия, поскольку оно не обладает подлинным бытием, не дано мысли и никак не осуществлено; кто силится сказать о нем и помыслить его, попадает в порочный круг из-за того, что оно в самом себе содержит противоречие.
Само слово «небытие» не только означает отрицание бытия, но одновременно указывает на различие и каким-то образом является свойством бытия, ведь, если бы вещи не были причастны небытию, они не отличались бы одна от другой; однако в действительности они суть бытие в такой же мере, в какой и небытие, поскольку то, что не есть нечто [другое], не есть бытие [как таковое].