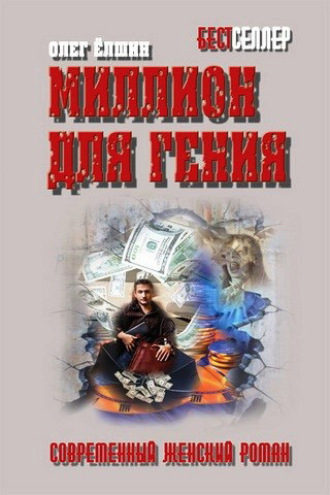
Олег Ёлшин
Миллион для гения
– Эллка, привет! – махнула Маммонна короткой рукой хозяйке дома. Та покраснела, расцвела в улыбке и поздоровалась.
Тусовочка началась. Люди в праздничных нарядах весело разливали шампанское и прочие напитки, закусывали маленькими канопе, общались, обнимались, шумели. Здесь были одни знаменитости, весь бомонд: пожилые мужчины и молодые девчонки рядом с ними, совсем еще юные мальчики под руку со своими мамочками, знаменитыми, всем известными, отпиаренными и любимыми. Вдалеке Леонидов увидел своего издателя, потом Силаева, увидел маленького менеджера Агентства «22 и 2», здесь были всем знакомые журналисты и ведущие различных шоу и передач, режиссеры и актеры. Были продюсеры и их модели-певицы. Полуголые, но изумительно раздетые, полутрезвые и навеселе, разгоряченные жарой и праздником, молодые женщины. Здесь собрались все! Политики и бизнесмены, племянники и племянницы, светские дивы и светские львы. Зрелище напоминало большой веселый вольер, в котором по случайности собрались люди разных пород, возрастов и званий, разных регалий и чинов. Словом, весь Бомонд!
– Там решаются все дела, – вспомнил он слова Петрова.
Пока он разглядывал вновь прибывших гостей и Мадам (по-видимому, это и была она), Маммонна продолжала о чем-то темпераментно говорить, а гости понимающе ей кивали. Вдруг он услышал имя Медильяне и подошел ближе. А Маммонна продолжала гневную речь:
– …каков мерзавец! Оставить меня без тряпок, без нарядов! Позволить себя убить! В чем теперь я должна ходить? У кого я буду одеваться? Кто, вообще, меня сможет одеть? Он знал каждый сантиметр, каждую клеточку моего тела! Его убить за это мало!
– Но, его уже убили! Застрелили! – воскликнул кто-то из толпы.
– Мало! Мало! – продолжала Маммонна, – и поделом! Каков наглец! Надеть на нас майки! Шорты! Наглец и извращенец! Извращенец!..
Последнее слово она произнесла трогательно, с любовью и подняла с вершины торта картинку, вылепленную из крема и шоколада. На ней был портрет какого-то человека. Маммонна воткнула его, как праздничную свечку, в торт и поднесла зажигалку. На картине была расположена маленькая свечка, которая осветила лицо человека. Леонидов вздрогнул и огляделся. Человек этот был ему знаком! Он напоминал старичка, с которым он только что разговаривал. Это точно был тот самый старик! Как такое могло произойти!? Он сошел с ума! А люди вокруг зашептали: – Медильяне, Медильяне.
– Мой хороший! – трогательно продолжала Маммонна, – мой Ангел! Мой любимый папочка!
Люди притихли, она пустила слезу и отломила кусочек шоколадки, съела его, громко чавкая, потом произнесла: – Сегодня мы празднуем твою кончину! – помолчав мгновение, резко обернулась и неожиданно заорала: – Празднуем, я сказала, празднуем, веселимся, нечего сопли жевать! Торррт! Рррежеммм торррт! Офффицианттт!
К ней подбежал человек с подносом, на котором лежали маленькие ножи и вилочки для канопе. Она взяла двумя пальцами одну такую крошечную вилку и воткнула ее, как булавку, в огромный торт. Потом снова и снова, оглядываясь по сторонам.
– Ты, что издеваешься? – гневно воскликнула она. – Пшел вон, скотина! – топнула она ногой на официанта, – садовника! Зовите садовника! Пусть принесет свои прибамбасы! Да побыстрей! Маммоннка ничего не ела с самого утра! – и грохнула поднос оземь. А к ней уже мчался человек, неся большую совковую лопату и вилы. Появились люди с огромными подносами в руках, на которых можно было уложить целого жареного поросенка или барашка. По-видимому, Маммоннка не признавала фуршетов и тяготела к гигантомании и средневековым оргиям. Очень скоро в ее руках оказался огромный поднос с куском торта величиной с голову, который она разрезала большим садовым кинжалом и ела прямо с ножа. Остальные тоже получили лакомые куски, положенные совковой лопатой. Праздник продолжался…
Спустя немного времени, какой-то человек подвел к Маммонне трех разодетых… или раздетых, высоких девиц и молодого парня: – Вот, Маммонна, посмотри на моих ребят! Мой новый проект! – гордо произнес он. Маммонна стояла с куском торта, широко расставив ноги, громко чавкала и критически, прищуренными глазками, смотрела на этих людей.
– Какие сюськи! – наконец, воскликнула она.
Капелька пота потекла по лицу этого человека, по-видимому, продюсера новой группы. Он заметно волновался и заискивающе на нее смотрел. Маммонна подошла к одной из девиц. Та была выше ее на голову. Маммонна сунула свой нос в шикарный бюст девицы, потом оторвалась от него и басом спросила: – Настоящий?
– Настоящий, – робко улыбнулась девица.
Люди вокруг радостно засмеялись. Маммонна проделала то же самое с остальными девицами, троекратно получив овации за свою шутку, и проворчала: – Ну да, ну да, настоящие, так я и поверила. – Потом подошла к молодому парню, солисту группы, и снова произнесла, чавкая тортом: – У тебя тоже настоящий?
Парень покраснел, но сразу же ответил: – А то! Иначе стоял бы я здесь перед вами!
– Стоял! Стоял! – покровительственно закивала Маммонна, – при виде такой женщины можно только стоять! – и лукаво на него посмотрела: – Ладно, потом, позже познакомимся, пупсик!
– Вам нравятся мои ребятки? – спросил продюсер, улыбаясь.
Маммонна снова оглядела девиц, потом паренька: – Не многовато ли для одного? Ладно, пойте… или что там они у тебя делают?
– Поют, еще как поют! – воскликнул продюсер.
– Ну, и ладно! Пусть себе поют, пока я добрая.
Потом к ней снова и снова подходили какие-то люди. Они знакомились, представлялись. «Решали дела».
Вскоре Леонидов потерял Маммонну из виду, заметив старого друга. Того самого, который его как-то «выручил» деньгами. Тот очень обрадовался и отвел его в сторонку: – Рад видеть тебя, старина! – воскликнул он, – наконец ты с нами!
– С вами? – Леонидов не понял, но переспрашивать не стал. Они какое-то время говорили, потом друг спросил: – Как теперь тебя называть, Леонидов? Господин Леон? – и засмеялся.
– Да, хоть Леонардо, называй. Можешь Васей, можешь Петей, Майклом – кем угодно, значения не имеет! – проворчал он.
– Это ты напрасно! – воскликнул друг: – Тебя классно отпиарили, держись этого курса. Теперь ты, как разведчик, будешь лежать на операционном столе под наркозом, да, хоть при родах, не имеешь права вспоминать свое настоящее имя.
– А, было ли оно когда-нибудь, имя это? – мрачно пошутил Леонидов. Но друг шутки не понял: – Вот это правильно! Не было этого имени! Вот это по-нашему!
– Тебя-то как теперь называют? – спросил Леонидов. Тот ответил:
– Я, старик, не публичная личность, остался тем же, кем и был. Все по-прежнему, – и, посмотрев на него, сказал: – А ведь ты, Леонидов,… прости Леон, должен мне кучу денег.
– Серьезно? – удивился он.
– Ты знаешь, что я подумал? Помнишь тот случай несколько месяцев назад, – продолжал друг. – Если бы я тогда дал тебе эти несчастные деньги, эти гнилые, порочные деньги, сейчас бы ты не стоял в этом замечательном зале, и мы не разговаривали бы с тобой.
Леонидов уставился на него и не нашелся, что ответить.
– Да-да, – убедительно продолжал друг, – если бы ты просто взял тогда в долг и все это промотал, потом снова взял и так далее, у тебя не появился бы азарт, вкус к жизни, к борьбе! На это я и рассчитывал! Я ждал, когда ты начнешь бороться, это и был мой гениальный план! Я тебе тогда «конкретно» помог. Как видишь, у меня получилось!.. У нас! – поправился он и добавил: – Так что, с тебя причитается!
Друг говорил на полном серьезе, он не шутил, был уверен в правоте своих слов! Он был в этом убежден!
– Сколько? – пошутил Леонидов.
– Не сейчас, – серьезно ответил тот.
– Не хочу быть обязанным, – настаивал Леонидов.
– Потом, потом, сочтемся. Я подожду, не к спеху, – ответил друг и воскликнул, глядя куда-то вдаль. – Посмотри, какие люди!
Теперь Леонидов смотрел на какого-то человека, пытаясь его вспомнить.
– Художник! Это же его старый друг, Художник! Как он мог не узнать его сразу?
Они протиснулись сквозь толпу, поздоровались, обнялись.
– Ну, как твоя Луна? – спросил Леонидов.
– Сияет в ночи! – ответил тот. – Закончил, теперь могу выполнить твою просьбу.
– Какую просьбу? – спросил он, делая вид, что не помнит.
– Ну, как же, твои обложки! Пора рисовать, пора творить! Буду рад поставить твою фамилию рядом с моей. Представляешь? На обороте титульной страницы крупно: – «Иллюстрации к книге выполнены известным господином Художником»! – воскликнул он, – моя фамилия,… а потом и твоя… тоже!.. Ну, или наоборот, – покраснел он и поправился: – Как когда-то, помнишь в театральной программке – режиссер ты, художник – я.
– А как же твой Сатурн? – воскликнул Леонидов, – Сатурн домазал?
– Сатурн подождет! – воскликнул Художник, – сначала твои дела! Мы же одна компания, какой может быть Сатурн, сначала книги. Ты просто обязан отдать мне заказ на эти обложки, ты должен…
– Должен? – снова прозвучало в голове.
Алка…, вернее Эллен, с мужем подошли к их компании.
– Господин, Леон! – воскликнула она, – я выполнила твою просьбу! – гордо заявила она.
– Какую просьбу? – не понял он.
– Ну, Леон… Идов! Не придуривайся! Ты же хотел печататься в нашем издательстве! Мой папочка прочитал твои книги, ну…, то есть, просмотрел…, пролистал… короче, мы согласны!
– Без понтов! – подтвердил папочка, и добавил: – С твоим издателем все порешаю, разберусь сам, короче, можем работать, в легкую.
Алка посмотрела на мужа и перевела: – Все юридические тонкости мой муж берет на себя.
– Не твоя печаль, – добавил папочка.
– Ну да,… ну,… это самое я и говорю, – сказала Алка, – подписывайте договор и вперед! Вперед? – посмотрела она на мужа.
– В легкую, – повторил папочка, поправил пиджак на широких плечах и осклабился.
– Я подумаю, – произнес Леонидов.
– Подумаю? – удивился папочка.
– Леонидов,… прости, Леончик! – поправилась Эллен. – Ты же сам нас просил? В конце концов, ты обещал! Теперь ты просто должен! Ты наш!
– Должен, – снова мелькнуло в голове, – когда он оказался всем должен?
– Он хотел сказать, что не отказывается, – возникла Гелла, теперь она всегда появлялась в нужное время, – просто Леон пока не готов к резким движениям, – мягко и мудро продолжала она. – Завтра поговорим. Мы ни от чего не отказываемся. Завтра, хорошо? Да, Леон? Да?
Он стоял и смотрел на этих людей – на друга-бизнесмена и Художника, на Алку. Ему было очень приятно встретить старых друзей в этом доме. Друзей, которые ради него были готовы на все. А иначе и быть не могло! Ведь это была одна компания, все, как прежде…
– Ты кто такой? – внезапно услышал он резкий утробный голос за спиной. От неожиданности он застыл на месте, потом повернулся. Перед ним стояла сама Маммонна и своим коротким толстым пальчиком тыкала в него.
– Это Леон! Леон Идов! – быстро затараторила Эллен. – Я не успела вам его представить! Это тот самый Идов, писатель…
– Я не тебя спрашиваю, Эллка.
Маммонна не удостоила ее взглядом, уставившись на него. В этих глазах застыл дьявольский блеск, который выдавал удовольствие от встречи. Блеск глаз голодного человека, или не человека вовсе, который, не насытившись огромным куском торта, теперь желал чего-то еще, чего-то посолонее. Она пожирала его глазами, проникая в голову, в сознание, в самую душу. На мгновение Леонидов почувствовал себя жертвой перед хищником. Почувствовал себя раздетым, совершенно голым, беззащитным, он стоял, как школьник в гимназии, ожидая наказания. Правда, пока не знал, за что.
– Я тебя спрашиваю, ты кто такой? Леон… Идов. Ну, кто ты такой? Почему не идешь ко мне? Не «проставляешься»? Ты кем себя возомнил?
Люди вокруг притихли, с замиранием сердца наблюдая за этой сценой. Они привыкли к дурачествам своей Маммоннки, по-видимому, она имела на это право, поэтому с уважением, трусливо смотрели, ощущая себя на месте этого Леона – тигра, который оказался в клетке.
– Не жрет мой торт?! – продолжала она. – Не идет знакомиться! Никакого уважения! Дать ему торта! Принести моего торта! Быстро! – прокричала она.
Прямо у носа Леонидова оказалось блюдо, на которое плюхнулся огромный кусок торта, соскочивший с лопаты. Леонидов молча стоял, держа его в руках.
– Ну, Леон Идов, ты кто такой? И чего ты можешь в этой жизни? Псссатель.
– Скажи ей что-нибудь, – зашептала на ухо Алка. – Давай, чего ты молчишь? Ну, скажи что-нибудь! Ты должен ей понравиться!
А он все стоял и смотрел.
– Он что у тебя немой… или просто тупой?
Маммонна с удовольствием рассматривала его, прищурив глаза. Она готовилась съесть это блюдо целиком, но пока не решила с какой стороны начать. А этот псссатель не понимает, что нужно сказать комплимент царице вечеринки. Просто, в знак уважения, немножко унизиться, показать свое место. А этот стоит и тупо молчит! Какой скандальчик! Какая прелесть! Псссатель – придурок!
– Сделай ей комплимент, Леонидов! – продолжала шептать Алка, позабыв его новое имя. Ей было не по себе. Такой конфуз в ее доме! А Леонидов, как медведь, упирается и не может подкатить к Мадам! Какой ужас!
– Она лишит тебя всех контрактов! – шептала Алка, – я не шучу, она может все! Ты должен ей понравиться! Давай!
– Должен! Снова должен! – подумал он.
А Маммонна продолжала сверлить его глазами. Но теперь это не был взгляд тупой самодовольной жабы, в ее глазах застыло острие, которое пронзало его насквозь.
– Конечно, должен! – мягко прошептала она. Леонидов был поражен. Она читала его мысли. – А ты как думал? – продолжала она. Это не была шумная, взбалмошная бабенка. Это была женщина, которая умными всепонимающими глазами смотрела на него и улыбалась. Это была улыбка человека, который знал про него все. Ему даже показалось, что выглядит она теперь по-другому. Он не мог понять, как, но этот наряд, килограммы краски и жира были бутафорией, фикцией. Под всем этим скрывалась умнейшая, красивая женщина, которая смотрела на него и ждала. А еще понял, что этот взгляд он уже видел, она ему кого-то напоминала. Он оглянулся, словно ища поддержки. Вокруг никого не было. Исчезли люди, исчез яркий свет праздничного зала, они остались вдвоем. И полумрак вокруг.
– Темный затхлый могильник, – мелькнуло в голове. – Что вам нужно? – спросил он.
– Чтобы ты любил меня, свою Богиню Маммонну, – ответила она. – Чтобы вступить в мой Клуб, нужно выполнить некоторые правила. Ты должен искренне полюбить меня и молиться этой молитвой. Или ты с нами, или один – третьего не дано. Ты никто! Ты ничтожество, Леонидов, – ответила она, смеясь.
Он точно видел эти глаза, этот взгляд, и видел его не один раз. У многих людей, у разных людей. Только, не мог вспомнить – у каких. Вдруг рядом в сумраке появился некто. Ангел! Его Ангел! Слава Богу – он не один!
– Ты должен понравиться ей! – прошептал Ангел, – такое правило, ты должен ее полюбить, тогда у тебя все будет.
– Снова, должен? – промелькнуло в голове.
– А ты как думал? – читала его мысли Маммонна. – Писссатель, гений… Мне не нужны гении, – улыбнулась она совсем не доброй улыбкой. – Их время давно прошло. Это я тебя так, на всякий случай предупреждаю, на будущее, а каким будет это будущее, решать теперь мне. А за тобой я давно присматриваю. Ты никто и ничто без меня. Ты понял? Ты ничтожество, Леонидов.
Он тупо молчал, словно перед детектором лжи, боясь подумать о чем-то еще, а Маммонна, наконец, оторвала от него пронзительный взгляд. Снова яркий свет, снова люди кругом, они смотрят, ждут. И еще один человек на него пристально смотрит. Этот взгляд выделялся из толпы. Или показалось? Тот самый человечек – тот старичок. Он смотрел на него и тоже ждал чего-то, хитро улыбаясь.
– Так, ты соизволишь мне что-нибудь сказать? – уже не выдержала Маммонна. Ей надоело пассивное созерцание, и она желала развязки, финального аккорда.
И снова глаза старичка…, снова Маммонны.
– Я не даю интервью, – неожиданно для себя громко произнес он и галантно улыбнулся.
– Да, ну-у-у-у? – изумилась Маммонна, на мгновение застыв и прищурив глаза, – какие люди у нас сегодня! – и широким жестом пригласила лицезреть это зрелище. Гул удивленных голосов пронесся по залу. Теперь она говорила медленно, с удовольствием, как только что разрезала торт.
– Мы не даем интервью? Какая прелесть! И тортик мой тоже есть не собираемся?
А он стоял, смотрел на нее и тоже почему-то улыбался. Маммонна погрузила в торт палец, и провела белым кремом по его костюму.
– Ах, какой конфуз! – воскликнула она, – какая жалость! Последний костюмчик от Медильяне, видел бы он сейчас! Бедный Медильяне! Душка Медильяне!
А он видел. Он смотрел на него, и в памяти Леонидова воскресла фраза этого человека: – Единственный раз в жизни сделай то, что ты хочешь. А что он хотел? Очень хотел?… Он обезумел? Он сошел с ума?
Но остановить Леонидова уже было невозможно. Он спокойно заглянул в глаза Маммонне. Галя в ужасе отшатнулась, заметив этот взгляд. Она хорошо его знала. Она еще помнила «того» Леонидова. Дальше все происходило, словно в замедленной съемке. Леонидов спокойно поднял блюдо с тортом, плавно перевернул его и надел огромный белый кусок крема на голову Маммонне. Люди в зале выдохнули, застыв в оцепенении, мертвая тишина повисла в просторном помещении. Люди не знали, что им делать. Они хотели отвести глаза, сделать вид, что не видели, не заметили, хотели исчезнуть, раствориться.
– Что он хочет еще? – стучало в голове, – что? – и оглядел эту разодетую, пеструю толпу. А глаза старичка продолжали сверлить его и улыбаться. Старичок подбадривал его, он был с ним! Леонидов медленно снял с себя замазанный кремом пиджак, отшвырнув его в сторону, и полез на торт. Он хватался за его края, скользил, наконец, взгромоздившись на самую вершину, взял в руки лопату. И тут произошло невероятное. Маммонна наконец сняла с себя огромный кусок торта, голова ее куда-то исчезла, и теперь на всех смотрело незнакомое лицо то ли зверушки, то ли кого-то еще. Леонидов тем временем воткнул лопату в торт, поднял большой кусок крема и теста и метнул это угощение в толпу людей. Вой пронесся по залу, а он снова и снова копал торт и швырялся им по сторонам. Потом стащил надоевший галстук, снял грязную рубашку и отбросил в сторону. Он остался в одной майке. Майке Медильяне! А глаза старичка продолжали за ним следить. И улыбаться. «Сделай то, что ты хочешь! Не одевать, а раздевать!»
И тут пронзительный крик сорвался с губ Маммонны без головы:
– Ах ты, мерзкий пиарщик! Паразит! Ай да, молодец! А он мне нравится, ублюдок эдакий! Безобразник! Отпиарился, гаденыш, оторвался!?
Она тоже стащила с себя одежду из лоскутков, покрытых кремом, и перед изумленной публикой возник образ незнакомого человека. Мужчины! Похожего то ли на зверушку, то ли на человека из мультика. Человек-Мультик! Леонидов узнал его! Это снова он! Тысячи сережек блестели в ушах и ноздрях, все тело было покрыто татуировками, и он издавал радостные нечленораздельные звуки.
– Мультик! Тот самый!
А Мультик закричал: – Ну, что, засранцы, уставились, а ну, раззздевайййсь! Ну-ка быстро стряхивайте с себя грязное шмутье! Что смотрите – забыли, кто в доме хозяин? Быстррро!
А сам, раздевшись до нижнего белья, оказался в шортах и майке. Самой настоящей майке от настоящего Медильяне!
Люди в зале начали спешно раздеваться, стягивая с себя наряды – пиджаки и вечерние платья. Теперь они оставались в одних шортах и майках. А Мультик все продолжал кричать: – Ну, Леон…Идов, ну, пиарщик – сделал всех. Гений пиара! Умница! Вот это ЭКШЕН! Вот это КИТЧ!
Женщины, сбросив с себя наряды, остались почти безо всего. Под восхитительными платьями у них ничего и не было. И только белый крем скрывал их загорелые тела и пышные формы. Бомонд утопал в креме.
Человек-Мультик скакал рядом с Леонидовым. Он ловко запрыгнул на торт и тоже швырялся огромными кусками. На мгновение повернул лицо и бросил жестко, но беззлобно: – Поговорим ишшо, успеется, – снова обернулся к толпе и продолжил нечеловеческий танец. А рядом Леонидов увидел еще одного человека. Тот танцевал, кривлялся, строил дикие рожицы. Нет, не человека – Ангела. Своего доброго Ангела! Тот опять был рядом. Он находился на вершине торта, а Леонидов на самой вершине карьеры и славы, потому что выше подняться невозможно. Некуда. Сегодня его признала сама Маммонна – богиня основных инстинктов, богиня ЭКШЕН! Богиня мультика под названием – КИТЧ! Его Ангел был счастлив! Его добрый справедливый Ангел. Наконец, ему удалось все! Он сделал ЭТО!
41
Надоевший факс выплевывал ненужные бумаги, шуршал каретками и шестеренками. Никому не нужный факс бросался никчемными символами, знаками препинания, бессмысленными символами, которые отбирали жизнь и время, так нужное каждому и наполненное всякой ерундой. А где-то рядом находилось место, где звучала музыка, лежали книги, любимые кинофильмы. Та, другая комната, параллельный мир, где сознание уходило от привычной рутины, и разум позволял себе не мыслить, но чувствовать, существовать, растворяясь в другом параллельном пространстве и времени, где мысли были открыты для чего-то другого, чего-то большего. И у каждого это по-своему. Свой мир, комната, или мансарда в этом параллельном мире. Музыка или книги. У каждого они – со своими именами и значением. Страшно, когда нет такого места и этой комнаты. И тогда некуда деться от времени, этого факса, и самого себя. И поэтому остаешься по-прежнему там же и тем же и всегда один…
Потом неминуемо возвращаешься. Безжалостный звук или репортаж телевизора бросает тебя, уставшую душу и разум, швыряет о камни и разбивает то мимолетное, сокровенное, что ты так бережно создавал и хранил в своем маленьком мирке. Назойливая реклама расстреливает очередями суррогата из памперсов, гигиенических прокладок или таблеток для импотентов. Помойка новостей выплескивает содержимое на головы тех, кто смотрит, слушает, на тех, о ком говорится. И уже думаешь – а стоит ли возвращаться, находиться здесь и быть одним из них? Или быть самим собой? Но, где же ты есть, тот самый, который достоин быть?
За комнату эту тебе придется ответить. За то, о чем думал, читал и чувствовал. За то, что не соответствовал переписи переписанного населения. А судьи сидят сейчас в теплых домах, живут на деньги этих несчастных, тех, кто виновен и кто невиновен вовсе. Интересно, как они засыпают, судьи мира сего? Как спят, живут, умирают? Не создав ничего, но взяв на себя такую ответственность. Когда-то самим придется предстать и ответить, а время подходит. Но стоит ли думать о них и говорить?…
Что же – плясать под откровение мыслей своих или предаться забвению, покорности, рабству и не иметь того, что дала тебе комната, твой уголок, в сознании мыслей свободных, здравого смысла или полета фантазии, которая вечна и бесконечна; и уже не чувствуешь себя в стаде, которое стоит в очереди на бойню. А сколь велика та очередь – уже не думаешь вовсе.
Он тоже так думал. И совершал, и соответствовал. Выполнял и брал на себя. Насколько соответствовал – настолько брал. Он не хотел устремиться в преисподнюю или на Олимп. Просто жил, трудился, созидал. Или созерцал. Но, снова думал…
Все решено, определено и оценено, доказано и предопределено. Остается следовать и выполнять, идти по узкому коридору, толкаясь локтями и шеями. Больно ударяться, но снова идти. А в конце – конец! Тот самый, который прописан – и не поднять головы. Но если посмеешь – поднимешься, выйдешь из этой узкой стези. Тебя ожидает покорность и рабство уже совсем в другом коридоре и месте. И лучше соответствовать, чем преклонять колени свои и ждать. А времени остается так мало. Как много остается времени – если любишь и не боишься, просто идешь и чувствуешь, а там – будь, что будет. Так думал он…
В пределах пространства и времени в рамках того, что дано. Кем дано и почему это есть и существует? Не важно. В этих пределах разума и времени существует коридор, выход или исход, где дни удлиняются и жизнь становится другой. Открытой ко всему новому, совершенному и снова вспоминаешь ту комнату. А не выход ли находится за той дверью? А не спасение ли это души твоей, а значит тела, в котором ты пока живешь и мыслишь и чувствуешь? И существуешь…
В последнее время снился один и тот же сон. Полет на машине в горах или по дорогам в городах или ином пространстве. Трасса бесконечностью не дает покоя, тащит, зовет за собой. Не дает возможности расслабиться и отдохнуть, но останавливаешься, и хочется что-то сделать. Мучительное желание захватывает всецело, но не ясно – чего ты хочешь? Дверь закрыта. Хочется ее открыть и пройти дальше, чтобы понять, но незнакомый голос спрашивает:
– Действительно ли желаешь этого?
– Да, – отвечаешь ты.
– Сначала пойми, что тебе нужно там, зачем тебе это, а потом заходи.
И так по кругу. Ночь сменяет другая ночь, проходят дни, недели, месяцы, и снова закрытая дверь. Она манит неизвестностью, тем, что скрывается за ней. И ждешь вечера с надеждой, что, как во сне подойдешь, прикоснешься, может быть, откроешь. Потом долго не видишь ее, а суета не дает подойти поближе. Забываешь. Снова гонка, скорость и ветер в лицо. Но, стоит остановиться…
Может это не сон, а совсем другая реальность, в которую не можешь пока поверить, переступить. Не можешь, но уже так желаешь этого…
Дорога извивалась в горах замысловатым серпантином. Эта лента заасфальтированными зигзагами то поднималась, то скатывалась с высоты, огибая пропасти и ущелья. Она вычерчивала немыслимые узоры, лентой Мебиуса рисовала замкнутые восьмерки и фигуры не для езды, но для высшего пилотажа, которые смыкались, потом рвались на части, соединяясь, и снова звали тебя за собой вперед и ввысь, пронося сквозь этот горный массив. И только безупречное покрытие дороги и редкие знаки на обочине напоминали о человеке, цивилизации, плодах его труда, а вокруг нетронутые зеленые склоны, верхушки деревьев, мелькавшие за стеклами окон, и каждый взгляд, каждая картинка отпечатывала в памяти незабываемые кадры незнакомых склонов, ущелий, облаков на этом высоком небе, которое теперь было так близко и, казалось, что дорога вела, петляя, прямиком к нему. Хотелось запомнить каждое деревцо, каждый цветок на обочине и на склонах, познакомиться на лету с каждым из них, узнать имена, записать в книгу памяти, а потом, когда-нибудь, долго листать ее на досуге, вспоминая каждый листик на кронах деревьев, каждый камень в россыпях обвалившихся скал, этот полет или бег, или езду на такой высоте, в горах, под высоким небом.
Иногда восторг гонки сменялся ощущением полета. Но повороты один за другим возвращают тебя на землю, заставляя вращать руль, который спасает от пропасти, бездны и неизвестности. А может быть, лишают этого неба, хотя сейчас оно так близко, но так высоко, а ты пока на земле и должен крепко держаться за дорогу и руль.
Кому нужна эта скорость? Ветер сквозь лобовое стекло? Еще недавно там, внизу, он плелся по скучному тракту, обгоняя машины и города, заправки, оставляя позади запахи людей, бензина, еды, отходов цивилизации, но вот, поднялся и словно крылья выросли за капотом машины. И уже не хотелось ни думать, ни ползти, а лететь, огибая горы и пропасти, и только чувствовать.
Скорость! А не повод ли это забыться? Не думать, не вспоминать. Только небо над головой и неровный асфальт под колесами. Лететь! Но колеса разумно не дают споткнуться, цепко держат дорогу, а новая машина рассудительной безупречностью не сбросит тебя вниз, и вынесет, и доставит. Но поворот, и еще. А там глубокая пропасть. Теперь нужно по высокой террасе огибать зияющую пустоту. Снова поворот, и еще. А не разогнать ли тебе твою красавицу до безрассудного полета, оторвать ее шины он надоевшего асфальта, вспомнить, что за спиной есть крылья – точно есть! И сделать этот прыжок в никуда, в бездну, в неизвестность. Очнуться на другой стороне, или где-то еще и не считать больше надоевшие повороты и спуски…
Что это? Неужели скорость, которая теперь и есть – повод не думать до такой степени позабыть, что уже готов сделать этот прыжок? Просто сводит с ума машина, которую вчера, наконец, подарил себе, вытащил из скучного салона-магазина, надавил на педаль и отдался полету…
– Зачем тебе она?
– Хотел уехать от ее стояния и самого себя…
– Куда?
– В никуда!
– Почему?
– Некуда больше, да и незачем.
– Но, почему?
– Лучше не думать и мчаться, и давить на педаль, потому что стоит остановиться, задуматься… Просто нужно ехать и делать это, как можно быстрее…
42
Дорога резко оборвалась. Впереди темный склон и камни под колесами. Он бросил машину и теперь пробирался сквозь редкие кусты на вершину горы, освещенную ярким светом фар. Он не знал, где находился, куда шел, было только одно желание – наверх. Только не вниз. Свет становился более тусклым, но он продолжал свое восхождение. Наконец, небольшая площадка открылась перед глазами. Остановился, огляделся. Вдалеке торчали верхушки гор, холмов, все было в предрассветном тусклом тумане. И все-таки он смог разглядеть, что эти вершины не стояли на месте – они колыхались, становясь то выше, то ниже. Все было в каком-то сказочном движении. Там, в самом низу, горы заканчивались, спускаясь в бесконечную равнину моря. Они, то поднимаясь из воды, то исчезая на глубине, размеренно плыли. Каждая часть этого странного рельефа была независима. Все, не цепляясь друг за друга, было в постоянном движении, в свободном полете. Не было точки отсчета, не было координат, не за что было ухватиться взглядом и остановить мгновение. Взгляд следовал за бесконечным движением и не мог сфокусироваться.
Он посмотрел прямо перед собой. Неподалеку заметил человека. Человек был знаком ему. Он был для него той единственной точкой, которая никуда не перемещалась, не уходила, не двигалась с места…
Клейзмер стоял на широкой площадке на самой вершине горы. Его волосы и длинная борода развевались на легком ветру. Он стоял и смотрел вдаль. Он ждал, когда из-за высокой горы начнет появляться солнце. Он давно был один. Очень давно, и только горы, море, небо над головой, солнце, планеты, космос теперь были его собеседниками. Внезапно Клейзмер заметил человека и в ужасе отшатнулся:
– Нет-нет!.. Оставьте меня… Оставьте меня в покое…
Он хотел скрыться, но, поняв, что бежать некуда (только вниз, но туда он идти не хотел), произнес: – Я не даю интервью.
Незнакомец неожиданно ответил: – я тоже.
Клейзмер удивленно на него уставился: – Что «тоже»?
– Я тоже не даю интервью, – устало произнес незнакомец, замолчал, безучастно глядя вдаль, не обращая на него внимания. Теперь Клейзмер внимательно разглядывал этого человека. Потом перевел взгляд вдаль горного ландшафта, долго стоял так и смотрел, потом на футляр со скрипкой, который одиноко приткнулся у высокого серого камня и снова на него.







