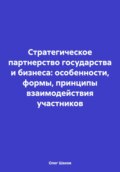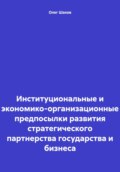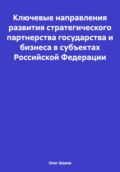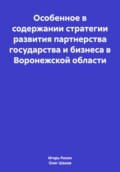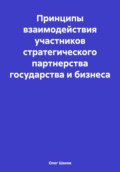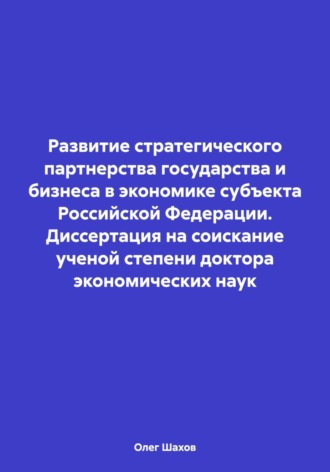
Олег Федорович Шахов
Развитие стратегического партнерства государства и бизнеса в экономике субъекта Российской Федерации. Диссертация на соискание ученой степени доктора экономических наук
В ходе проведенного в данной работе исследования и анализе зарубежного опыта реализации механизма ГЧП были сделаны следующие выводы:
1. Государственно-частные партнерства оправданы, когда частный бизнес не может реализовать проект, е получая дополнительный преференций, обычно недоступных по стандартным контрактам. Например, реализация проекта совместно с государством позволит сократить некоторые бюрократические процедуры, которые могут быть эффективно устранены заказчиком. В этом случае у частного сектора больше стимулов для участия в таком проекте, чем при стандартном аутсорсинге.
2. Приобретение репутации улучшает возможности получения долгосрочной прибыли и, таким образом, позволяет частным предприятиям нести некоторые краткосрочные убытки, которые можно будет возместить в будущем.
3. Гарантии государства, как партнера может открыть доступ к ранее недоступным источникам финансирования, особенно когда речь идет об инфраструктурных проектах, для которых финансирование Всемирного банка и ЕБРР доступно исключительно государственным заемщикам.
4. Совместное производство может повысить прозрачность деятельности партнеров, тем самым снизив затраты на аудит.
5. Отметим, что вышеуказанные преимущества во многом зависят от институциональной среды. Например, агентство по развитию ГЧП, аналогично Partnerships UK в Великобритании или Central PPP Policy Unit в Ирландии, позволит снизить начальные затраты совместного предприятия (частного бизнеса и государства). Наличие государственных гарантий по кредитам, выданным на реализацию проектов ГЧП, снижает затраты на финансирование. Упрощенные требования к отчетности сокращают затраты на проведение аудита.
6. Если существующая институциональная среда позволяет это (например, затраты на открытие бизнеса низкие, бюрократические препятствия минимальны, отчетность была упрощенный и ссуды доступны под низкие процентные ставки), то нет необходимости в специальном законодательстве, разрешающем ГЧП (или, точнее, в специальных положениях об институциональных среда для обеспечения выгод для ГЧП).
7. Анализ положительного и отрицательного опыта ГЧП обязательно должен учитывать институциональную среду, что, как представлено в отчете (EBRD (2012)) [356], что еще более важно для эффективности, чем само законодательство.
В следующей работе [297] рассмотрено государственно-частное партнерство (P3s) при реализации инфраструктурных проектов, основанных на частном финансировании. Такого рода проекты получили распространение во всем мире, в том числе, в США. Но их эффективность в настоящее время является спорной. Отметим, что проекты P3 в контексте ГЧП представляют собой соглашение между двумя и более государственными компаниями, и частным сектором, имеющие, как правило, долгосрочный характер.
В этой статье исследуется значение P3 для мировой экономики и причины успеха такого рода взаимодействия, а также рассматриваются различные интерпретации того и другого. В нем предлагается новая концептуальная модель феномена P3, включающая несколько уровней. Подробное описание настоящей модели будет приведено ниже. Сама концепция реализации проектов ГЧП P3 включает в себя следующие пять составляющих элементов:
1. выбор конкретного инфраструктурного проекта или определение вида деятельности;
2. выбор организационной формы, механизма реализации проекта или инструмента управления;
3. определение роли частного сектора при реализации проекта;
4. инструмент или стиль в современные управления;
5. возможность учета исторических и культурных особенностей при реализации проекта.
В свою очередь, целью настоящей работы является исследование эффективности реализации проектов P3. Для оценки эффективности реализации такого рода проектов ГЧП приведены следующие факторы:
1. Факторы, связанные с реализацией проектов и соотношением цены – качества при их реализации.
2. Факторы, связанные с политическим и управленческим потенциалом реализации проекта.
В данной работе акцент делается на интересы государства при реализации проектов Р3. Представленная концепция признает политическую природу P3, и представляет собой фундаментальный вызов традиционным проектно-ориентированным концепциям P3. Рассмотрим предложенную в рамках настоящей работы концепцию долгосрочного партнерства по инфраструктурным контрактам (LTIC). LTIC P3 обычно строится на основе модели, включающей в себя проектирование, финансирование, строительство, владение, эксплуатацию, передачу прав и возможности финансирования частного сектора и управления проектами частного сектора. Само понятие государственно-частного партнерства претерпело значительные изменения в связи с развитием городов и изменением роли США в мировой экономике 1960-х годов (Bovaird, 2010) [287]. Однако эффективность концепции Р3 в настоящее время остается спорной с точки зрения политологии, государственной политики и управления.
В рамках реализации проектов Р3 приведены следующие классификации по целям, классифицируемых, в свою очередь, как реальные и предполагаемые:
1. Финансовые:
• позволяет обеспечить наиболее благоприятные условия для налогоплательщиков;
• снижает нагрузку на бюджет для государственного сектора.
2. Вопросы реализации проекта:
• регламентирует порядок поступления средств на реализацию проекта;
• обеспечивает контроль исполнения бюджета.
3. Культурные изменения:
• учитывает культурные особенности при совершении финансовых операций.
4. Политические:
• поощряет использование инновационных инструментов финансовой политики со стороны государственного сектора при реализации проекта;
• субсидирует бизнес в сложных рыночных условиях;
• повышает политическую обоснованность введения различных налогов и сборов;
• обеспечивает управление рисками инфраструктурных проектов без вмешательства государства;
• обеспечивает безотказный подход к реализации проектов общественной инфраструктуры через использование частных контрактов.
5. Правительственные:
• символизирует прогрессивное правительство и оптимизирует использование рынков и потенциал частного сектора;
• помогает включить вопросы инфраструктуры в повестку дня государственной политики;
• повышает доверие к бизнесу и финансовому рынку.
6. Экономические:
• повышает уровень экономического развития страны;
• увеличивает экспортные поставки услуг P3 за границу;
• поощряет развитие строительного и финансового сектора P3;
• позволяет покрыть затраты на инфраструктуру в течение всего жизненного цикла.
Таким образом, в данной работе авторами получены следующие выводы:
1. Существует ряд различных концепций реализации инфраструктурных проектов в рамках механизма ГЧП вида P3, и, как следствие, существуют разные способы оценки их эффективности.
2. Авторами настоящей работы была выявлена значимость Р3 на пяти уровнях, что подтвердило масштаб реализации данного механизма в части выбора инструмента управления.
3. Была подтверждена значимость P3, как политического инструмента управления.
Завершает настоящий обзор литературы исследование, выполненное ночным коллективом ученых Университета Сорбонна и Римского университета Тор Вергата [306]. В контексте данного исследования государственно-частное партнерство (ГЧП) – это долгосрочные договорные соглашения между государством и частным сектором, целью которых является совершенствование государственной инфраструктуры и сферы услуг. По мнению авторов настоящей работы, из-за бюджетных ограничений и возобновившегося интереса к более широкому участию частного сектора в предоставлении государственных услуг, внедрение ГЧП в ближайшем будущем, получит распространение, в том числе в период после пандемии. Отметим, что период написания представленной статьи характеризовался относительно спокойным состоянием мировой экономики и динамики мировых товарных рынков, поэтому данный период можно сравнить с постпандемийным, когда экономика перейдет в стадию относительной стабилизации, что возможно после массовой вакцинации (более 70 % населения исследуемого региона).
В данной статье рассмотрена экономическая теория и европейская практика ГЧП, учитывая то, каким образом механизм ГЧП может способствовать улучшению качества государственных услуг и сокращению затрат на них, а также выделяет ряд факторов, которые могут привести к снижению производительности.
Отметим, что значительная часть инвестиций в инфраструктуру – это государственные инвестиции. Однако из-за бюджета ограничений, частные инвестиции мобилизуются через государственно-частное партнерство (ГЧП). Государственно-частное партнерство (ГЧП) представляет собой долгосрочные договорные соглашения между государственного и частного сектора и способствует развитию общественной инфраструктуры и услуг с использованием ресурсов частного сектора. Можно ожидать увеличения развертывания ГЧП в Европе из-за двух основных факторов. Во–первых, ужесточение бюджетных ограничений в государствах-членах ЕС повысило интерес к частному финансированию государственной инфраструктуры, что, при определенных условиях, позволяют использовать ресурсы частного сектора для создания «забалансовой» инфраструктуры. Во–вторых, возобновился интерес к более широкому вовлечению частного сектора в оказание государственных услуг, что является частью общей тенденции к сокращению роли государства в экономике. Данный интерес обусловлен соображениями эффективности: государственно-частное партнерство часто рассматривается как способ стимулирования конкуренции и концентрации роли правительств в качестве надзорных органов, а не провайдеров инфраструктурных проектов.
Кроме того, обоснование использования ГЧП заключается в стимулирующем эффекте, создаваемом объединением проектирования, строительства, эксплуатации и финансирования инфраструктуры в один контракт с консорциумом фирм, которые призваны передавать операционный риск консорциуму. Однако на практике операционный риск часто не передается надлежащим образом. Имеет место некомпетентность или трудности заключения контрактов, связанные с транзакционными издержками, обеспечение монопольных условий государственным компаниям, а также взимание арендной платы подрядчиками ГЧП. В связи с обозначенными факторами ГЧП не является единственно спасительным инструментом реализации сотрудничества. Теоретические разработки, а также эмпирические исследования помогают выделить случаи, когда можно ожидать эффективности обозначенного механизма.
В дополнение к прямому государственному управлению, когда государство полностью контролирует инвестиции и регламентирует предоставление государственных услуг, в основном доступны три инструмента, регулирующих договорные соглашения с частными подрядчиками: концессионные контракты, соглашения на основе ГЧП и традиционные закупки. Только первые два обычно рассматривается как ГЧП.
В свою очередь, авторы настоящей работы предлагают следующую классификацию контрактов ГЧП:
• автономные в финансовом отношении проекты, такие как концессионные контракты, где основным источником дохода со стороны частного сектора являются сборы с участников этого соглашения;
• операционная частная финансовая инициатива (PFI) – проекты или контракты о доступности, в которых сторона частного сектора в основном продает свои услуги, следует понимать как рыночные риски, которые могут включать в себя либо риск спроса, либо риск предложения, либо риск спроса и предложения.
В рамках данной статьи выделяют следующие характеристики ГЧП:
1. Взаимосвязь решаемых задач между собой.
2. Порядок передачи риска.
3. Контракты заключаются на долгосрочный период.
4. Наличие частных источников финансирования.
Рассмотрим понимание авторами настоящей работы каждой из обозначенных характеристик более подробно.
1. Взаимосвязь решаемых задач между собой. Данный раздел следует понимать с той точки зрения, что ГЧП обычно включает объединение этапов проектирования, строительства, порядка финансирования и эксплуатации объекта, которые передаются консорциуму частных фирм. Консорциум, в свою очередь, включает в себя строительную компанию и компанию по управлению объектом. Консорциум может работать как временное совместное предприятие, а также может быть создана единая целевая организация, так называемая, компания специального назначения, преимущественными целями создания которой являются реализация и обслуживание определенного проекта (SPV), предназначенная для управления различными этапами проекта и распределения рисков между сторонами SPV. Отметим, что создание SPV обходится сравнительно дорого, в связи с чем они создаются только для реализации крупных проектов.
2. Порядок передачи риска. Методология формирования ГЧП предусматривает, что риски проектирования, строительства и эксплуатации в значительной степени передаются частному сектору с целью поиска оптимального компромисса между предоставлением определенных преференций и премии за риск.
3. Долгосрочные контракты. Контракт ГЧП – это долгосрочный контракт. Срок действия контракта сочетается с уровнем тарифных ставок, а также с обязательными отчислениями государству, что позволяет определить прибыль подрядчика. Обозначенные меры должны гарантировать, что проект будет «приемлемым для банков», который сможет покрыть первоначальные инвестиции подрядчика или будет социально приемлемым для обоснования платежей, поступающих из государственных источников финансирования.
4. Наличие частных источников финансирования. Частный сектор финансирует проект за счет собственного капитала или заемных средств, а затем возмещает свои расходы либо напрямую от потребителей производимой продукции, либо от государства в форме теневых цен. В частности, когда государство является основным покупателем услуг, теневые сборы, уплачиваемые государством (т. е. платежи за пользование услугой, связанные со спросом на услуги) или платежи за услуги, оказываемые государством в соответствии с контрактами и с учётом их доступности, которые не зависят от реализованного спроса и могут быть оказаны только при наличии должного уровня развития инфраструктуры в соответствии с согласованными стандартами качества, используются для компенсации подрядчику. Правительство также может вносить прямой вклад в расходы по проекту. Этот вклад может быть представлен в форме акционерного капитала, ссуды или субсидии. Для крупного проекта финансирование ГЧП предоставляется через SPV. Финансирование инвестора направляется в SPV, который заключает контракт с организацией-заказчиком.
Существуют различные типы ГЧП. Во-первых, существует традиционный контракт BOT (контракт на строительство-эксплуатациюпередачу (BOT)): в контракте BOT сторона частного сектора берет на себя ответственность за строительство (B), эксплуатацию и управление (O) активами. Объединение этих видов деятельности призвано стимулировать частный сектор к учету затрат на эксплуатацию актива не только на этапе эксплуатации, но и на ранних этапах строительства. В контракте BOT инвестиции в основной капитал осуществляются со стороны частного сектора, но они финансируются со стороны государства, которая сохраняет за собой несение финансовых рисков. По истечении срока действия контракта право собственности на активы передается (T) государственному сектору в соответствии с условиями первоначального соглашения, если не будет предоставлено продление сроков действия контракта.
Следующей формой контракта является DBFO (контракт на проектирование-строительство-финансирование-эксплуатацию): в контракте DBFO со стороны частного сектора (обычно консорциума фирм) представлены все этапы проекта по предоставлению общественных услуг. Этот контракт ГЧП включает в себя проектирование (D), строительство (B), финансирование (F) и эксплуатацию (O) проекта.
Выделяют следующие проблемы реализации проектов ГЧП:
1. контрактное моделирование;
2. характеристики целевого сектора и структуры рынка; степень макроэкономической нестабильности страны или региона;
3. нормативно-правовая и институциональная база страны.
Экономическая теория предполагает, что при наличии положительных внешних эффектов, проблем с асимметричной информацией и отсутствием возможности снижения показателей качества контракты ГЧП могут привести к развитию инфраструктуры и сферы услуг, а также к снижению совокупных затрат населения страны. Однако успех проекта ГЧП на практике в решающей степени зависит от того, будут ли тендеры и контракты разработаны и реализованы оптимальным образом с точки зрения экономической теории, и это институциональный фактор, который меняется в страновом разрезе в зависимости от уровня компетентности государственного сектора.
В этом отношении Новая европейская директива о концессиях вносит значительный вклад в заключение контрактов для ГЧП. Согласно данной директиве, контракты ГЧП передают операционный риск подрядчику, что часто не реализуется на практике. Тем не менее, будет ли эта норма влиять на реализацию механизма ГЧП – это то, что мы сможем оценивать только после переноса Директив в национальные законы и их приложения. В целом, в предстоящие годы роль ГЧП в развитии общественной инфраструктуры и сферы услуг будет возрастать, даже если придется проявлять крайнюю осторожность в отношении их практического применения.
Таким образом, академические круги и политики должны способствовать более широкому обмену информацией между администрацией и практиками, использующими типовые тендеры (стандартизированные тендеры) и типовые контракты (стандартизированные) для улучшения качества организации тендеров и заключения контрактов с администрацией.
Анализ теоретического задела, имеющегося в этой предметной области у российских ученых, свидетельствует о том, что сфера реализации интереса исследователей к определению этого механизма всегда ограничена определенной формой стратегического партнерства. При этом подавляющее большинство публикаций сфокусировано на партнерстве, имеющем чисто инвестиционный характер, – государственно-частном партнерстве (ГЧП).
Отметим и другой момент – сопоставление различных точек зрения существенно затруднено в силу отсутствия единства в трактовке самого понятия «механизм партнерства». Для подтверждения такого вывода приведем ряд примеров.
Так, в фундаментальной работе, посвященной государственно-частному партнерству в научно-инновационной сфере, выделены четыре основных механизма формирования и реализации ГЧП:
1) конкурентный отбор тематики проектов и участников;
2) оптимальное финансирование;
3) эффективная организация и менеджмент;
4) жесткая оценка результативности выполненного проекта [62].
По нашему мнению, этот перечень составлен с использованием разных оснований для выделения предложенных механизмов. В одном случае таким основанием является задача (отбор тематики научных проектов, финансирование), в другом – функция управления (оценка результативности проекта как составляющая функции контроля), в третьем – система управления (менеджмент).
А.А. Алпатов, А.В. Пушкин и Р.М. Джапаридзе в качестве разных механизмов ГЧП рассматривают особые экономические зоны, инвестиционные фонды и программы, концессионные соглашения [40].
Как видно, названными авторами механизм ГЧП интерпретируется как конкретный инструмент, совместно используемый органами власти и бизнесом для решения тех или иных задач.
Аналогичной позиции придерживаются и другие исследователи, предлагая в качестве механизмов государственно-частного партнерства его различные инструменты.
Так, например, Э.В. Адамов, в составе таких инструментов выделяет сервисные контракты, управляющие контракты, аренду, концессионные соглашения [39].
На наш взгляд, приведенные точки зрения существенно упрощают представление о механизме взаимодействия государства и бизнеса, который в силу действия объективных причин (наличие субъектов, имеющих особенные интересы, существование разных сфер использования партнерства, разнообразие целей и задач, достижение которых он призван обеспечить, и др.) не может не быть сложным.
А.С. Колосов, раскрывая структуру механизма государственно-частного партнерства, выделяет в качестве ее элементов субъекты, типы отношений между ними (конкуренции и координации), объекты, инструменты субъектно-объектного взаимодействия, способы взаимодействия партнеров [90].
Как видно, эта позиция принципиально отличается от вышеприведенных, поскольку предназначение искомого механизма автор связывает с обеспечением, во-первых, взаимодействия партнеров (сделан акцент на отношения и способы такого взаимодействия), во-вторых, воздействия, которое осуществляют партнеры совместно либо раздельно на объекты (субъектно-объектное взаимодействие), использование которых востребовано в деятельности партнерства.
Полагаем, что такое различение сфер действия механизма государственно-частного партнерства является обоснованным, поскольку воздействие субъектов на объекты становится возможным при организации и координации их совместной деятельности.
Анализируя форму стратегического партнерства власти и бизнеса, призванную содействовать пространственному развитию экономики (в данном случае – посредством ее кластеризации), исследователи определяют механизм партнерства как совокупность форм, методов и инструментов, посредством которых органы власти совместно с менеджментом организаций способны обеспечить эффективную разработку и реализацию кластерных инициатив [149].
В этой трактовке заслуживают внимания, во-первых, различение процессов разработки и реализации проектов партнерства, во-вторых, разнообразие элементов механизма партнерства, в качестве которых выступают формы, методы и инструменты, совместно используемые государством и бизнесом. Другое дело, что способы (формы, методы) и приемы (инструменты) воздействия субъектов на объекты, хотя и являются компонентом механизма взаимодействия государства и бизнеса, не исчерпывают необходимого и достаточного состава его элементов.
Обосновывая структуру механизма взаимодействия государства и бизнеса в сфере стратегического планирования регионального социально-экономического развития, Х.А. Константиниди определяет в качестве его «ядра» цели развития региона и формы отношений между субъектами [94].
На наш взгляд, цели, на достижение которых ориентированы партнеры, выступают в качестве важного системообразующего начала партнерства, являясь для его механизма внешним детерминантом, определяющим, в первую очередь, состав способов и инструментов, необходимых для достижения поставленных целей.
Обратимся к точкам зрения исследователей, рассматривающих механизм взаимодействия государства и бизнеса в более широком предметном поле.
Так, Н.П. Золотарев, анализируя межрегиональное взаимодействие в инновационной сфере, трактует его механизм как определенным образом «настроенное» взаимодействие отдельных элементов, обеспечивающее разрешение ряда проблем, для которого (разрешения) данное взаимодействие и предназначено изначально [77].
В последующем тексте он раскрывает структуру этого механизма, выделяя в качестве его составляющих: цели взаимодействия; принципы взаимодействия; методы взаимодействия, к которым он относит планирование, организацию, выполнение, контроль; субъекты и объекты взаимодействия; рычаги воздействия, к которым отнесены: бюджетное финансирование, субсидирование хозяйствующих субъектов, финансовая и организационная поддержка малого и среднего бизнеса и др. [77].
Относительно принципов взаимодействия, указанных Н.П. Золотаревым в качестве составляющей механизма, заметим, что они формируют «свод» правил, на которых строится организация взаимодействия партнеров, в том числе, и механизм, ее обеспечивающий. Поэтому принципы являются не составляющей механизма, а одним из его детерминантов.
Полагаем также, что указанный автор смешивает понятия «метод» и «функция» управления. Если первое означает способ воздействия, то второе фиксирует определенный вид управленческой деятельности (планирование, организация, контроль), участниками которого становятся (в рамках закрепленных за ними полномочий) государство и бизнес.
Что касается такого элемента, как «рычаг» воздействия, то в данном случае автор понимает его как инструмент, посредством которого государство стимулирует деятельность своего партнера.
Другое дело, что инструментарий как элемент структуры механизма не сводится только к приемам, используемым государством. Он – сложнее, поскольку включает приемы, оказывающиеся в сфере действия бизнеса.
Включение в состав механизма взаимодействия государства и бизнеса таких элементов, как цели и принципы, предлагают и другие исследователи.
Так, Н.В. Невейкина, обосновывая структуру механизма управления устойчивым развитием региона, субъектами которого, по ее мнению, являются власть, бизнес и общество, определяет в качестве компонентов названного механизма цели, функциональные блоки («целеполагание», «регулирование», «стимулирование», «контроль»), принципы управления [124].
Заметим, что выделенные ею функциональные блоки являются ничем иным, как функциями управления, т. е. определенными видами деятельности. Полагаем, что указанный автор смешивает разные аспекты исследования механизма – его структуру и процессы. Очевидно, что формирование структуры механизма предшествует его функционированию. Состав функций определяет спектр сфер действия этого механизма, включая плановую, организационную, контрольную.
И.Б. Тесленко предлагает следующий состав и предназначение элементов эффективного механизма взаимодействия государства и бизнеса:
– институциональная составляющая предполагает развитие нормативной базы, стимулирующей межсекторное партнерство и обеспечивающей развитие секторов;
– экономическая составляющая предполагает защиту собственности, создание реальных условий для свободной деятельности, повышение уровня жизни населения, сокращение социальной дифференциации, разработку эффективных механизмов осуществления социального инвестирования и распределения финансовых ресурсов, закрепление рыночных отношений в сфере социального партнерства, учет затрат и выгод при реализации социального инвестирования;
– организационная составляющая нацелена на стимулирование развития инфраструктуры всех секторов, обеспечение координации взаимодействия участников партнерства, создание структур взаимодействия участников;
– финансовая составляющая предполагает развитие механизмов взаимодействия секторов, используя такие технологии, как государственный социальный заказ, социальное обслуживание, государственное социальное спонсорство, прямое государственное финансирование, софинансирование, лоббирование, льготное налогообложение;
– информационная составляющая обеспечивает прозрачность информации о состоянии некоммерческого сектора, развитии рынка социального инвестирования, грантополучателях и спонсорах, межсекторных инициативах;
– духовно-психологическая составляющая направлена на усиление нравственных критериев в осуществлении реформ, уважение к закону и принятым социальным нормам [199].
Оценивая приведенную позицию, отметим ряд моментов.
1. К ее сильным сторонам следует отнести разнообразие элементов, формирующих структуру механизма взаимодействия государства и бизнеса.
2. Слабыми сторонами являются неполнота и неточность в трактовке предложенных составляющих указанного механизма. В связи с этим обратим внимание на ряд моментов.
Во-первых, институциональная составляющая не может быть сведена только к развитию нормативной базы, стимулирующей партнерство. На самом деле, она имеет более широкую сферу действия, охватывая и процесс формирования партнерства (договор, соглашение между участниками, определяющими их права, обязанности, ответственность), и его функционирование (порядок принятия решений по вопросам стратегического значения, порядок инвестирования, распределения доходов и др.).
Во-вторых, экономическая составляющая не сводится только к результатам и эффектам деятельности партнерства (повышение уровня жизни населения, сокращение социальной дифференциации, учет затрат и выгод). Ее предназначение состоит в организации процесса мобилизации и эффективного совместного использования ресурсов, доведения результатов партнерства до конечных потребителей общественных и частных благ.
В-третьих, организационная составляющая не нацелена на параметры, объявленные названным автором, а обеспечивает их формирование. Другое дело, что спектр этих параметров намного шире, чем предложен И.Б. Тесленко. Он включает не только координацию взаимодействия участников партнерства, формирование его структуры, но и стимулирование участников, создание системы мониторинга процесса, результатов и эффектов партнерства.
В-четвертых, автор не раскрывает сути финансовой составляющей, ограничиваясь тем, что она предполагает (использование государственного заказа, прямого государственного финансирования, софинансирования и др.). Полагаем, что инструменты финансового обеспечения деятельности партнерства даны в явно фрагментарном виде, поскольку автор рассматривает только социальное партнерство.
В-пятых, в характеристике информационной составляющей И.Б. Тесленко делает акцент только на информационную прозрачность, не фиксируя состав инструментов реализации названной составляющей.
Заслуживает внимания позиция Л.М. Никитиной, которая определяет состав механизма управления корпоративной социальной ответственностью, включая в него: субъектов (бизнес, государство, гражданское общество), инстанции и адресаты ответственности, институты, обеспечивающие согласование действий субъектов, связи между элементами, объекты, ценности, стратегии взаимодействия субъектов, стимулы и мотивы, принципы [128].
В числе достоинств приведенной позиции – обоснование многоэлементной структуры названного механизма, включение в нее не только самих элементов, но и связей между ними.
Отметим и присущий этой позиции недостаток – соединение объективного и субъективного в структурной композиции исследуемого механизма.
По нашему мнению, мотивы, ценности субъектов являются не элементами такого механизма, а факторами, влияющими на содержание отношений между субъектами по поводу постановки целей, выбора средств их достижения, оценки полученных результатов.
В формировании адекватного представления о механизме взаимодействия государства и бизнеса полезной, по нашему мнению, является позиция, обоснованная В.А. Слеповым, В.К. Бурлачковым и К.В. Ордовым, в соответствии с которой всякий экономический механизм характеризуют:
– объективность, т. е. функционирование на основе реальных экономических процессов;