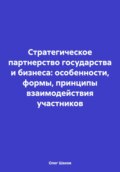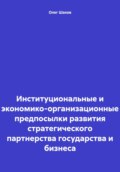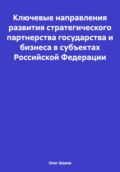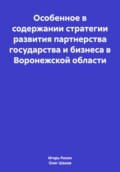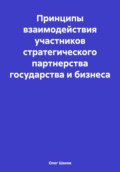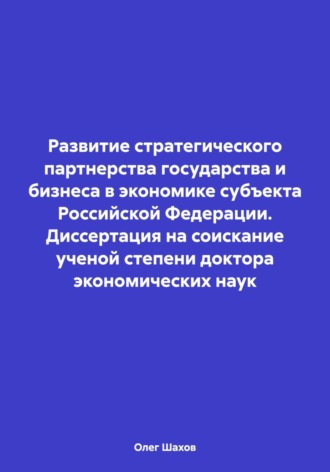
Олег Федорович Шахов
Развитие стратегического партнерства государства и бизнеса в экономике субъекта Российской Федерации. Диссертация на соискание ученой степени доктора экономических наук
Глава 3. Разработка концепции развития стратегического партнерства государства и бизнеса
3.1 Достижения зарубежного опыта стратегического партнерства государства и бизнеса
Разработка концепции развития стратегического партнерства государства и бизнеса включает решение комплекса задач. Одна из них – осуществление сравнительного анализа опыта зарубежных стран для выбора его достижений, которые могут быть использованы в российской практике.[41] Сфокусируем внимание на основных достижениях зарубежной практики, связанной с участием государства и бизнеса в стратегическом планировании. Заметим, что уже в 70-е годы ХХ века в Канаде, США, развитых европейских странах начинают отрабатываться технологии стратегического планирования развития территорий [193].
Исследователи зарубежного опыта стратегического планирования развития территорий фокусируют внимание на его базовых характеристиках:
– главной задачей такого планирования является снижение неопределенности будущего, что достигается путем обсуждения, согласования действий заинтересованных участников. Поэтому востребованным становится конструктивный диалог бизнеса, власти и общества;
– стратегический план необходим как органам власти, так и хозяйствующим субъектам, принимающим решения о своем развитии на перспективу и выдвигающим долгосрочные проекты [193].
И. Брайсон и У. Роринг к отличительным характеристикам стратегического планирования относят учет мнений широкого и разнообразного круга стейкхолдеров [282].
М. Сизонс обоснованно отмечает, что если стейкхолдеры вовлечены в цикл разработки стратегического планирования на его ранних стадиях, то велика вероятность поддержки ими ключевых проектов стратегического плана. Важно также их участие в оценке современного состояния внешней среды и в выборе реалистичных стратегических проектов. Как видно, названы значимые и сложные задачи такого планирования, в решении которых востребовано взаимодействие государства и бизнеса [193].
Другой вариант участия бизнеса в стратегическом планировании апробирован в Финляндии. Так, в метрополии Хельсинки (Финляндия) действует компания, реализующая государственную программу создания экспертных центров и проекты развития инновационного окружения в регионе. Ее учредителями выступают города Хельсинки, Эспоо и Вантаа, университеты и другие вузы, исследовательские центры, коммерческие предприятия и финансовые учреждения региона [342].
Таким образом, можно констатировать, что в зарубежной практике существуют разные варианты институционального статуса организаций, основной деятельностью которых является стратегическое планирование территориального развития.
Тем не менее существует и общее в этой практике: эта организация не входит в структуру органов исполнительной власти, последние выступают, наряду с бизнесом, ее учредителями.
Другую общую характеристику таких структур называет И.Е. Рисин, акцентируя внимание на профессионализации деятельности по стратегическому планированию территориального развития [183].
В характеристике процесса развития стратегического партнерства государства и бизнеса определенный интерес представляет разработанная Национальной ассоциацией губернаторов США (NGA) стратегическая инициатива «Инновационная Америка» (2007 г.), нацеленная на усиление конкурентоспособности страны в глобальной экономике на основе повышения способности ее регионов к инновациям. Оценивая эту инициативу, исследователи фиксируют ряд моментов, значимых для разработки новых стратегий развития территорий:
а) состав стратегических направлений, по которым должны работать региональные власти, должны включать: формирование у предприятий стимулов для развития, основанных на принципах инновационной экономики; соинвестирование в инфраструктуру инноваций; соинвестирование в сферу подготовки кадров и повышения квалификации работников; поддержка промышленных кластеров; снижение затрат бизнеса без снижения уровня жизни; помощь в повышении производительности;
б) состав показателей, отражающих значимые параметры «новой экономики», в числе которых: занятость в сфере IT; занятость в производящих секторах с высокой добавленной стоимостью; занятость в секторе высокооплачиваемых межрегиональных услуг; размер иностранных прямых инвестиций; количество быстро растущих компаний («газелей»); количество предпринимателей, организующих новое производство; процент населения, пользующегося Интернетом; информационные технологии в школах; использование региональными и местными властями IT для оказания услуг; степень использования Интернета и компьютеров фермерами; доступ населения и бизнеса к широкополосным телекоммуникациям; количество рабочих мест в высокотехнологичных отраслях; доля научных сотрудников и инженеров в общей численности занятых; количество выданных патентов; инвестиции в НИОКР [324].
Заметим, что спектр направлений, в которых предполагается взаимодействие государства и бизнеса в стратегическом планировании, не остается неизменным. Аналогично и система показателей, по которым осуществляется оценка регионального развития, подлежит обновлению, учитывающему новые задачи и ресурсы, необходимые для их эффективного решения.
В оценке европейского опыта стратегического планирования заслуживает внимания подход, впервые апробированный в Нидерландах, а ныне широко используемый в других европейских странах, отличительная черта которого – внедрение системы планирования по принципу «снизу-вверх» (“bottom-up”), т. е. от местного уровня до национального. При его использовании уже на начальной фазе, когда выявляются проблемы, обязательными условиями являются диалог и согласие всех сторон на участие в их решении [136].
Названная «сильная сторона» этого подхода, по нашему мнению, не исключает потерь, главная из которых – недостаточный учет местными сообществами совокупного потенциала социально-экономического развития, конкурентных преимуществ, которыми обладает регион в целом.
Отметим особо, что в зарубежной практике апробировано множество инструментов, обеспечивающих вовлечение населения в стратегическое планирование. В их числе: опрос жителей для определения современных ценностей и видения региона, муниципального образования в долгосрочной перспективе; разработка и поддержание специального интерактивного вебсайта для распространения информации о процессе стратегического планирования и общения с жителями через этот сайт; тематические дискуссии в режиме он-лайн; общение с представителями органов публичной власти в Интернете (чат); общественные презентации стратегии и программ ее реализации [102].
Резюмируя, можно утверждать, что зарубежная практика стратегического планирования отличается рядом позитивных моментов, которые необходимо принять во внимание при обосновании направлений и задач развития этого феномена в России. Полагаем, в связи с этим необходимо выделить следующие положительные стороны зарубежных подходов к стратегическому планированию:
– участие бизнеса в процессе стратегического планирования развития территорий, начиная с фазы целеполагания;
– создание организаций на принципах государственно-частного партнерства, которые профессионально занимаются стратегическим планированием;
– апробацию модели «сквозного» стратегического планирования, охватывающего местный и региональный уровни.
Сфокусируем внимание на основных достижениях современной зарубежной практики кластеризации социально-экономического пространства регионов, позиционированных в работах отечественных и иностранных авторов.
В оценке опыта США[42], связанного с разработкой и реализацией кластерных проектов, исследователи отмечают ряд значимых моментов, в числе которых целесообразно выделить следующие:
– организация при органах государственной власти ряда штатов комиссий по инициированию процессов создания кластеров, принимающих решение о выделении бюджетных средств для формирования их первоначального капитала [202];
– закрепление за бизнес-ассоциациями статуса субъекта реализации кластерной политики;
– использование механизма государственно-частного партнерства для содействия процессам интеграции бизнес-структур, вузов, НИИ в рамках кластеров.
Интерес представляют и последние инициативы в разработке и реализации кластерной политики, реализуемые органами государственной власти в этой стране. В числе наиболее значимых инициатив исследователи отмечают следующие:
а) постановка задач, предусматривающих:
– расширение информационных возможностей для привлечения новых участников в кластеры;
– осуществление налоговой политики, стимулирующей развитие кластеров;
– облегчение доступа участников кластерных формирований к венчурному капиталу;
б) использование офиса региональных властей в качестве площадки для организации встреч всех участников кластеров: лидеров частного сектора, государственных служащих, руководителей учреждений образования, неправительственных организаций; назначение специальных должностных лиц, которые будут курировать формирование кластеров, оценивать потребности их участников;
в) комплексное применение инструментов поддержки процессов развития кластеров, в числе которых: специальные налоговые кредиты на НИОКР; налоговые льготы, предоставляемые предприятиям за организацию обучения работников или создание высокооплачиваемых рабочих мест; прямые инвестиции штата; гранты для проведения НИР в университетах штатов и исследовательских центрах частного сектора; создание и деятельность крупных долгосрочных «инновационных» фондов, обслуживающих фирмы, входящие в кластеры; специализированные программы штатов, направленные на приведение систем образования в колледжах в соответствие со стратегиями экономического развития действующих на их территориях кластеров [324].
Как видно, развитие этой формы стратегического партнерства государства и бизнеса связывается с активизацией деятельности органов власти в процессах формирования кластеров, учитывающей потребности их участников, вводом новых инструментов реализации кластерной политики, расширяющих состав ее участников и развивающих между ними взаимовыгодные долгосрочные отношения (специальные налоговые кредиты для НИОКР; гранты для проведения НИР, инновационные фонды, специальные образовательные программы).
В характеристике опыта Японии заслуживают внимания следующие моменты:
– высокий уровень разнообразия инструментов стимулирования процессов разработки и реализации кластерных проектов (исключение из налогооблагаемых сумм затрат на НИОКР; государственные программы по снижению рисков и возмещению рисковых убытков; льготное кредитование и др.);
– разработка стратегических планов развития наукоемких отраслей экономики (космической, биотехнологической, компьютерной и др.), являющихся ключевыми сферами реализации кластерных проектов, поддерживаемых государством [343].
Давая обобщенную характеристику европейского опыта, связанного с разработкой и реализацией кластерных проектов, отметим ряд моментов.
1. Эволюция кластерной политики.
М.Дж. Энрайт выделяет кластерную политику первого поколения, представляющую собой комплекс мер по идентификации кластеров, созданию государственных органов их поддержки, реализации инвариантного состава инструментов стимулирования развития всех кластеров в стране. Отличительной характеристикой кластерной политики второго поколения, по его мнению, является дифференцированный подход государства к поддержке кластеров, учитывающий их особенности. Другая ее особенность – разнообразие ролей, которые может играть государство, выступая в качестве менеджера, заказчика, инициатора производственного процесса, брокера, сводящего производителя и потребителя внутри кластера, и источником финансирования для фирм, работающих в кластере [286].
2. Инновационная ориентированность современных кластеров [136].
Е. Кузенко обоснованно связывает устойчивое развитие кластеров с их стратегической ориентацией на инновации компаний и университетов, являющихся их участниками [100]. Широко распространенным является вариант, когда подобная направленность кластера обеспечивается тем, что организациями, формирующими его якорную структуру, выступают ведущие вузы и научно-исследовательские организации.
Н.В. Захарова акцентирует внимание на практике формирования инновационных кластеров в Италии, сосредоточенных в высокотехнологичных отраслях экономики. В качестве примера она приводит кластер высокотехнологичной продукции в г. Пиза (Тоскана), участниками которого являются три крупных университета (Университет Пизы, «Высшая школа», «Высшая школа Сант-Анна»), ряд государственных научно-исследовательских центров, дочерние фирмы. Такой состав, по ее мнению, позволил обеспечить большую часть исследований и разработок посредством кооперационных связей между предприятиями и университетами [74].
3. Высокий уровень разнообразия инструментов государственной поддержки кластеров, в числе которых выделяются: бюджетное финансирование наукоемких видов бизнеса; предоставление налоговых кредитов льготного налогообложения; создание фондов внедрения инноваций с учетом возможного коммерческого риска; бесплатные услуги патентных поверенных, освобождение от уплаты пошлин [149].
Резюмируя, можно утверждать, что зарубежная практика участия государства и бизнеса в процессах разработки и реализации кластерных проектов отличается рядом позитивных моментов, которые необходимо принять во внимание при обосновании направлений и задач развития этой формы стратегического партнерства государства и бизнеса в России. В их числе выделим следующие:
– индивидуализация подхода государства к кластеру, учитывающая его особенности, к которым относятся: наличие или отсутствие инновационного характера; функционирование в отраслях традиционной или «новой» экономики; рынки сбыта – национальный, не только национальный, но и мировой и др.;
– использование механизма государственно-частного партнерства для развития кооперационных связей между участниками кластеров;
– создание кластеров, «ядро» которых формируют высшие учебные заведения, научно-исследовательские институты;
– множество функций, которые государство может реализовывать в процессах кластеризации социально-экономического пространства регионов (инвестор, менеджер, заказчик продукции);
– высокий уровень разнообразия инструментов, посредством которых органы государственной власти и менеджмент бизнес-структур обеспечивают реализацию кластерных проектов.
Оценивая практику государственно-частного партнерства, сфокусируем внимание на следующих ее характеристиках.
1. Широкий спектр задач, в решении которых востребовано использование потенциала ГЧП. В их числе: стимулирование инновационной деятельности частного сектора; финансирование на долгосрочной основе фундаментальных исследований и исследований в области создания новых технологий; внедрение новых технологий; формирование трудовых ресурсов мирового класса, способных активно участвовать в быстро изменяющейся экономике, основанной на знаниях.
2. Разнообразие сфер реализации проектов ГЧП. Хотя отрасли производственной инфраструктуры практически во всех странах являются приоритетным объектом частных инвестиций, мобилизуемых и используемых в рамках такого партнерства, по числу проектов, например, в европейских странах, лидируют образование и здравоохранение, т. е. отрасли социальной инфраструктуры.
В связи с этим укажем, что, например, в Великобритании, являющейся пионером становления практики государственно-частного партнерства и лидером по его масштабам, за период с 1992 по 2012 г. было запущено 717 проектов ГЧП с общим объемом инвестиций, равным 54,7 млрд ф. ст. При этом число проектов ГЧП в образовании и здравоохранении составило 284 с объемом финансирования, равным 19,3 млрд ф. ст. Как видно, доля названных отраслей социальной инфраструктуры в общем числе проектов и объеме инвестиций составляет соответственно 39,6 и 35,3 %.
Для сравнения приведем данные по России. Так, по оценке ассоциации «Центр развития ГЧП» на начало 2017 г. в общем количестве проектов ГЧП доля социальной сферы составляла 11 %, а по объему инвестиций – 13,4 % [83].
Информация, представленная в обзоре европейского рынка ГЧП[43] в первом полугодии 2015 г., позволяет зафиксировать следующие позиции:
– здравоохранение – крупнейший сектор ГЧП по объему инвестиций (2,6 млрд евро);
– образование – самый активный сектор по количеству сделок и второй по величине (695 млн евро).
3. Разнообразие институциональных форм, посредством которых обеспечивается стратегическое партнерство государства и бизнеса. В их составе, например, в США, используются: государственно-частные кооперационные соглашения в области исследований и разработок; инновационно-технологические партнерства, обеспечивающие кооперационные связи между исследовательскими структурами университетов, федеральных ведомств, федеральных лабораторий, властями штатов и территорий, с одной стороны, и частного сектора промышленности, финансово-кредитных учреждений, с другой; исследовательские центры промышленности и университетов штатов.
4. Высокий уровень разнообразия инструментов, используемых органами государственной власти для стимулирования участия бизнеса в проектах ГЧП. Так, например, в США их перечень включает: налоговые стимулы (применяемые в организации процессов обучения и переподготовки кадров, распространения технологий и др.); льготное кредитование (инвесторы могут покрывать до 65 % инвестиций в основной капитал, срок выплаты кредита до 25 лет); создание за счет бюджетных средств объектов социальной и производственной инфраструктуры (водоснабжения, центров по подготовке кадров и др.) [96]; федеральная контрактная система, обеспечивающая размещение заказа государства на научно-технологическую продукцию и услуги [273].
В составе применяемых органами государственной власти инструментов можно выделить, в том числе следующие: налоговые льготы для научных исследований и экспериментальных разработок; ссуды; кредитные поручительства; субсидирование арендной платы; предоставление права на ускоренную амортизацию основного капитала; гранты на НИОКР и внедрение новейших технологий, предоставляемые федеральным фондом технологических партнерств частным компаниям на возвратной основе [191].
5. Создание специализированных организаций для оказания организационно-методической поддержки процессов разработки проектов ГЧП.
В связи с этим укажем на практику Великобритании, где для целей оказания помощи при реализации проектов государственно-частного партнерства создана специальная компания (Partnership UK), которая занимается стандартизацией контрактов ГЧП и участвует в разработке проектов. Эффективность ее деятельности подтверждена резким ростом числа и стоимости проектов ГЧП в стране, повышением их качества [143]. Заметим, что в других странах такую функцию реализуют центры компетенций, разрабатывающие стандарты и методическое обеспечение государственно-частного партнерства, их нормативно-правовую базу и выступающие в роли национальных операторов проектов ГЧП [62].
Резюмируя, можно утверждать, что зарубежная практика государственно-частного партнерства, изначально ориентированного на привлечение частных инвестиций в сферы ответственности государства, отличается рядом позитивных моментов, которые необходимо принять во внимание при обосновании направлений и задач развития такого партнерства в России.
Полагаем, в связи с этим заслуживающим повышенного внимания, существующий в развитых странах высокий уровень разнообразия:
– сфер реализации проектов государственно-частного партнерства, в составе которых отрасли производственной и социальной инфраструктуры;
– институциональных форм, посредством которых обеспечивается стратегическое партнерство государства и бизнеса;
– инструментов, используемых органами государственной власти для стимулирования участия бизнеса в проектах ГЧП.
Систематизация достижений зарубежной практики стратегического партнерства государства и бизнеса представлена на Рисунке 4.1.

Рисунок 4.1 – Достижения зарубежной практики стратегического партнерства государства и бизнеса
Таким образом, в рамках данного раздела настоящего исследования автором проведен анализ зарубежного опыта использования государственно – частно партнерства, а также выявлены основные достижения зарубежных стран в его реализации.