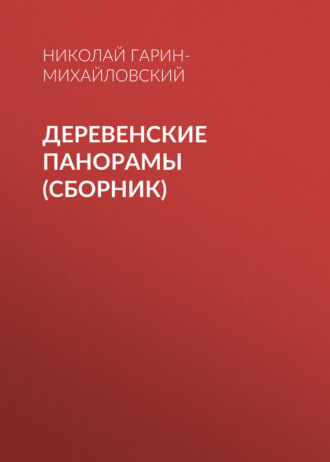
Николай Гарин-Михайловский
Деревенские панорамы (сборник)
IV. На селе
Деревенское начальство само же и запустило подать, а тут стукнули: дай да подай; вынь да положь. Черкасским, тем хорошо – машина у них – то же город: хлеб сорок семь копеек, на две копеечки всего против города дешевле, а из медвежьего угла у тебя-то и всего семьдесят верст, а сыпь Ивану Васильевичу по двадцать семь копеек. Там соль тридцать пять копеек, тут пятьдесят, там «карасин» две копейки фунт, тут пятак тот же Иван Васильевич рвет. Черкасский сто пудов хлеба смотал – в развязке с податью, а ты ее половину всего отдал.
А подать одна у всех. Этак сказать, за тех черкасских всю подать машина платит, те вон и назмить на досуге стали, а ты и поспевай за ними со своим одром, как знаешь. Так у машины и думка одна, а одра-то своего хоть на части рви.
Худо жить в медвежьем углу: работы выше горла, а в каждом деле рубль на полтину перебит, а то и на четвертак: продал дешево, купил дорого. А на землю опять цена повыше пригородной. Оно, конечно, было время, была земелька. Крепостными были, на хорошенькую земельку господа согнали народу. А тут воля пришла, а земля – только гляди на нее, – на большой надел много ли вышло? А и вышли – народу-то удвоилось, а то и утроилось – по десятинке на душу не выходит. А жить надо. Крестьянину, если не сеять, – чем заниматься? Покупать надо землю. А сунься-ка ее купить?! За старую на один хлеб десять – двенадцать рублей, а залежь восемнадцать – двадцать, залог все тридцать отдашь. Вот куда выскочило: навечно, как на волю шли, по пятнадцати рублей назначали, а сейчас сколько их по пятнадцати передал, а земля все не твоя. Так ведь было бы платить за что! Прямо сказать, отбилась земля: бывало, на плохой неисжатый хлеб стоит, а теперь с хорошей, если урвешь восемьдесят пудов – крестись двумя руками. А восемьдесят пудов во что станут? Земля двенадцать, пашня с бороньбой, кому не надо, – пять рублей, семена, вон, с осени двадцать пять – тридцать мотаешь, а весной семь гривен отдай, а их двенадцать пудов надо – восемь рублей сорок копеек. Жнитво в пяти рублях хоть обложить, снопы да молотьба – пять, вот тебе и тридцать пять рублей. Пуд самому сорок пять копеек встал – городская цена… Сыпь по двадцать семь копеек. И много работы, да вся на людей она, – мимо бежало, да в рот не попало… Эх, счастье черкасским! Свет открытый, купцы из города амбары понастроили, а к тебе в отрезанное место кто заглянет?
Кулаки да прасолы, – им найдено.
Как узнали, что подать сбирают, как коршуны, слетелись. Третью часть скотины угнали тогда из деревни. А скупали-то как? Первая лошадь в двадцати рублях шла, телка шесть – восемь… А сунься ее назад покупать – и все двадцать отдашь.
А на весну голод. Осенью за двадцать четыре копейки мотали, а тут девять гривен, к осени рубль двадцать копеек, зимой рубль семьдесят копеек. Тут пять податей заплатил бы тем же хлебом и сам сыт был бы, а теперь свой же хлеб за восьмерную цену покупай назад. А покупалок-то где взять? Иван Васильевич – вон полтора пуда за десятину жнитва дает, а люди летом по восемь – десять рублей гресть станут! Вот таким молотом-то со всех сторон как по загривку начнет хлопать – тут и выворачивайся, как знаешь.
Приехал тут один господин, – отчего плохо живете? Мы ему, как путному, по пальцам пересчитали.
Послушал, послушал:
– Неверно, машиной извоз подорвете…
И грех и смех. Мы-то, мужики, и то разобрались, ты ж ученый, мозги-то твои при тебе. Извоз?! Придет, конечно, извоз: ему же, Ивану Васильевичу, свой же хлеб повезешь за шесть копеек – четырнадцати копеек с пуду-то уж нет, а харч, а полом, а лошадь изведется, а дома дело кто править станет? Другой об назме толкует: тут на речку вывезти навоз время не урвешь – вези еще его за три версты в поле. Эхе-хе-хе! Толковать-то вас, не зная дела, много охотников, – вникнуть да разобраться только вот некому. Беда кругом: встало дело. Растет нужда в народе из года в год, точно хворь какая негодная. Кто недавно еще в достатке жил, вовсе на нет сошел, а безлошадных больше, чем в городе, стало.
Исаевых дом старинный был, первый дом, – одним годом на нет сошел.
Нелады давно у них шли. Семья большая: за стол 22 рта садилось. Нелады да нелады: ослаб старик, так маленько вроде того что отходить от дел стал; дал волю старшему сыну, а у старшего у самого детей с хозяйкой восемь человек. Младшим братьям обидно: без малого вся работа на него уходит. А праздник придет – старшей снохе да сестрам первая обнова. Младшим снохам опять обида: они за мужей, – братья друг с дружкой схватятся.
Дальше да больше.
– Мы что вас нанялись кормить? Девять ваших ртов, три сестры, двое отец с матерью… Весь год в работе, как каторжные, а что толку?
– Нас двое, – кричит Павел, средний брат, – у Авдея всего ребеночек, Тимофей в солдаты уйдет этой осенью: еще больше того на вас работай. Да еще Николай-то (большак), чем спасибо сказывать, власть забирает. Даве в поле-то при всем народе: «Я те вилами!..» Этак можно?
Николай, желтый, с выпученными напряженными глазами, только смотрит.
– А сам что при народе скандальничаешь?
– Кто скандальничает? Только и сказал, что мало ли вас тут найдется охотников на чужую работу.
– Ну так вот…
– Ну так что? и сейчас говорю… Пори меня вилами. Не хочу, вот те и сказ! Нас две головы: шутя проживем.
– Проживешь…
– Моя забота: одна голова не бедна, а бедна и одна. А праздник придет, пятака не выпросишь – себе чего удумают, а той – последний подарок: своей шаль, а этой и платка будет.
– Какая шаль, когда в одной цене она с платком?
– В одной цене, так себе платок возьми.
– В одной цене, – вставит Павлова жена и усмехнется.
– Ты чего еще тут? – накинется на нее старшая сноха. – Надо тебе братьев ссорить.
– А ты что? – загорится Павлова хозяйка. – До коих пор терпеть тебе?!
И пойдет! Ввяжутся другие, – в 22 рта, как примутся друг за дружку, так тут хоть святых выноси.
Старуха тихая, хорошая выйдет в сени, сложит накрест руки: господи ты боже мой, базар, настоящий базар! Люди идут, останавливаются – срам да грех один.
До драки дело дойдет: лезут друг на дружку, глаза повыпячивают, – все пучеглазые – точно им сам дьявол крови своей подбавил вдруг.
Сбились, запутались и об чем ни начнут, всё к тому же съедут. Не жизнь, а каторга, – одно с утра до вечера.
– Тьфу ты, пропасть какая! – отплевывался Николай.
Отплевывался, отплевывался; терпел, терпел и не в силу стало: пусть будет холод, пусть будет голод, да не слышать их проклятых глоток.
– Дели, отец!
Шутка сказать: дели. Пропадает семья.
Плачет старуха, дерет голову старик – все у него бывала повадка этак кверху головой – дери не дери, не уймешь больше: делить надо от греха.
Половина достатка ушло, а ртов две части осталось. И то бы стерпели, если б не подать сгрудили вкруте и случай не вышел такой: считали они недоимку на себе сто двадцать три рубля, а вышло сто восемьдесят семь рублей. А упомнишь как – народ неграмотный. Туда – сюда: Авдей – я не знаю, Павел – я не знаю. Так и ушел хлеб, а из скотины только лошаденка да корова остались. Смотрел, смотрел старик, как забирал кто куда его добро – лошадок да коровок, да овец – да так без памяти и повалился на землю.
С тех пор и навовсе ума решился. Ходит лохматый да страшный, ребятишек по селу пугает… То мелет чего-то такого, что и не поймешь, задумается, а то подскочит:
– А хочешь, я тебе лошаденок, коровок подарю?
С этакой-то оравой сам-одиннадцать и налетел Николай на голодный год. Думали так, этак, а тут все одно к одному так подошло… каждое дело ножом уперлось – ни взад, ни вперед…
Идет разговор о том, что кормить станут, а пока что – хоть землю грызи. Заглянул как-то к Николаю Михайло Филиппыч, староста церковный, – да так и обмер.
Уставились в него со всех концов избы одиннадцать голодных: дети да бабы… До конца дней не забыть… Лица темные, а глаза-то точно с другого света глядят. Сам-то, молодой хозяин, сидит на лавке ровно веселый да только ногами болтает.
– Ты что?
– Что… Вот хлеб не едят…
Смотрит Михайло Филиппыч, не поймет в чем дело: потупились все. Вздохнула старуха, взяла со стола ломоть, кажет, тихо, сама не в себе, говорит:
– Михайло Филиппыч, да ведь как же есть-то его?! горсточку одну всыпали муки, а это вот все полова – мякина, да солома… Нутро не принимает! О господи, смерть-то уж скорее бы приходила!..
– Ну так что смерть?! Вот прирежу горла, как курчатам…
Налился, выпятил глаза Николай, дрожит от злости… Сидят, ни живы, ни мертвы. Соскочил с печи старик, подбежал к Михаиле Филиппычу:
– А хочешь, я тебе лошаденок, коровок подарю?
Как закричит Николай:
– Брысь ты!
Опять назад на печку, взлез проворно и глядит оттуда из-за ребятишек: смекает точно что, словно забота какая донимает его.
– Что ты, что ты, господь с тобой? – говорит Михайло Филиппыч. – Ты что ж молчишь-то, сидишь сычом? Что не придешь?
Знает сам, что приходил к нему Николай, да уж так…
– Иди, дам, жив будешь – отдашь…
Не верит Николай. Смотрит в пол, сдвинул брови: господи, неужели его жалеть хотят?! Отпустило ровно что, заплакал даже. Вытирает слезы, размяк:
– Прости христа ради… Невмоготу… Руки на себя наложить хотел: нет силы… Сбирать пошел было, нешто на такую ораву соберешь?! Их услать? близко-то – и у людей нет, подальше – одежи нет… Вот оно, Михайло Филиппыч, как дело поворотилось – году нет… как жили… Думал ли…
Идет от Николая домой Михайло Филиппыч.
– Ах ты… Наказал людей своих господь… Вот оно…
Словно и совестно ему: знает он и сам, что ровно не крестьянским делом занимается, добро свое мотая, – так ведь чего станешь делать, – не может он отказать человеку, а тут еще год такой подошел… Другие вон могут терпеть, а как терпеть? Душа божья по два дня не евши…
А вот Андрей Калиныч у ворот сидит – мимо идти – эх, крепыш мужик:
– Какая нужда!.. – махнет рукой и слушать не хочет…
А всего-то: хозяйка да он… Денег не считано… Десять работников по зимам только держит: в степь гоняет – туда овес, а оттуда рыбу… Лопатами гребет деньгу, – а попадись ему только!.. Как говорится: лиха беда – сотню сбить, а там и пойдут приставать к куче; деньга деньгу любит, – только умей, да не мотай. И скуп! Куда копит? Хворый сам: рябой да желтый, волосики-то жидкие растреплются, шапку старинную от дедов высокую наденет, круглый год в валенках – все ногами жалуется – идет по селу: вся и цена ему ломаный грош… сунься-ка!.. вот люди говорят: в сотню тысяч не уберешь… Темное богатство: от дедов, – деды и на волю еще вышли… торг у них фальшивыми деньгами был – с того и жить пошли. Даром, что вот такой последний мужичонка с виду, а горд же да едкий… Рассердится, затрусится даже: дрожит, желтыми белками учнет водить. А другой раз заговорит – все присказками – и не поймешь, что к чему у него… умный мужик… власть большую имеет: ровно и дела ему нет ни до чего, а во всем, чуть что, к Андрею Калинычу… Мир без него и дела не сделает… так, словно овцы без козла.
Близко с Михайло Филиппычем и живет. Тут за ним же и Иван Васильевич лавку держит: весь переулок – всё люди с достатком – так и вытянулся по реке: ехать с той стороны, все шесть изб богатеев на виду. А за ним уж вся деревня – в два порядка потянулась, – один к выгону, а другой в гору, где лес. Те избы, что выше на гору поднялись, только и выглядывают и ровно стыдно им глядеть оттуда, растрепанным да гнилым, на пруд, на дорогу, на поля, на усадьбу барскую, что с садом да с зелеными крышами весело сбежала к пруду. Идет Михайло и думает: эх, смеются богатеи над ним за его доброту.
– Смеяться-то, конечно, не глядя, можно, а вот как своими-то глазами поглядишь… Даве Николай приходил, грешным делом и не поверил…
Сидит Андрей Калиныч на завалинке, смотрит на свои дрова, что тут же на улице сложены, ровно и не видит шабра. Снял шапку Михайло Филиппыч, поклонился.
Тряхнул головой Андрей Калиныч.
– Откуда бог несет?
Остановился Михайло Филиппович, почесал затылок, подошел к Андрею Калинычу и рассказывает про Николая.
– Вон ты все: какая нужда? А как своими глазами-то увидишь…
Оборвался Михайло Филиппыч, а у Андрея Калиныча словно лихорадка:
– Сжал мужик в ногтях блоху, говорит блоха: «Сила бы во мне – землю подняла бы…»
Замолчал, стиснул зубы Андрей Калиныч, смотрит, смеется стеклянными глазами.
– Гордо-о-сть! на вот тебе… Бог наказал, – «я в обиду не дам»!.. Гордо-о-сть… Тебя господь наказал, ты и терпи… а во мне против бога силы нет… Нет силы, нет…
Ерепенится Андрей Калиныч, елозит, костылем в снег тычет.
Глядит Михайло – уж идет Николай с мешком… Эх, хоть бы погодил… Увидал Николая и Андрей Калиныч, – затрусился, вскочил и заковылял в избу.
Чего-то стал говорить Михайло Филиппыч: и не слушает, стиснул зубы, боль ровно, а то и вправду, может, боль, машет рукой:
– Иди…
Стукнул калиткой… Посмотрел Михайло Филиппович, а у самого на душе неспокойно: отец да дед наживали ему, а он выгребает… немного уж и осталось… семья невелика – жена да сынок, а все-таки… в возраст придет сын – корить станет… Э-эх, а как откажешь?!
А Николай стоит с мешком, ждет, как опять пойдет Михайло Филиппыч, чтобы следом за ним идти. Смотрит на Михаила Филиппыча – сейчас хлеб будет… а как раздумает дать? Ох, хоть в гроб ложись… гонит Николай веселую надежду, а она рвется, вперед забегает: согнулся Николай, словно поменьше ростом охота стать, – ровно украсть что собрался.
А Андрей Калиныч уж в избе, в окно глядит да зубами только от злости поскрипывает, мысли Николая, как в книге, читает:
«Вот, дескать, думает, дурака нашел… И сам, поди, не верит».
Пошел дальше Михайло Филиппыч… Как сквозь строй идет.
Вон выглядывает и Иван Васильевич из лавки:
– Михайлу Филиппычу.
Снял шапку Михайло Филиппыч.
– Откуда бог несет? – пытает Иван Васильевич.
– В одолжение, – нехотя оправдывается Михайло Филиппов.
– Доброе дело, доброе дело… – Будто и ласково говорит, а словно углей подсыпал Михайле Филипповичу: чуть не бегом пошел Михайло. Иван Васильевич прирос и глядит ему вдогонку маленькими масляными глазками, – уши торчат, как у мыши летучей, лицо длинное, лошадиное, оскабилось, зубы белые большие, как жемчуг, во рту.
Зашел во двор Михайло Филиппыч, а немного погодя несет уж Николай куль муки. Смотрит ему Иван Васильевич в глаза, в самую глубь проникнуть охота, – делает не то Николаю, не то сам себе лукавое веселое лицо… Чуть-чуть усмехнулся Николай, отводит глаза и спешит пройти мимо.
– О-ox… – взасос тихо тянет Иван Васильевич и приседает даже.
Не вытерпел и Андрей Калиныч: уж ковыляет к Ивану Васильевичу, а тому еще веселее: вот оно когда на досуге настоящая потеха пойдет. Издали еще дергает Андрея Калиныча, тычет вдогонку в спину уходящему Николаю, тычет и рукой и костылем;
– Видал?!
Смеется Иван Васильевич;
– Середи бела дня…
– Волоком волокут!! Тьфу!..
Уж и хозяйка Михаила Филиппыча, человек безучастный к делам, и та попрекнула, увидав, как муж наградил Николая.
Руку за руку заложила:
– Опять!.. Этак все добро растащат… давай им, пожалуй…
Сдвинул только брови Михайло Филиппович и молчит.
Шатается тенью по селу Устинья: не подаст ли кто. Натолкнулась на Драчену. Стоит перед ней серая да надутая Устинья. Надуешься, когда муж бросит с семью ртами. Шляется, проклятый, и горя ему мало, хоть пропадай здесь у пустого стойла.
– Ох, Устиньюшка, погляжу я на тебя, как господь-то еще терпит…
Вытирает рукавом слезы Устинья.
Прибрела старая Фаида, ветром качает, оглядывается, словно ищет, кто б ей напомнил. Вспомнила: Лизарка-сынок.
– У меня-то вот один, и то скружилась…
Качает головой, сама с собой говорит:
– Пятнадцать лет по чужим людям. Муж-то помер, бросил нас, году не было сыночку. Ему-то ладно в могиле лежать – потолкись-ка тут на божьем свете в холоде да голоде…
Смотрит Фаида туда, на пригорок, на ряд мирных покосившихся крестов, туда, где лежит так беспечно бросивший ее муж, и укоризненно качает головой.
– Бывало, махонький сынок-от, сидим в избе с ним, а изба не топлена… «Холодно, маменька». – «Холодно, сыночек, холодно». – «Что нам, маменька, счастья нет?» – «Будет, говорю, сыночек». Пойду посбираю по селу: «Вот и нам господь послал, сыночек». А тут увидал, что Матрена своего ладит в ученье: отдай да отдай и его… «Эх, сыночек, наше ли дело ученье?» Пла-а-чет… Пра-а… Охота в ем… Забо-о-тливый…
Толкует Драчена с Устиньей, качает головой Фаида: слышит, сказывает Драчена, начальник насчет хлеба приедет дарственного… Вот, может, и дадут еще, может, даст господь, и протерпим зиму… Лиха беда зиму перебиться, а там по весне хотя корешки на выгоне рыть станешь – зиму-то вот только… Насчет дарственного приедет же… идти Лизарке сказать, а то в город наладил. А куда пойдет? Пятнадцатый годок всего: ребенок!
Галдит народ на сходе: начальство новое приедет, николи его не видали, еще какой такой он и есть, насчет, вишь, хлеба жертвенного изъяснять будет. Слышь, кто в запашку пойдет, тому и хлеб. Какая такая запашка? Никто и не слыхал.
– Вот такая… ввяжись только, – хуже крепости укрутят.
Беднота не то что в запашку: хоть в неволю. Богатый и средний крестьянин упираются.
– Какая еще тут запашка? – кричит, топыря короткие руки, маленький сбитый Иван Евдокимов, – триста ртов – сколько тут хлеба надо, чтобы прокормить: «тысци»! Сколько тут земли надо засеять, чтобы вернуть их? Две части отойдет: сами на чем пахать станем?
– Так ведь, слышь, по малости – сажень-две на душу.
– Так это чего ж будет? Забава, время проводить. Не может быть этого: из чего народ-то маять?! Если уж разве для затяжки только, вроде того что на первый случай, а там попался и сиди… Так это тоже надо понимать: укрутишься – локоть близок будет, да не достанешь.
– Это как же сейчас, – пытает Степан, – каждый за себя?
– Держи карман, – трясет шапкой старенький, маленький Гурилев.
Боком повернулся, пальцем тычет и поясняет:
– Круговая порука, понимаешь ты: тридцать там, сколько ли десятин вспахать, засеять, убрать… вот их и представь с общества…
– А их, безлошадных, половина?
– Ну так вот…
– Ловко.
Смотрят безлошадные на лошадных, а те друг на дружку.
– Так ведь… старики, – уминается Николай Исаев, – там кто жив будет, а сейчас кормить станут… Как же иначе? У меня одиннадцать ртов – чего ж мне с ними делать? У тетки Устиньи – вон муж где пропадает – семь ртов… да мало ли? Чего же делать с ними?
– Мы, что ль, причинны тому, что у вас ртов столько?
– Не причинны, так ведь как же?
– Вот те и как же.
– Да я вот, – орет Павел Иерихонская труба, – и безлошадный, да сам не желаю на запашку, сам себе голова: что там еще хлопотать за других.
– В мошне-то сотню носишь… спишь с ней… тебе и ладно, – огрызается Николай.
Иван Васильевич тут же на сходе: подойдет кошкой с одного бока, послушает – с другого зайдет. Запахнется в черный, сукном крытый тулуп, кивает головой и усмехается. Подошел к Гурилеву.
– Казна за земство, – земство за мужика хватается… Опасается, как бы платить не пришлось – мужичок-то лошадный и тяни земство да безлошадного…
Поднял брови, палец и кивает головой.
– Этак…
– Верно! оно самое и есть, – подхватил Иван Евдокимов. – Работа на людей выходит… Много вас найдется охотников…
Беднота ца Ивана Васильевича налетела. Николай так и рвется:
– Ты-то еще чего тут? Твои какие тут права? Пустили миром: дом купил, кабак открыл…
– Мой, что ль, кабак?
– В твоем доме… Мир приговор поставил закрыть кабак, а ты что ж?
– Ну вот взял, да открыл.
– Открыл?! можно это?
– А нельзя, так закрой.
– Ну, что пустое… Усадьба-то его не на мирской.
Иван Васильевич повернулся к Николаю.
– Слышал? Ну так вот сперва узнай, а там и ори… хоть глотку перерви… Я, что ль, против запашки иду? Что денег не найдется за две сажени уплатить? Найдется: экое горе! Если говорю, так из-за того, чтоб всем не обидно было… Может, и закона такого нет еще, чтоб в запашку неволить… Может, от царя-то приказ так давать, безо всякого… Понимаешь ты это? Может, поглядят, поглядят да и так станут кормить… Орет, с цепи сорвался…
– Если приказ есть, так когда не станут… Постращают и станут, – говорит Евдоким.
– Так ведь была бы сила ждать…
– Ну так ты-то чего? – обернулся Павел к Николаю, – Михайло-то Филиппыч дал тебе?
– Дал, так ведь…
– Так ведь… Ну и можешь ждать: поспеешь крутить мир в такое дело, которого не видать сейчас, что, да к чему, да как… Может, и сам еще спасибо скажешь.
– Известно, пождать пока что, – согласился сонный Евдоким.
А начальство уж катит: кто куда, расползлись, как тараканы, крестьяне со схода. Бросился старшина к старосте.
– Ты что сидишь? сход наряжай…
– Поспеет…
– Ну так как же? гони десятских.
Вылез из саней начальник. Молодой из военных.
– Скорей, скорей.
Опять ползут старики на сходку, мимо начальства идут, – кто подойдет к сходу, шапкой тряхнет, рукой притронет:
– Мир вам, старики…
Мотнут головой старики и опять ждут да глядят туда к речке, откуда бредет народ.
– Эх! вот у вас всё так, – говорит в нетерпении начальник, – пока соберетесь, да пока надумаетесь, да пока почешетесь…
Кто глазами вскинет, а кто и не глядит, только головой трясет.
– Ну, скорей же… Не можешь прибавить ходу? Идет…
Начальник показал, как идет подходивший Евдоким.
Замигал рыбьими глазами Евдоким, тряхнул своей остроконечной шапкой и спрятался поскорее в толпу.
Собрались, наконец, все.
– Земское собрание постановило оказать помощь тем селам, которые заведут у себя общественную запашку. Каждый там, сколько придется на душу, должен обязаться пахать, сеять и в общественный амбар ссыпать: из этого хлеба и долг будет погашаться. Это милость большая, и я вам советую согласиться.
Молчат старики.
– А как, за круговой порукой? – спрашивает Павел.
– А у вас что ж есть без круговой?
– А землю откуда?
– Из мирской, конечно.
– Из мирской станем брать, сами на чем сеять будем?
– Да тут много разве земли? Две-три десятины…
– А с двух-трех десятин чего возьмешь? До урожая этакую ораву в триста ртов прокормить, тут «тысци» нужны…
– Ну да, уж это не ваше дело…
– Так…
– Ну, а который, к примеру, безлошадный, – чем он вспашет?
– Лошадный вспашет безлошадному, а тот сожнет ему.
– Пахать людям станешь, тебе кто вспашет?
– Да ведь тут много ли?
– Тут немного, там немного, – лошаденка-то одна.
– Ну наймет за деньги.
– Нанималок дай, – пустил кто-то из задних рядов.
– Кто там?
Потупились все в землю и молчат.
– Ты сказал?!
– Не я сказал.
– Врешь ты, – я вот тебя на три дня в кутузку посажу: если не умеешь понимать, когда говорят с тобой по-человечески, я с тобой и иначе могу поговорить.
Снял шапку сперва виноватый, сняли один за другим и старики.
Говорил, говорил, отошел, наконец. Опять ласковый.
– Надевайте шапки. Не худому учить пришел… Всё по-своему, по-своему – дошли до хорошего! Пьянство, лень…
– А хочешь, я тебе лошадок да коровок подарю? – выскочил вдруг Исаев старик.
– Брысь!
– Куды ты! – накинулись на него ближние, оттащили и объяснили, что безумный.
Иван Васильевич с своими оттопыренными ушами, масляными глазками впился в начальника:
– Точно-с, что безумный… В прошлом годе, как недоимки выколачивали… с тех пор и решенье в уме ему вышло…
Иван Васильевич даже голову наклонил и палец, и брови высоко-высоко поднял.
– Ты кто?
– Крестьянин-с Иван Васильев, по фамилии Голыш.
– Фамилия не по платью, – смеряло его начальство. – Богат?
– Живем… Бога не гневим-с… Может, когда с приезду… чайку-с… очень будем рады…
– Если ты хорош, так отчего ж и не приехать? Как он? Хорош? – обратился начальник к сходу.
– Ничего…
– Ты что ж, в запашку идешь?
– Я с моим удовольствием: куда начальство велит – на все согласен…
– А ты?
Сонный Евдоким только уставился своими рыбьими глазами и молчит: не то язык отнялся, не то не знает, что сказать.
– Ну говори ж?
– Как мир…
– Мир миром, а ты как? Ложку-то со щами ты не миру в рот кладешь – себе…
– Действительно…
– Что действительно? Идешь на запашку?
– Ежели мир…
– Я тебя спрашиваю?
– Воля ваша…
– Много вас таких?! Вот видишь же ты – человек прямо говорит…
– Друг по дружке, значит, – поднял брови и палец Иван Васильевич.
– А ты согласен?
– Я-то? – вытягивает худую шею Василий Михеевич, – «золотой мой».
– А то я?
– Ну так ведь чего ж станешь делать, золотой мой!
– Согласен, значит?
– Так ведь от миру куда уйдешь?
– Тьфу ты! Мир ведь не каши горшок… ты, да я, да он, да они – вот и мир… каждый свою думку…
– Так точно…
– Ну так вот ты, как считаешь насчет запашки?..
– Так ведь как сказать, золотой мой? Темный мы ведь народ… Пра-а…
Наклонил голову: ласково-ласково смотрит.
– Ну с вами тоже говорить – гороху надо наесться.
Повеселел народ.
– Гороху наешься и вовсе неловко, – прокашлялся Родивон, – ты, к примеру, брюхо-то горохом набьешь, а мы мякиной, – как бы дело сошлось.
– Ты кто? – сдвинул брови начальник.
– Староста…
– А знак твой где?
– Да пес его знает, ребятишки, видно, куда сволокли… Псы этакие… Пра-а…
– А я вот тебя на неделю как выдержу, так, может, вперед и не станут уволакивать…
Покраснел Родивон и глядит.
– Староста… сиволапый… какой он, что за староста? – обратился начальник к волостному старшине.
Жирный молодой старшина с серыми глазами, в коротком полушубке, покрытом серым сукном, сперва, приложив руку ко рту, откашлялся, потом строго посмотрел на Родивона, переступил с ноги на ногу и ответил:
– Ничего себе…
– Люди не жалуются, ровно, – поддержал его и сам Родивон.
– Тебя не спрашивают.
– Да нет же худого, – вмешался Михайло Филиппыч.
– Ты еще кто?
– Мы – староста церковный.
– Ну вот «мы», кстати бы, да в беду мы не попали за растрату.
Весь сход уставился в Михайло Филиппыча.
– Кажись, за нами нет таких делов…
– Нет? А вот я уж слышал, что есть.
Похолодел Михайло даже от таких слов:
– Нет прочету никакого.
– Войлок батюшке на квартиру с чьего разрешения покупал?
Смотрит Михайло, моргает глазами, точно подавился вдруг.
– Так ведь…
– Что?
– Я ведь действительно… докладывал батюшке… ну дело-то вкруте: купи, говорит, мир не признает – свои отдам… Только и всего…
– Всего, да не всего…
– Только тем, что попечитель против батюшки будто во всем супротивничает…
– А ты мирволишь… Ну, а платить-то растрату есть чем? Как он, состоятельный?
– Ничего…
– Греха-то таить нечего, – проговорил печально Михайло, – от отцов осталось, а в руках не дал господь удержать…
– От себя… – не вытерпел, сквозь зубы пустил Андрей Калиныч.
– Так ведь не людей же и корю, Андрей Калиныч.
– Ворона ты, как я вижу, батюшка… Мой совет тебе, оставь от греха ты свою должность…
Сдвинул брови Михайло.
– Люди садили… Мир прикажет, что не оставить…
– Вот как. Ну, как знаешь… Не пожалел бы… Ну-с, так как же насчет запашки?
Опять потупились все, молчат.
– Э-ге, господа, видно, с вами по-иному надо… Ну так вот: когда надумаетесь насчет запашки, тогда и хлеб, а до тех пор прошу не гневаться… хлеба нет и не будет. Ступайте.
Потянулись один за другим.
– Вели лошадей подавать.
Побежал кто-то за лошадьми, а к начальнику одна за другой плетутся бабы.
Впереди Драчена. Идет, поводит глазами да под ноги смотрит себе: страшно.
– Кто вы?
– Вдовы, батюшка, да сироты… хлебушка просить у твоей милости.
– Моя милость ничего не дает: дает земство. Пойдете на запашку – станете получать, как и люди.
– Да ведь мы, батюшка, вдовы да сироты, – никакой у нас запашки нет…
– У вас нет – у ваших отцов, братьев есть.
– Мы до них не касаемся… отрезанные ломти…
– Коснитесь… Без запашки никому…
Стоят. Подали лошадей, сел начальник в сани.
– Так как же? – пытает весело-добродушно Драчена, – неужели так и помирать нам?.
– Не помрешь, бог даст…
– Мы ведь к тебе придем, – ласково говорит Драчена, – так и ляжем.
– Приходи, приходи… в кутузке место есть…
Прищурилась Драчена, голову на бок положила:
– Меня, батюшка, кутузкой не пугай… восьмой десяток, три дня до смерти.
– А три дня, так о чем же заботишься? Пошел!
Говорит пословица: не родись богатым, не родись красивым, а родись счастливым. Счастье родилось с Иваном Васильевичем вместе. Откуда он попал в село – никто и не знает. Так прибило как-то, выбросило, да так и остался. Помнят его все маленьким человеком, рассыльным в контору поступил, покойные господа еще живы были, помнят и первое появление его на сходке. Огрел его тогда хорошо Павел. И глотка у Павла да и мастер обрывать, – слушает-слушает, а тут в три слова так растреплет дело, что только смех один пойдет.
Сунулся тогда было Иван Васильевич уломать в каком-то деле сход. Ему-то не видно, а сход уж всю подноготную давно разобрал, и на ладони весь Иван Васильевич. Молчат, слушают.
– А ты вот чего, – говорит Павел, – ты-то вот деньги берешь дурака валять, а нам как положишь? или так с пустыми руками за тобой, дураком, идти?
Загоготала сходка. Довели тогда Ивана Васильевича до поту, так ни с чем и замолк. Хохот один стоит, только пот вытирает да ругается про себя:
– Пес… этаких-то на сходе как терпят…
– Тебя не спросили, эфиопская морда…
И в конторе посмеялись, выругали Ивана Васильевича для начала дураком. Слушает, только глазами хлопает. Похлопал, похлопал, а и не оглянулись, как вкрутился Иван Васильевич во все дела господские. Старому барину на ухо нашепчет, молодому дела с бабами устраивает.
Давно уж все это было.
Землю под усадьбу подарил ему барин, тут же на берегу, лавку держит, кабак сдал. На пальце перстень носит, водит компанию с урядником, с писарем, устраивает свои дела и делишки. Сам управитель Иван Михайлович с женой не брезгуют его хлебом-солью.
Потихоньку и с мужичками обошлось дело. Каждого узнал, пригляделся – в чем его сила, в чем слабость, докопался до всего, Андрея Калиныча уважает во всем и живет себе помаленьку, сотню на сотню наколачивает.
На сходе вот разве другой раз насядут старики, ну когда и уступит, ну да ведь сход-то когда бывает, да об каком там деле еще, а этак, поодиночке, всякого выследит Иван Васильевич и шапкой закроет со всеми его делами. Мужичок только подумает, а уж Иван Васильевич не то что думку его видит, а знает, что и дальше думать станет он.
Хлеб по-малу сеет – что его много сеять? в купке дешевле сева придет.
Так простой, обходительный. Какой там совет – приходи только – научит, до всего доберется и путем наставит. Охоч в чужих делах разбираться, а уж особенно где по гражданскому уставу. Даром, что сам только-только свое имя вывести может, а такой законник, на память все – любого «аблаката» за пояс заткнет. Какое-нибудь запутанное дело – хлебом его не корми.
Вечером, как уехало начальство, у Ивана Васильевича гости: управитель Иван Михайлович с женой Марьей Васильевной, соседний управитель Эммануил Дормидонтович. Народ все такой, что надеется на себя: какое дело ни затронь – всё знают. Сидят, обсуждают сегодняшний день, приезд начальства, посмеиваются.







