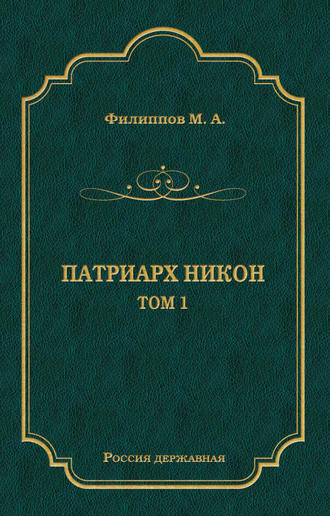
Михаил Филиппов
Патриарх Никон. Том 1
X
Боярин Шеин
После десятилетнего разумного управления царством патриарх Филарет, успокоенный насчет престолонаследия, так как Бог даровал царю Михаилу прекрасного мальчика Алексея, возымел желание возвратить из владения поляков Смоленск и Дорогобуж, составлявших ключ в Россию.
Притом притязания польских королей на русское царство не прекращалось: король Сигизмунд III, умирая, велел себе надеть шапку Мономаха, украденную поляками в Москве, когда они ею владели. Умирая в этой шапке и лежа в ней в гробу, он этим как бы завещал Польше не оставлять его притязаний. Притом сына его Владислава избрали в короли Польши единственно потому, что ему когда-то целовала крест Москва.
Патриарх стал поэтому готовиться энергично к войне.
Более шестидесяти шести тысяч иноземцев были наняты в войска и по всему государству объявлен добровольный сбор, который должен был производить знаменитый князь Димитрий Михайлович Пожарский, архимандрит Левкий и Моисей Глебов.
Царские грамоты разбросаны были по государству. Русь откликнулась со свойственным ей патриотизмом: потекли в Москву и деньги, и двинулись ратные люди.
Но не радовали последние Филарета; боярские дети и вообще дворянство были хорошо вооружены и пришли лучшие люди, но из крестьянства они навезли и навели что ни на есть худшее, пьяное, воровское и бессильное, и о нем справедливо выражался боярин Шеин и его родственники: плюгавенькое[7]. Сформировали армию в тридцать две тысячи человек при ста пятидесяти орудиях.
Тут пошли споры – кому начальствовать.
Людей боевых было тогда между боярами много, но выдающихся мало.
Предложили начальство князю Димитрию Черкасскому по настоянию патриарха и других царских родственников, так как он был тоже в родстве с царским домом; но по его молодости в товарищи к нему назначили старого воина, князя Бориса Михайловича Лыкова.
Лыков был в хороших отношениях с инокиней-матерью, и та, узнав об этом, тотчас послала за ним. Князь явился к ней.
– Князь Борис, – сказала она после обычного приветствия и дав ему поцеловать свою руку, – прошу, не езди на войну, откажись.
– Отказывался, великая государыня. Ходил к патриарху, говорил, что у князя Димитрия Черкасского нрав тяжелый и прибыли я не чаю от того, что быть мне вместе с ним в государевом деле… Святейший патриарх побранил и велел на войне быть без мест.
– Это он хотел тебя унизить оттого, что в родстве ты со мной; да ты сорок лет на службе, а у того на губах еще молоко не обсохло. На войне быть без места – так пущай он князя… татарина… Мамстрюковича тебе даст в товарищи, – ты русский князь, именитый боярин, и род твой… да что и говорить, – пущай татарин сам ведет рать.
– Царица, уж ты окажи божью милость, не дай бесчестить меня…
– С ним-то, с святейшим, я и не поделаю ничего; сына коли увижу – скажу… Ты правь местничество, а я с боярами потолкую.
Князь Лыков вышел от нее и подал чрез боярина Большого дворца царю челобитную, в которой говорил: «Я пред князем Димитрием стар, служу государю сорок лет, лет тридцать хожу своим набатом (то есть командую самостоятельно), а не за чужим набатом и не в товарищах».
Князь же Черкасский бил челом, что князь Лыков ему говорил, что он-де потому не хочет быть ему товарищем, что люди им владеют.
Царь поручил князю Хилкову и дьяку Дашкову расследовать дело и доложить Боярской думе.
В ней были горячие споры, и кончились они тем, что Черкасскому командование не дали, но присудили ему 1200 руб. за бесчестие от князя Лыкова.
Два месяца раздумывали, кого же назначить туда, и патриарху пришла мысль пригласить в главные воеводы знаменитого боярина Шеина Михаила Борисовича, защищавшего некогда так геройски Смоленск и разделявшего с ним, патриархом, плен в Варшаве.
Он послал за ним.
Боярин жил на покое и посещал лишь Боярскую думу, где голос его был влиятелен, но его не любили за солдатскую резкость и прямоту, а в те времена любили ходить во всех делах вокруг да около, да чтоб овцы были целы и волки сыты.
Явился по зову патриарха боярин и, поклонившись ему в ноги и приняв от него благословение, спросил, что причина чести, которой он удостоился.
Патриарх передал ему свою мысль и выразился, что он не находит более достойного человека принять начальство над войском, как его.
Шеин помолчал немного и сказал:
– Прискорбно, святейший патриарх, что ты избрал меня в старшие воеводы. Положить живот свой за царя я никогда не отказывался, но вспомни: я целовал крест королевичу Владиславу, а он теперь королем Польши, – как же я буду теперь против него сражаться?
– Сердце твое благородно; помню, сказывали мне, что ты с одним ляхом дрался под Смоленском и чуть-чуть друг друга не порезали, потом встретились вы в лагере Владислава и сделались друзьями. Оба вы рыцари чести, и теперь ты рыцарь. Но коли речь идет о счастии твоего народа, тут всякое рыцарство в сторону. И я, по изволению Москвы и земли русской, ездил в Варшаву, с извещением королевичу об его избрании на царство, и целовал ему крест, а теперь и я пойду на него войной.
– Святейший патриарх и отец, ты присягал ему на верность, коли он будет царствовать, теперь ты сам царствуешь с сыном…
– Сам Господь разрешил меня от клятвы: по воле земли русской, а не моей, избран Михаил, а затем и я, и глас народа – глас Божий… Так и ты, тебя избирают от имени земли русской в воеводы, и ты не вправе отказаться, а я, как патриарх, тебя от клятвы твоей освобождаю. Теперь избери себе товарища.
– Коли я пойду в воеводы, то пущай выйдет указ: во время войны быть без места. А ты дай мне, святейший, храброго Измайлова в товарищи: и я и он – мы пойдем с детьми.
– Ладно. Кстати, ты вспомнил мне о нем; он имеет при себе боярского сына Бориса Морозова… Уж очень полюбил я его, когда был в пленении и возвращался. Хочу его сделать дядькой внука моего, Алексея… Знаю, он убережет его от всякой скверны. Это человек разума и чести.
– Коли прикажешь, Измайлов приведет его к тебе, святейший патриарх. Я и Измайлов, и дети наши, и все навеки у ног твоих. Но вот, святейший отец, пущай дума боярская попросит меня, пущай не от тебя… Вместе мы были с тобою в пленении… скажут – кумовство. Пущай будет от них. Да прошу дозволить мне потолковать с друзьями да с семьей и с Измайловым.
– Ладно, только не медли, – завтра ответ…
Боярин Шеин заехал к Измайлову, и тот предоставил ему: решиться или не решаться.
Заехал он от него к Нефеду Козьмичу, и тот благословил его на путь грядущий.
Осталось еще одно: отец Никита был его духовником, и ему нужно было с ним потолковать еще о данной им королевичу Владиславу клятве.
Вопрос был затруднителен к решению, но присяга дана при известных условиях, чтобы Владислав царствовал; раз же он отказался от этого, признав Михаила царем, очевидно, клятва сама собою уничтожалась.
Так объяснил ему и отец Никита, причем присовокупил, что если патриарх затем снимает эту клятву, то очевидно, что и сомнения не может быть, что боярин может сражаться против Владислава, так как он будет сражаться против него не как против царя русского, а как против короля Польши.
Шеин продолжал сомневаться; тогда священник обратился к его патриотизму и доказывал, что возвращение Смоленска и Дорогобужа так важны для Руси, что мы без них останемся всегда в руках Польши.
Это поколебало боярина, и он решился не отказываться от начальствования армиею.
Когда же отец Никита ушел, им овладело какое-то тягостное чувство, и он, бросившись на колени пред образами, долго молился.
На другой день боярин объявил патриарху свое согласие и тот велел ему явиться назавтра в Боярскую думу.
В думе заседали патриарх и царь; первый сидел посреди стола – по правой стороне, а другой рядом с ним – по левой. Духовные лица занимали места сбоку по стороне патриарха, а бояре в черных соболях и думные дворяне – по стороне царя.
Шеин был с боярами. Заговорил патриарх о том, что нужно назначить главного воеводу, и обратился к боярам, спрашивая их мнения.
Один из них, вероятно по наущению патриарха, предложил Шеина.
Партия князя Черкасского протестовала; она находила, что Шеин уж устарел и от ратного дела отстал.
Пошло на голосование, и большинство, вместе с царем и патриархом, оказалось на стороне Шеина.
Боярин благодарил думу за оказанную ему честь и в несколько дней приготовился в поход.
Нужно было в Грановитой палате торжественно проститься с царем и с патриархом в присутствии всего двора и Боярской думы. При этом Шеин сделал ошибку: рассердясь, что об его боевой деятельности отзывались в думе с неуважением, он в прощальной речи исчислил все свои заслуги, превосходившие заслуги остальных бояр, и закончил, что в то время, как он-де служил, многие за печью сидели и сыскать их было нельзя…
Речь эта хотя была правдива, но сделала ему много врагов.
В тот же день Шеин отправился в поход, другие воеводы выступили из Ржева, Калуги и Севска.
В несколько месяцев войска наши возвратили почти все уступленные Польше города, а Шеин с Измайловым осадили Смоленск.
XI
Под Смоленском
Вот уж восемь месяцев стоит наша рать под Смоленском; делает она все, что только искусство и человеческие силы могут совершить.
Крепость, несмотря на обширность, тесно обложена; всюду окружена она теми земляными работами, которые и ныне употребляются, а из этих насыпей и редутов сыплется град каленых ядер на крепостные стены и картечь на тех, которые дерзают выйти из них, стены во многих местах сильно повреждены минами.
Губернатор Воеводский готов уж со дня на день сдать крепость русским.
Вдруг получается весть с юга России, что татары и казаки ворвались в наши украинские области; панических страх овладевает ратниками, и они бегут ежедневно из лагеря, чтобы защитить дома свои и семейства. В таком положении были дела, как 25 августа, ночью, Измайлов разбудил Шеина.
– Что случилось? – спросил боярин.
– Лазутчики и шиши[8], – отвечал Измайлов, – доносят, что король Владислав приближается лесами с большим войском к Смоленску: идет он с севера.
– Друг Артемий, – крикнул Шеин, – в таком случае возьми один или два полка и займи московскую дорогу, чтобы ляхи не могли отрезать нам путь, а там уж как-нибудь я с ними справлюсь, или будем держаться до помощи из Москвы. Пошли тотчас в Москву нарочного.
Шеин поскакал тотчас по укрепленной нами линии, и оказалось, что поляки с нескольких сторон уж наступили на нас, то есть в семи верстах от Смоленска, у речки Боровой, они стали разбивать лагерь.
На третий день своего прихода король ночью пробрался по Покровской горе в Смоленск и, сделав оттуда вылазку, напал на редуты наши, находившиеся на той же Покровской горе. Редутом командовал наш полковник-иностранец Маттисон. Король овладел было нашими шанцами, но князья Белосельский и Прозоровский, находившиеся недалеко от редута, послали Маттисону помощь, и воины наши выбили поляков из этой позиции. Король отступил с большим уроном.
Тоже не удалась попытка коронному гетману литовскому Радзивиллу зайти к этим редутам с другой стороны. Встреченный здесь нашею ратью, он был разбит и отступил с большим уроном.
Одиннадцатого сентября последовало новое нападение на эту местность, и бой длился два дня и две ночи; с обеих сторон много погибло, но русские не могли удержаться, и на совете в лагере нашем решено: полковнику Маттисону отступить; но при этом огромная часть иноземцев, бывших на этом редуте, бежала в Смоленск к польскому королю. Об этом донесено было Шеиным тотчас в Москву, и получен оттуда приказ: со всех отдельных редутов и крепостей созвать ратников в общий лагерь, и обещано, что со всех сторон будут прибывать войска, а из Москвы поведут войска князья Черкасский и Пожарский, и потому велено стоять крепко и мужественно.
Обещания эти оказались лишь на бумаге – московские бояре с умыслом медлили, чтобы поставить Шеина в затруднительное положение.
Положение действительно было отчаянное: поляки овладели в тылу русских Дорогобужем и всеми нашими запасами; король же 6 октября чрез Покровскую гору перешел на Богдановку и отрезал нашим дорогу от Москвы.
Шеин спустя три дня выступил против них; польская конница бросилась на наши колонны и разбила их, но подоспевший резерв наш расстроил конницу; наступившая ночь прекратила этот страшный и неравный бой.
Шеин оказался окруженным со всех сторон, а пробиться не было возможности. Держался он мужественно целый месяц. Холода между тем наступали, и мы сидели без дров и припасов; особенно лошади падали по недостатку пищи.
Перестрелка орудиями шла с обеих сторон, но поляки имели в руках своих Скавронковую гору, откуда их редут командовал местностью, и он причинял нам страшный вред.
Только наши бомбы, наполненные картечью, достигали королевских редутов[9].
Положение было критическое. Стоял уже конец ноября, и зима была в разгаре.
Созвал Шеин военный совет.
– Полковник, – обратился он к командующему иноземными полками шотладнцу Лесли, – что делать: люди и лошади мрут, есть нечего…
– Думаю, пока у нас имеются силы, пока имеются еще хлеб и порох, мы должны с оружием в руках пробиться и уйти или же умереть с оружием в руках, – сказал благородный шотландец.
– Это шотландская дурь! – воскликнул полковник-англичанин Сандерсон. – Нам нужно только подождать немного – и помощь придет… Царь обещался прислать ратников и припасов. Зачем жертвовать людьми, коли можно достигнуть того же с меньшими потерями?
– О помощи мы слышим уже с августа, – заметил Лесли, – а ее нет… Притом все иноземцы и русские ратники ропщут, что ты морозишь их здесь… Декабрь уж на дворе.
– Я своих по крайней мере не поведу на верную гибель! – крикнул Сандерсон.
– Англичане известные трусы и изменники! – разгорячился шотландец.
Сандерсон обнажил шпагу и хотел броситься на Лесли.
Шеин и Измайлов насилу их розняли.
Начали голосовать оба предложения, и перевес взял шотландец. Решено выждать момент и пробиться сквозь неприятеля.
Но дров не было: вызвали охотников прокрасться ночью через неприятельскую цепь и из ближайшего леса привезти дрова.
Охотники отправились туда 2 декабря, но дали знать Шеину, что поляки напали на дровосеков и убито пятьдесят человек.
При этом донесении англичанин утверждал, что это неправда, там-де погибло только несколько десятков.
– Коли ты утверждаешь так несправедливо, – воскликнул шотландец, – то я прошу воеводу ехать с тобой и со мною в лес, и мы пересчитаем убитых… Там же я скажу, чья это работа.
Воевода тотчас туда отправился с ними и действительно увидел, что убитых несколько сот. Тогда он обратился к Лесли и сказал:
– Ты в лесу обещался сказать, кто был причиною этой резни.
– Этот изменник, вот этот англичанин! – воскликнул Лесли, указывая на Сандерсона. – Он дал знать королю о дровосеках.
– Врешь! – завопил Сандерсон.
Но в этот миг Лесли выхватил из-за пояса пистолет и выстрелом положил его на месте.
– Что сделал ты! – воскликнул тогда Шеин. – По нашим законам я должен тебя казнить, а ты так мне нужен для предстоящей битвы…
– Судить, воевода, ты не имеешь права: шотландец убил англичанина, и не на русской, а на польской земле, и за это может его судить один лишь шотландский суд; но меня присяжные наши не осудят за убийство изменника, погубившего невинно столько душ… Пущай теперь вороны растерзают его труп.
Но случай пробиться и не представлялся; провизии не было, холода увеличились, и прошел еще целый томительный месяц ожидания и борьбы с польскими войсками.
Наступил в лагере нашем голод и большая смертность.
Шеин вступил в переговоры, но тянул их до 12 февраля следующего года, ожидая из Москвы помощи.
XII
Смерть патриарха Филарета
В день Покрова, 1633 года, патриарх Филарет возвратился в полдень в Новоспасский монастырь из Успенского собора сильно разогорченный; вести от Шеина были неблагоприятные: король тесно окружал его своими войсками, а тут ни денег, ни ратников, чтобы послать ему скорую помощь.
В Москве же кричали со всех сторон, что войну затеял патриарх, да послали войско с выжившим из ума Шеиным и под Смоленском погубят цвет нашего дворянства, да и король Владислав вновь будет осаждать Москву.
Слухи об этих толках доходили до него, но он вынужден был молчать, потому что под наущением инокини-матери в таком же смысле выражался сам царь и высказал ему это в тот день прямо в глаза.
Больно и жаль ему стало и Шеина и войска, и он ходил по своим хоромам большими шагами и думал думу, как пособить делу.
– Я сам поеду в войска, я их одушевлю своим приездом, – подумал он, – и мы пробьемся к Москве… А Владислав к зиме не посмеет сюда прийти и зазимовать… Завтра же поговорю с царем и с Боярской думой и – в путь… Гей! Воронец! – крикнул он служке своему, литвину.
Явился литвин. В память своего плена патриарх одевал его в польский армяк с кушаком.
– Дай мне воды напиться, я жажду, – сказал патриарх.
Литвин исчез.
– Да, – продолжал размышлять патриарх, – зимой он не придет сюда, а я отступлю из Смоленска не на Москву, а на Калугу… Там я крикну клич на всю Русь, и мы растерзаем ляхов…
Вошел литвин с золотою чаркою с водою. Патриарх выпил залпом воду, почувствовал какую-то горечь, но подумал:
– Я всегда чувствую горечь на языке, когда сержусь, а сержусь я уж несколько дней… Великая черница не оставляет меня во покое: пилит и сына и меня… Собирает боярынь к себе, и они, как по покойникам, воют о мужьях и детях, ушедших на войну… Проклятия их и на Шеина и на попустителя… Но что это? Голова у меня кружится… Гей! Воронец… Воронец… кто-нибудь.
Начинает патриарх стучать ногами и хлопать в ладоши.
Является сват его, Стрешнев.
– Ты здесь, сват… кстати… хотелось пить… я позвал Воронца… он принес мне чарку воды… я выпил… теперь что-то сам не свой… Зови сюда Воронца…
Стрешнев выбежал и несколько минут спустя возвратился.
– Литвин бежал… скрылся, – произнес он, задыхаясь. – В отсутствии твоем, святейший патриарх, я хотел было отправить его в темницу: мне донесли, что с пленными ляхами он ведет тайно переговоры… что вчера ночью он разносил в боярские дома, гостям и жильцам грамоты короля Владислава: что Шеин-де в осаде и сдается, а король-де идет войною не на Русскую землю, а на Романовых – они-де похитители его престола и что ему-де и Романовы, и вся земля русская целовала крест…
– Где ж литвин… ищи его… постой… постой… за царем… за Морозовым… за Нефедом Козьмичом…
– Боярин Нефед Козьмич от тяжкой болести вчера скончался, – заметил Стрешнев.
– Умер… и я его недолго переживу… да, духовника… моего не хочу… ты мне приведи отца Никиту… да скорей… скорей… силы мне изменяют… я слабею… спеши… я уж здесь посижу и подожду…
Он находился в это время в своей передней, то есть приемной, которая имела нечто вроде трона для торжественных случаев.
Стрешнев побежал и, разослав верховых для исполнения приказаний патриарха, вернулся к святейшему.
Тот как будто дремал, но с приходом свата он с четверть часа спустя очнулся.
– Сват, – сказал он, – коли умру, служи верой и правдой царю, дочери твоей и внуку, а я тебя и всех вас благословляю.
В это время вбежал царь Михаил с огромною свитою, так как это был час обеденный, и он захватил с собою всех гостей.
Патриарх объявил царю, что он подозревает себя отравленным и что кончина его близка.
Увидев при этом придворных врачей Бильса и Бальцера, он сказал им благосклонно:
– Совершается воля Божья и супротив Промысла нет лекарства.
Сын мой и царь, – обратился после того он к сыну, – завещаю тебе сражаться с королем Владиславом до последних сил. Коль вздумает он прийти в Москву, отдай ему город после сильного боя, рубись до последнего; а коль невмоготу будет – уходи в понизовье; где только бьется русское сердце, везде тебе будет приют, и там будет и крепость твоя… и так врага одолеешь. Не влагай меча, пока Владислав не отречется от царства. Помни мой завет: рано или поздно не шапка Мономаха будет на главе Ягеллонов, а корона польская ляжет на голову Романовых… Завещай это сыну, внукам и потомству. Также и путь нужен нам к морю, бедствие наше под Смоленском оттого, что и оружие, и порох, и иноземные ратники идут к нам чрез Архангельск, а этот путь и далекий и дорогой… Вам, бояре, и земле русской держаться моего дома… Вижу видение… – Он приподнялся и, глядя в пространство, продолжал: – Море кроется нашими кораблями… пустыни населены… крестьяне бодры, сыты и веселы: скирдами наполнены их токи и закрома полны хлеба… Царство грозно и могущественно.
Он помолчал несколько минут и обратился к боярам:
– Служите верою и правдою моему сыну, и моя надежда на вас; продолжайте бодрствовать над ним, над его наследником и над царством. Сын мой, твердо держи бразды правления и не щади никого, хоша бы то была моя кровь… Смерть мою не ставь никому в вину, на то воля Божья… Не смею винить в ней короля Владислава: и своих воров, злодеев и убийц довольно…
Царь подошел к нему, стал на колени и, рыдая, произнес:
– Святейший отец мой и великий государь, благослови меня!
Патриарх как будто стал засыпать. Он превозмог себя и, положивши руку на голову его, прошептал:
– Благословение мое навсегда да почиет на тя и благодать Божья да снизойдет на тя вместе с любовью моею… Жене, детям твоим и сестре передай тоже мое прости и благословение…
– А великой чернице-инокине? – спросил царь.
– Ей… ей… мое прощение… Духовника!.. духовника!.. скорей!..
Вошел отец Никита с Святыми Дарами.
Все удалились. Патриарх исповедался, приобщился и пособоровался.
После того он обратился к отцу Никите:
– Не удивляйся, сын мой, – произнес он тихо, – что я тебя не взыскал своими милостями… Я ждал ежечасно развязки… свой конец… а мои милости были бы тебе гибелью… Иди в монастырь… иди, говорю тебе… и Бог тебя возвеличит высоко: превыше всех здешних пастырей… сделаешься святителем, великим, Богом избранным, Богом венчанным… Есть у нас обитель великая… Соловки… откуда и святой Филипп митрополит… но чувствую: конец мой приходит… хочу посхимиться… зови сюда синклит…
Отец Никита устремился в соседние комнаты, где ждали царь, бояре и собор духовенства.
Вошли все в зал, где, сидя на трое, умирал патриарх.
Началось печальное служение и пение: все предстоящие, стоя на коленях, рыдали.
Едва посхимился патриарх, как его не стало. Царя без чувств унесли из зала и увезли в Грановитую палату.
Царь-колокол возвестил печальным ударом о кончине патриарха, и все сорок сороков московских глухо вторили ему.
Москва вся всполошилась. Недавно она видела святейшего цветущим, в Успенском соборе, а тут вдруг скоропостижная смерть.
Напал на всех страх, и при дурных вестях из-под Смоленска всем казалось, что враг уже у стен Москвы…
Потек народ к Новоспасскому монастырю, чтобы хоть у трупа великого святителя почерпнуть утешение и бодрость духа.
Весь народ, без различия званий и пола, рыдал, и когда несколько дней спустя его выставили в Успенском соборе, наехало и пришло в Москву из окрестных городов и сел столько народу, что весь Кремль наполнился людом.
Тогда и враги Филарета поняли, чего лишилась в нем Русь.



