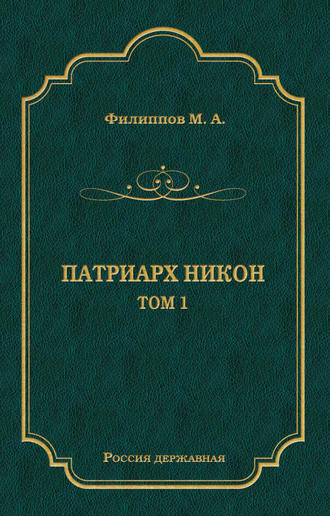
Михаил Филиппов
Патриарх Никон. Том 1
XLV
Никону возлагает митру восточный патриарх
Никон сидит в своей рабочей комнате с Матвеевым. Они озабочены внешними делами.
Приехали и польские и шведские послы.
– Да, – говорит Никон, – мы много потеряли с изменой гетмана Богдана; возьми он Львов и овладей всею Галициею, Яну Казимиру не было бы где укрепиться и откуда воевать. Теперь все почти города Волыни и много литовских городов отпали от нас. Придется удовольствоваться одною Белою Русью, да не удастся ли захватить реку Неву и Ладожское озеро – нам море нужно.
– Да, без моря, – поддержал его Матвеев, – мы как без глаз. От голландских немцев и от англичан мы можем получать товар лишь через Архангельск, а это дорого, да и мешкотно. Иное дело, кабы море да наше. Потеряли мы много в войне с Польшей, что море не наше… После столбовского мира король свейский Густав Адольф докладывал сейму: русские – опасные соседи; границы земли их простираются до Северного, Каспийского и Черного морей; у них могущественное дворянство; многочисленное крестьянство; многолюдные города, они могут выставить в поле большое войско, а теперь этот враг без нашего позволения не может ни одно судно спустить в Балтийское море. Большие озера, Ладожское и Пейпус, Нарвская область, тридцать миль обширных болот и сильные крепости отделяют нас от него; у Руси отнято море и, Бог даст, теперь русским трудно будет перепрыгнуть через этот ручеек…
– Да, – воскликнул Никон, – не отдал бы моря блаженный Филарет, коли б он не был в плену… Это все Грамонин-дьяк… да и мы теперь будем сражаться за море.
– А столбовский мир или вечное докончание, как называют его свейцы?..
– Будет тогда вечное докончание, коли мы будем у моря, – произнес решительно Никон.
– Но царь и бояре хотят брать Ригу, – заметил Матвеев.
– А я стою за Орешков и за Кексгольм. Коль река и Ладожское озеро будут наши – и море будет наше; там мы соорудим города и ладьи, как было при новгородцах. Брать же Ригу тяжело: там Делагарди, старый воин, и трудно с ним совладеть; из-за моря у него будут и ратники, и пушки, и хлеб, и порох, и все, что нужно, а нам – подвози еще из Москвы… И Иван Грозный чуть-чуть не положил там кости.
– Царь говорит: Рига готовый город…
– Близок локоть, да не укусишь… Было бы болото, а кулики заведутся: нам нужны Нева и Ладожское озеро.
Несколько минут он ходил в раздумье и, остановившись, с неудовольствием переменил разговор; он знал, что вопреки его желанию поход под Ригу состоится и будет неудачен.
– Батюшка царь, наш благодетель, сказывал, – обратился он к Матвееву, – что был он в твоей избенке у Николы и стало царю больно, что ты, Артамон Сергеевич, и местечко-то неважное имеешь, и домишко ветхий. Я и сказывал царю: есть пустошь дворцовая, там и терем можно поставить, и огород развести, и сад, да и службы возвести.
– Благодарствуем, великий государь и отец наш, за заботы о наших нуждах, вечный богомолец твой. Где же взять казну на обзаведение? Нужно и того и сего; собрались ко мне сотенные гости с хлебом с солью и поклоном, дескать, мы сами соорудим домишко… А я поблагодарил, посул отродясь не брал…
– Царь и пенязи даст, и людей, и всего, что нужно… камень, лес…
– Благодарствуем… не заслужил… А коли батюшка царь уж так милостив ко мне, так от царской милости грех отказываться: ведь милость от Бога аль от царя.
Матвеев при этом низко поклонился патриарху до земли.
– Я чувствую себя сегодня не так хорошо, – сказал вдруг патриарх.
– Много работаешь, великий государь и святейший отец наш.
– Что ж делать! Царь все взвалил на меня; ни от кого не хочет слушать докладов по делам, окромя меня. Да, хочу тебе показать митру… Я изготовил ее ко дню приезда антиохийского патриарха Макария – я жду его с часу на час: митра стоит пять тысяч. Очень она красива. Погляди.
Патриарх открыл ящик, вынул митру и показал ее Матвееву.
Тот пришел в восхищение: работа была действительно изящная: драгоценные камни, жемчуг и финифть были с большим вкусом распределены на ней.
– Патриарх Антиохийский, – сказал Никон, – возложит на меня эту митру, и тогда лишь я буду настоящим патриархом.
– Отчего же, святейший отец, ты сам не возложишь ее на главу свою – ты же такой святейший, как и антиохийский Макарий.
– Это так, Артамон Сергеевич; но как молитва к Царю Небесному не лишня, так и благословение и рукоположение никогда не бывают лишними, и благодать Божья снизойдет на меня и наставит меня, как дальше пасти стадо Христово. Притом это нужно для киевского митрополита. Велики были святители, мои предшественники, но они не понимали, что для соединения церквей нужно единство, а не рознь в обрядах и богослужебных книгах. В тысяча шестьсот двадцатом году на соборе великий Филарет решил, что кто не крестился погружением, тот должен быть перекрещен, – это теперь препятствует к переходу к нам из других христианских исповеданий, – мы, говорят они, не язычники… а расколоучители погружение отрицают; ну пойди ты… Да, Артамон Сергеевич, много хлопот и забот наделали церкви митрополит Иов и патриархи Филарет и Иосиф. Испортили они книги церковные и ввели соблазн и раскол. Нельзя же оставить это так; при этих порядках ни Белая, ни Малая Русь не будут с нами дети одной и той же церкви. Наши же попы упрямы и только мятеж производят – ничего не хотят знать и слышать.
Когда так говорил Никон, вбежал впопыхах служка и объявил, что дали знать по пути из Киева, что патриарх Антиохийский Макарий приближается к Москве.
Никон велел заложить свою колымагу, приказал всему двору своему ехать с ним, распорядился, чтобы начали звон во всех церквах и чтобы все митрополиты, архиереи и архимандриты, находившиеся в то время на Москве, явились в Успенский собор для встречи патриарха. Послал он тоже оповестить об этом царя.
С крестом и Евангелием встретил Никон патриарха, облобызался с ним и взял его в свою колымагу.
Москва, услышав трезвон, высыпала на улицу и народ закипел в Кремле у Успенского собора. Царь с боярами явились тоже туда, чтобы встретить гостя и везти его оттуда к царской трапезе.
Едва показалась на площади патриаршая карета, как весь народ пал ниц, а патриархи Макарий и Никон благословляли троеперстно народ.
Это было полное торжество православия, то есть греко-восточного исповедания.
Другой день был воскресный. Оба патриарха служили, и когда литургия отошла, патриарх Антиохийский, благословив Никона, возложил на него патриаршую митру. После возложения патриарх Макарий смиренно пал ниц и поклонился в ноги Никону; Никон сделал то же самое, и они оба поцеловались и прослезились.
Царь и народ в этот миг пали ниц, чтобы принять благословение обоих архипастырей, и когда они оба вышли со светильниками и благословляли народ, то многие в народе рыдали от умиления.
Возложением этим Никон хотел показать и боярам, и народу, и духовенству, что он сидит на патриаршем престоле не только по избранию российского духовенства, но и по венчанию восточной церкви.
Цель была достигнута: все присутствовавшие при этом были сильно поражены, в особенности когда патриархи сели в карету, а царь впереди их верхом указывал им путь ко дворцу, где ожидала их трапеза.
При трапезе царь сидел посередине, а патриархи по бокам.
Высшие сановники царства подносили блюда обедавшим.
За ум и гений большего величия худородному сыну села Вельманова и курмышанину, как называли его раскольники, не могло, кажется, выпасть на земле.



