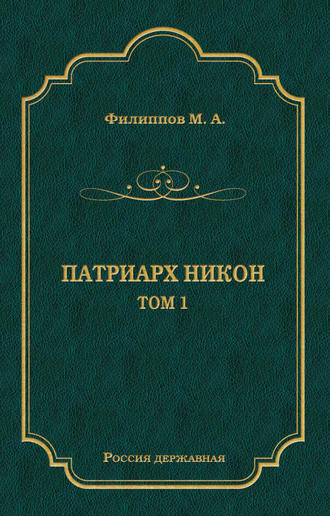
Михаил Филиппов
Патриарх Никон. Том 1
IX
Хоть тресни, да женись
Переехал отец Никита в Москву и думал: вот где я отдохну душой, да и жена моя оживет.
Вначале и казалось, что оно так будет: он устроился в церковном своем домике скромно, но уютно и рад был, что Нефед Козьмич был от него недалеко.
Почти ежедневно он захаживал к нему, и они вдвоем как бы слились душой.
Не была ни у одного, ни у другого в утайке ни одна мысль, ни одно чувство.
Часто говорили они о несчастной Хлоповой и об ее смерти; но Нефед Козьмич утешал его тем, что для счастия Руси, быть может, и лучше, что царь женился на Марье Владимировне Долгорукой, так как и по красоте, и величью, и по уму – это истинная царица.
– Притом, – прибавлял Нефед, – коли, да сохрани господь, умрет патриарх, Долгорукие не позволят наступить себе на ногу и в царской думе будут не последние. Не дадут они в обиду ни земли русской, ни царя.
Несколько дней спустя после этого Нефед возвратился торопливо домой и был необыкновенно пасмурен.
В сильном волнении ходил он взад и вперед по передней в ожидании прихода отца Никиты, за которым он послал.
Когда священник вошел, он испугался: как говорится, на Нефеде не было видно лица.
– Что случилось? – спросил он.
– Идем куда-нибудь, чтобы нас челядь не могла услышать: случилось большое несчастье…
Он отвел его в свою опочивальню, осмотрел ее, как бы боясь, что кто-нибудь не спрятался ли их подслушать.
– Несчастье, и несчастье такое, что и сказать нельзя… Я только что от патриарха – он в отчаянии… Невестка, невестка, на которую он возлагал для Русской земли столько надежд, сильно захворала… и… и нет никакого спасения…
Отец Никита побледнел и задрожал – так известие это поразило его.
– Кто же окружал царицу? – воскликнул он.
– Все ее, царицы-инокини, родственники. Давно уже они сплетничали патриарху, что она-де испорченная: то смеется, то плачет; что она нежного сложения, а тут вдруг заболела, нельзя добиться от нее, отчего она захворала; может быть, она скажет духовнику, но теперешний ее духовник – друг царицы-инокини, и если даже та скажет ему что-либо, то он утаит правду… Мне и пришла мысль предложить патриарху тебя, отец Никита, в духовники, согласишься ли ты на это тяжелое дело?
– Соглашаюсь и готов жизнь отдать за правду! – воскликнул священник.
– Иного ответа от тебя и не ждал. Едем к патриарху.
Приехав к отцу царя, Нефед прямо повел без доклада отца Никиту в комнату, в которой патриарх принимал его уже единожды.
Филарет явно их ожидал, и после обычных земных поклонов их он обратился прямо к священнику:
– Рад тебя вновь видеть у себя. Тебе уж, вероятно, передал Нефед Козьмич о постигшем царя, меня и землю русскую горе. Царица сильно захворала, на духу она, быть может, сознается, в чем ее болезнь. Нужен человек, который бы заставил ее сказать правду. Нефед Козьмич и я находим, что ты лишь один способен это сделать.
– Благодарю святейшего патриарха за доверие ко мне, но не слишком ли много возлагает на меня патриарх?
– Нет, не много. Ты красноречив и сумеешь ее убедить на духу.
– Быть может, с помощью Божьею…
– Но помни – все, что она скажет тебе, ты должен без всякой утайки передать мне как патриарху.
– Само собою разумеется, я обязан святейшему патриарху передать все, что он требует.
– Этого мало – обещаешь ли ты подтвердить все то, что услышишь на духу, даже и под пыткой?
– Обещаюсь.
– В таком разе сейчас я поеду к царю, а ты поедешь с моею свитою.
– Слушаюсь.
Священник и Нефед Козьмич вышли в сени, в ожидании Филарета.
Экипажи подали, Нефед, получив благословение патриарха, уехал домой, а патриарший поезд, в котором находился и отец Никита, двинулся к Грановитой палате[6].
Оставив свиту в сенях, патриарх вошел в переднюю; там толпились бояре; они все пали ниц перед святейшим, и тот, благословив их, пошел вперед к царю, который находился в своей опочивальне.
Здесь он застал обоих придворных лекарей: Бильса и Бальцера.
Царь дал им знак выйти; он поцеловался с отцом и потом приложился к его руке.
– Что больная? – спросил патриарх.
– Лекаря говорят – нет надежды, – ломал руки царь и горько зарыдал.
– Что за болесть у нее? Что бают лекаря?
– Ничего, говорят, должно быть, во внутренности что ни на есть испорчено, аль печень, аль селезенка, аль почки, аль кровь, аль желудок, аль легкие; да сглаз, аль наговор, аль волшебство.
– А царица сама что баит?
– Ничего, стонет, кряхтит аль закричит: «Горит голова, в животе точно жжет что, ой! моя смерть пришла».
– Кто при ней?
– Боярыни, все от матушки.
– Заходил ты к ней?
– Заходил, да боярыни бают, непригоже-де мужчине быть, коли баба в болести, – болесть-де сильнее становится… Хотел бы поглядеть на нее, хотел бы поговорить с нею, те не пущают, говорят: инокиня-царица под страхом страшной кары им наказала.
– А царица требует тебя?
– Как не требует – плачет, мечется, зовет к себе на помощь. «Ратуй, соколик ясный, красный, красное мое солнышко, покинул ты меня», – кричит она.
– В таком разе идем к ней.
– А матушка-царица? – затруднялся царь Михаил.
– Иди за мною – один я буду в ответе.
Он взял его за руку, и они, пройдя ряд комнат и коридоров, очутились в передней молодой царицы.
Она была битком набита боярынями и придворными дамами.
Патриарх благословил их и хотел войти в спальню царицы. Боярыни стали на дороге, и одна из них сказала:
– Царица-инокиня наказала не пущать-де.
– Вон! Чтобы и духом вашим не пахло во дворце впредь до царского указа.
В секунду все боярыни окаменели, но повелительный жест и вид патриарха заставил их обратиться в бегство.
Патриарх и царь очутились в опочивальне царицы.
Опочивальня была устлана коврами, по углам множество образов в драгоценных ризах, комната заставлена стульями, топчанами и низенькими татарскими столами в виде табуреток с перламутровою инкрустацией. Массивная кровать с перинами и множество подушек высились посреди опочивальни. На одном из столиков виднелся драгоценный золотой рукомойник и такая же чашка.
В комнате было несколько женщин-боярынь, боярская-боярыня, постельничая и несколько других.
Царица была на ногах, а не в постели и одета, как обыкновенно она одевалась в будни, то есть на ней был из толстой парчовой материи сарафан, а поверх него расписная кофта.
Глаза ее горели лихорадочным огнем, чудные темно-русые ее кудри немного выглядывали из-за парчового платка, украшавшего ее голову; лицо горело, а глаза немного впали. Увидя царя и патриарха, она сделала шаг вперед, упала на колени и закричала:
– Спасите… спасите… никто не хочет мне помочь… Лекарство врачей противно… омерзительно… оно еще хуже жжет мне внутренность, а боярыни вливают его мне насильно в рот… Прошу воздуха, света… прошу, чтобы меня пустили домой, к родителям… не пущают… Прошу, допустите моего соколика… моего мужа… хочу проститься, не пущают… А все-то боярыни так и лезут из другой комнаты: дескать, царица их умирает, подели при жизни свое добро… Где тут делить, коли все нутро горит и печет огнем…
– Идите прочь отсюда, людоеды, и ждите в передней! – крикнул патриарх.
Боярыни удалились поспешно.
Филарет поднял стоявшую на коленях и рыдавшую царицу.
– Что тебе, дочь моя? – говорил он нежно. – Какая лихая беда тебе приключилась?
– Сама не знаю, святой отец… Вот уже второй день… схватило что нутро… жжет, печет.
– Не дал ли кто тебе зелье какое ни на есть? Не имеешь на кого сумления?
– Ни на кого, – только прошу льду… льду дайте… проглочу, быть может, не так жечь будет…
– Льду! – крикнул бледный и дрожащий царь, взглянув в дверь передней. Потом он подошел к царице и обнял ее; она повисла у него на шее.
– Давно… давно бы так… и легче мне как будто при тебе… и не так страшно… да и умирать легче будет… Не оставляй… не оставляй меня, соколик.
– Мы с тобою останемся… с тобою… не покину я тебя, голубку мою, – успокаивал ее царь.
– Не желаешь ли исповедоваться и приобщиться? – спросил патриарх. – Может быть, получишь облегчение от благодати Божьей.
– Желаю… желаю… только прежде льду… льду давайте…
Одна из боярынь принесла на тарелке лед в кусочках и ушла.
Царица стала глотать жадно лед.
– Как будто легче, – произнесла она тихо, – только силы оставляют меня… Священника… Тоже хочу проститься с царевной Татьяной Федоровной да с родителями моими. Пошлите, пошлите поскорей… да моего духовника не хочу, он прежде все порасспросит, потом идет к царице-инокине и наговорит… Дайте другого, да только не его…
Патриарх вышел распорядиться, а царь остался с женой. Он хотел поцеловать ее в губы.
– Что ты делаешь? – крикнула она, отталкивая его. – Коли во мне зелье, то и ты отравишься. Лучше пущай я одна умру за любовь мою к тебе. Не знаешь ты, мой царь, мой соколик, мой муж, как любит тебя твоя Маша, и жаль мне так молоду умереть, но еще жальче – умрет со мною и дитя наше… А я его уже так горячо люблю… так люблю… как будто оно на руках у меня… улыбается ко мне… и ручки протягивает… Миша! – крикнула она, обняв его горячо и целуя его щеку. – В первый раз я тебя, царь, осмеливаюсь так назвать и прошу позволить тебя называть так до кончины моей! Ты не казнишь меня, и так меня уж казнили за любовь мою. А Мишей я тебя называла всегда в моих думах, и коли б родился сын, и его назвала бы Мишей… Да, Миша, никто на свете так не любил тебя и не будет любить, как я… Ведь мои-то думы и помышления все были о тебе.
В это время возвратился патриарх с отцом Никитой.
Высокий рост, темно-карие умные глаза, красивая бородка и представительный, добродушный вид отца Никиты произвели приятное впечатление на царицу.
– Благодарствую, – сказала она.
Царь и патриарх удалились.
Царица поглядела с минуту на отца Никиту, потом опустилась на колени перед иконами и стала тихо шептать молитвы, потом священник накинул на голову ее епитрахиль и начал с нею духовную беседу…
Царь и патриарх удалились в опочивальню царя и приказали, когда исповедь и причастие окончатся, велеть священнику прийти к ним.
Оба были очень встревожены, а потому у них разговор не клеился.
Раздались вдруг поспешные шаги и вбежал священник.
– Царица умирает! – крикнул он.
Патриарх и царь бросились в опочивальню царицы: они застали ее в агонии на одном из топчанов. Вокруг нее толкались уже боярыни – они укладывали ее в кровать.
Несколько минут спустя она, как мраморная, лежала уж в постели, и чрез некоторое время лицо ее начало покрываться черными пятнами.
Царь и патриарх в различных углах неутешно рыдали…
Усопшую выставили на несколько дней на поклонение народа в приемной Грановитой, потом в Успенском соборе и похоронили.
Все это было роскошно, пышно и трогательно, но царицу этим не воскресили.
После похорон и поминального обеда патриарх потребовал к себе отца Никиту.
– Я так огорчен и убит смертью царицы, – сказал он, – что потерял голову и не имел даже времени порасспросить тебя, что говорила она тебе на исповеди.
Отец Никита прослезился и произнес с волнением:
– Это был ангел… и царь и ты лишились его. Она говорила мне о любви своей к царю и к вам, святейший отец… Говорила, как благодарна вам, хотя она никогда об этом вам не высказывала. Скорбела, что с нею умирает и дитя ее во чреве. Говорила она о своих грехах, но грехи у нее ангельские. Простила она свою убийцу… и молилась за нее.
– Убийцу! – вздрогнул патриарх. – И произнесла она имя убийцы? – прошептал он, сжав кулаки.
– После долгого увещевания произнесла, для того чтобы я молился о ней.
– И кто убийца?
Отец Никита медлил.
– Говори, кто убийца, или под пыткой скажешь! – крикнул патриарх.
– Не боюсь я пытки; щажу твое и царя сердце.
– Говори, коль я был бы убийцей, то и меня не жалей… не щади… говори правду… как и где ей дали зелья?
– В Вознесенском монастыре.
– У царицы-инокини? Боже, я предчувствовал… Как же это было?
– Был праздник; почившая царица заехала к царице-инокине, захотелось ей пить, и инокиня повела ее в свою опочивальню и налила ей квасу в золотую чару… Та выпила, и по дороге она почувствовала что-то неладно… потом хуже и хуже…
– И почившая думала…
– Что царица-инокиня дала ей…
– Что, говори?
– Зелья, от которого она умерла.
– Убийца… инокиня… царица-мать, – как безумный ходил по комнате и потирая лоб, твердил патриарх. – Невероятно… как будто сон… Слушай, – остановился он пред священником, – и ты будешь свидетельствовать и под пыткой?
– Хоша жгите.
– Нет, не годится, ты клянись лучше, что никому, никому не скажешь, – это убьет царя; да и народ что скажет? в царском-де доме друг друга заедают, убивают, точно звери лютые. Нет, не говори никому, а коли скажешь кому ни на есть, то нет пытки, нет казни, которая не постигла бы тебя. Помни: тогда лишь смей произнести имя убийцы, коли я тебе прикажу. Теперь ступай с миром, спасибо за верность и правду. Но повторю снова: помни, что и во сне нельзя проговориться, не спи ни с кем даже в одной комнате и знай, что и стены имеют уши… Клянись, что это сделаешь?
– Клянусь.
– Теперь ступай и знай – милость моя тебе навек.
Когда священник удалился, Филарет бросился вон из маленькой своей комнаты и заходил быстрыми шагами по своим обширным палатам; он просто задыхался от волнения.
Множество мыслей мелькали у него в голове, и вдруг, остановившись, он крикнул окольничего Стрешнева.
Окольничий ждал всегда его приказаний в передней.
Лукьян Стрешнев тотчас явился на зов владыки.
– Лукьян, – сказал он, – несколько раз я хотел спросить, как зовут твою дочь?
– У меня две.
– Да ту, знаешь, когда я был у тебя в последний раз… такая нежненькая, белая, с темно-синими глазами… с ямочками на щеках… ты еще подводил ее под мое благословение.
– Авдотья, – обрадовался Стрешнев, что владыка обратил внимание на его дочь.
– Евдокия, – поправил его Филарет и продолжал лихорадочно: – Тотчас беги домой… окружи ее близкими родственниками… не дай ее извести…
– Святейший патриарх, ты пугаешь меня… Разве семье моей грозит опасность или – ей?
– Беги, говорю тебе, тотчас… береги ее… ты головой отвечаешь за единый ее волос… и ко мне не показывайся… дома сиди и береги свою дочь, пока я не позову тебя… Слушайся же, коли я приказываю.
Стрешнев побежал опрометью домой и по дороге думал:
«Уж не испорчен и не рехнулся ли святейший? Но как сказать жене о приказании патриарха?»
Он заблагорассудил лучше заболеть, лечь в кровать и под предлогом, что ему скучно и чтобы дочь за ним ухаживала, он задержал ее близ себя, в своей опочивальне, а вечером, отпуская от себя, он просил, чтобы жена брала ее на ночь с собою в кровать.
Прошло между тем сорок дней траура, который тогда существовал при дворе на случай смерти царя или царицы. Отслужены были панихиды по умершей, и после поминального обеда патриарх поехал навестить царицу-инокиню в Вознесенский монастырь.
Царица после смерти ее невестки Марьи Владимировны или прикинулась, или была в действительности больна, но встретила она мужа кряхтя, охая и жалуясь на разные недуги.
Патриарх выслушал это снисходительно, но с нетерпением. Когда же она кончила, он обратился к ней:
– Царица, ты все говоришь о болести телесной, а о душевной не упоминаешь: разве не болеет твоя душа, что Бог прибрал нашего ангела Марью Владимировну?
– То воля Божья, – вздохнула инокиня, подняв вверх глаза.
– Воля-то воля Божья, но разве не скорбит твоя душа, что ангела не стало, что царь Михаил вновь без жены, да и без потомства?
– Жен не стать искать: их много на свете, а вот матерь едина, – бросила ему шпильку инокиня.
– Так нужно искать ему жену и ищи, – произнес сдержанно патриарх.
– Уж ты ищи… Ты отыскал и Машку Долгорукую, заставил дать свое благословение, вот и покарал Господь за обиду матери.
Патриарх вспылил, но удержался.
– Царица, – произнес он спокойно, – я взаправду думаю день-деньской о сыне; не хочешь ты, чтобы у него было потомство, – я это понимаю… понимаю и цели твои, но этого не будет… я снова женю сына.
– И без моего благословения?
– Хоша бы и без твоего благословения.
– Кто же будет моею царицей, – рассердилась инокиня.
– Твоей и моей царицей будет Евдокия Лукьяновна Стрешнева, дочь моего окольничего.
– Авдотька! – вспылила инокиня. – Да это будет на смех курам! Щуплая… две помойные ямы среди щек… Да и Стрешневы… хамы… Не будет моего благословения… и поглядишь, и она околеет вон как та… ну, покойная Машка.
– Полно, баба, дурить-то, – вышел из себя патриарх. – Коли будет она царицей, поклонишься ты ей в ноги, как царице, и не будет она порченая: я окружу ее Стрешневыми, и будут они отвечать мне за нее головой, а к тебе, царица, не будет она ездить и пить квас.
Инокиня бросила на Филарета быстрый взгляд – лицо его было спокойно, но грозно.
– Да, – продолжал он. – Стрешневы будут отвечать за нее головой своей, и всех твоих боярынь я выгоню из дворца, а родственников и всех твоих слуг я и на глаза царицы не пущу. Я буду бодрствовать за нею и за ее детьми, коли Бог их даст, как за зеницу своего ока, и коли ее изведут, как в Бозе почившую, то… то…
– Кто же извел ту? Она сама извела себя, – прошипела инокиня.
– Кто извел ее? А вот что я тебе скажу: коль Стрешнева будет изведена, так я знаю, за кого взяться… Но вместо ссоры ты скажи, дашь ли благословие царю, коли он женится на Стрешневой?
– Не дам.
– И это последнее твое слово?
– По… последнее…
– Так вот тоже мой сказ: возьму я тебя с собой, повезу в Новоспасский монастырь, буду тебя пытать, пока не повинишься во всех твоих грехах… Вспомню я многое… вспомню я тебе и квас, которым ты угораздила покойную царицу, и многое, многое иное… Повинишься ты тогда и примешь ты схиму, и сошлю я тебя вновь в Ипатиевскую обитель до скончания твоей жизни. Вот тебе, инокиня, и мое то последнее слово. Кайся и скажи: дашь ли слово, что не будешь перечить браку сына?
– Делай что хочешь… Я ничего… Бог да благословит его… мое материнское сердце истерзано… Убивалась я за ним… за сыном-то, а ты угрозы свои напущаешь… Господь с тобой… я больна… и конец-то мой близок… а ты еще… да Бог с тобой.
– То-то, ты помни только – я все знаю и прощаю… прощаю, ибо ты родила царя Руси Михаила Федоровича Романова, Богом избранного, Богом венчанного… Не подобает по этой причине ставить тебя на позор. Но коли ты не покаешься, так глаголю тебе: горе тебе будет и фарисеям твоим… Теперь еду к царю.
Не дав даже ей благословения, Филарет поехал к сыну.
Царь Михаил после смерти жены совсем раскис: он весь день ходил, как шальной, и то плакал, то хохотал без причины. Называли эту болезнь Бильс и Бальцер, придворные врачи, флуксус церебралис, сиречь, приливом крови в голове, вследствие плача и множества поклонов, которые делал по нескольку раз в день царь.
Патриарх застал его за этим же занятием в его опочивальне.
– Полно те убиваться. – сказал он, – молод ты, да и царствовать нужно. Назавтра Боярская дума – ты и приезжай.
– Да уж очень, очень сердце болит за покойницу… так и стоит в очах моих.
– Полно, говорю тебе, сын мой, убиваться-то. Была то воля Божья, а не наша… Да к слову, вот тебе и жениться снова надоть… невеста уж ждет тебя.
– Как жениться? Коли я не хочу… Да как же после-то Марьи Владимировны, да жениться? – недоумевал царь Михаил Федорович.
– Да так и женишься.
– А коли я не хочу?
– Царь не может, не смеет этого сказать; хоть тресни, да женись – тебе и царству нужен наследник.
– Да как же? Любил одну, та умерла, теперь женись на другой, а та еще снова помрет: плачь, убивайся, да хорони, да поминки справляй, уж лучше не женюсь: уж прошу, святейший отец, не жени. А матушка благословение дает?
– Дает.
– Ну, коли дает, так и я… благослови.
– Спасибо, я знал, что не откажешь.
Патриарх благословил его, поцеловал и хотел уйти, да вспомнил:
– Эх! Да я и забыл-то тебе сказать, кто невеста.
– А кто?
Обрадовался царь, что, по крайней мере, узнает кто невеста.
– Дочь Стрешнева, Евдокия Лукьяновна: девица богобоязненная, прекрасная, будет отличная тебе жена, а нам и земле русской царица.
– Евдокия, Авдотьюшка… ничего… спасибо, святейший отец, что радеешь обо мне, а уж я думал, вовек не женюсь.
– Женим, – проговорил патриарх, уходя поспешно.
– Отец сказал мой: коли царь, так женись, хоть тресни… Этого-то не знал, да и матушка не говорила, – бормотал царь себе под нос.
Возвратясь к себе, патриарх послал за Стрешневым. Тот вскоре явился.
Патриарх испугался, взглянув на его постное, исхудалое лицо.
– Ты болен? – спросил он.
– Здоров, святейший патриарх, да вот лежал в постели.
– Чего же лежал?
– Наказывал ты, дескать, сиди дома, хоша прикинься в болести, я и прикинулся, а дочь-то от себя не отпущал, – все у кровати сидит, а жена на ночь к себе брала… Все сумление что ни на есть…
– Чудак ты, – улыбнулся Филарет. – Да ты, чай, и дочь-то заморил?
– Уморить-то не уморил, а оченно было – не выпущал со двора.
– Так беги же, выпусти ее на воздух, только береги ее пуще прежнего, береги ее… Я прошу тебя, сват.
– Кум, – подсказал Стрешнев.
– Нет – сват… ведь мы теперь сваты; ты не окольничий, а уж боярин, настоящий царский тесть, а дочь твоя невеста царская.
Стрешнев точно обезумел – он пощупал себя за лоб, а потом прослезился:
– За верную-то мою службу не заслужил я глумления, святейший отец.
– Полно-то дурить… Шутки не шутит патриарх всея Руси, да еще с кем, с верным царским холопом. А вот ты подь, да оповести жену и дочь-то свою, Евдокию Лукьяновну, да за попом, да молебен… а девичник мы завтра справим в Грановитой, в царских палатах… а там с Богом и за свадьбу… на то воля царя и благословение наше и материнское.
Стрешнев тогда бросился к ногам патриарха, но тот поднял его и поцеловался с ним.
– Ну, сват Гаврилыч, коли Бог благословит нас и мы отпразднуем свадьбу твоей дочери, так уж и ты, жена твоя и дети твои должны будут не отходить от царицы, – такова воля и царя и моя. Теперь ступай с миром, порадуй семью и помни: за Богом молитва, а за царем служба не пропадают.
Несколько месяцев спустя свадьба царская состоялась еще с большею пышностью и великолепием, чем первая.



