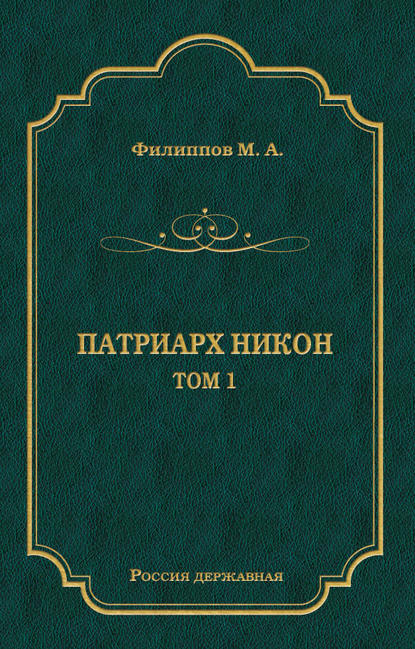 Полная версия
Полная версияПолная версия:
Михаил Авраамович Филиппов Патриарх Никон. Том 1
- + Увеличить шрифт
- - Уменьшить шрифт

Филиппов Михаил Авраамович
Патриарх Никон. Том 1
I
Мордовский шаман
90 верстах от Нижнего Новгорода, в теперешнем Княгининском уезде, в 1605 году стояло село Вельманово, или Вильдеманово, а по раскольничьим источникам – Курмыши. Местность эта была трущобная, и село раскинулось в сторонке от дорог, в лесу. Все представляло в нем бедность, если не прямо нищету населения – старые избы, ветхая церковь.
Все постройки, потемневшие от времени, как-то теснились друг к другу, как бы из опасения не устоять одним.
Был прекрасный майский полдень. Деревья оделись уже листвой, запахло елью, сосною и березою, а певчие птички заголосили и защелкали на тысячи ладов.
Из одной из самых бедных изб вышел в это время крестьянин. Роста он был большого, мускулистый, плечистый, с светло-русою бородою; но голубые глаза богатыря светились такой добротой, а все лицо таким добродушием, что казалось, будто голова на этом туловище чужая.
Крестьянин с озабоченным и оторопелым видом, без шапки выйдя из избы, взглянул в ту сторону, где была церковь, и, перекрестясь, направил туда шаги свои.
Он подошел к небольшой, но чистой избушке священника и остановился у ворот; черная мохнатая жучка было облаяла его, но, узнав мужика, стала к нему ласкаться.
На лай собаки вышел сам батюшка – невысокий человек, с редкою бородою и умными глазами.
– А, Минич, это ты, сердечный… что скажешь? Аль жена родила?
– Бог сподобил, – осклабил белые зубы мужичок, целуя руку батюшке, – сына дал, и имя ему нареки, отче. Благослови, отец Василий, молитву прочитай над младенцем.
– Сейчас… сейчас, – засуетился отец Василий.
Несколько минут спустя он вышел в епитрахили, с крестом и молитвенником. По дороге он заговорил, обращаясь к Миничу:
– Сегодня память мучеников Исидора и Максима, святого Исидора юродивого; а также преподобных Никиты и Серапиона, – выбирай имена, все Божьи угодники[1]…
Минич призадумался, и мысль ему пришла: один Исидор был великомученик, другой юродивый, уж будет ли хорошо назвать так и моего единородного; уж лучше назову его именем одного из подвижников Христовых – аль Никитой, аль Серапионом… И в этих мыслях он отвечал батюшке:
– Женка что скажет… дело женское… она назовет, а батюшка благословит.
– Пущай так.
Пришли они в избу. Внутри чистота, а на полатях сидит молодая женщина, белолицая, с добрыми темно-серыми глазами, да держит младенца в пеленах.
В парадном углу образ Божьей Матери, весь в шитых полотенцах, да лампадка горит, а тут же стол и на нем хлеб-соль да три свечки восковые.
Стал батюшка у образа, а Минич в это время подошел к жене и перешептывался об имени, какое нужно дать новорожденному, и жена его остановилась на Никите.
– Никой буду звать, – пояснила она.
Минич передал батюшке желание жены, чтобы младенца наречь Никитой.
Батюшка совершил благословение и, когда кончил, сказал хозяйке:
– Ну-ка, Марианна, теперь похвались ребенком…
Та раскрыла младенца, он был необыкновенно крупен.
– Экий богатырь, – невольно воскликнул батюшка, – а родить-то каково было!
– Три дня мучилась, – застонала родильница.
– И Бог воскресе в третий день, а в сороковой вознесся в славе одесную Отца, – произнес вдохновенно священник. – Благодать Божья да почиет на младенце, и да будет он подвижником Христа, как святой Никита…
И пока Минич стал готовить угощение батюшке, тот обратился к хозяйке.
– Дед мой, – так рассказывал он, – умер очень стар и помнил многих царей; а отцу моему рассказывал об опричнине, и о казнях лютых. Бысть глад, – присовокупил он, – по всей земле русской, а больше в Заволжье: во время жатвы дожди были великие, а за Волгой мороз хлеб побил, и люди помроша; а зима студена и снега паче меры. Тут игумен Спасский, Маркел, Хутынского монастыря, оставя игуменство, жил в Антоновом монастыре, да сотворив житие Никите, епископу Новгородскому, и канон, поехал к Москве… А после святой, гляди, и обрели мощи святого Никиты и перевезли их в Москву… И стал святой Никита чудо творить, что и словами не опишешь… Великий чудотворец!
Священник набожно перекрестился, примеру его последовали и хозяева.
Помолчавши немного, батюшка продолжал:
– Был еще святой столпник Никита, игумен Переяславский… Великий чудотворец… Жил он в столпе… то было в княжение Всеволода Третьего. Юный князь Михаил, сын Всеволода Чермного, немощен был и, услышав о чудесах столпника, поехал к нему в Переяславль. Принесли недужного к столпу, он пал ниц и рек: «Св. отче, прости мои согрешения и исцели мя недостойного раба Божьего». Поднял тогда свой жезл столпник и рече: «Господь Бог прощает кающихся, и имя его исцеляет недужных». – Прикоснулся он жезлом к Михаилу и крикнул: «Христос воскресе, встань и ты». Князь встал, исцеленный и радостный; а бояре срубили крест и надписали на нем 6694 год (1186). Паломники и теперь ходят туда и приносят оттуда по кусочку креста.
Едва отец Василий кончил рассказ, как появился на пороге шаман мордовский из ближайшего мордовского селения. Каждое лето он нанимал на сенокос Минича.
Увидев батюшку и новорожденного, он догадался, в чем дело, и спросил:
– Сына Бог дал?
– Сына, – отвечал хозяин.
Тогда шаман пошептал какую-то молитву и, подойдя к хозяйке, сказал:
– Покажи сына, не сглажу; отплюешь три раза, а я скажу, чем он будет.
Мать неохотно раскрыла младенца. Взглянув на него, шаман затрепетал, упал на колени, стал бормотать какие-то молитвы, потом произнес восторженно по-мордовски:
– Будет он царь не царь, а выше царей, князей и бояр; будет он и богат, и нищ, и знатен, и убог; выстроит он не то города, не то монастыри; будут туда ездить и цари, и бояре, и князья, будут за него молиться и будут проклинать; будут люди злобствовать, что царь и великий дух его взыскал, но он победит всех врагов; блажен он будет, как ни один из живущих здесь, и землю он прославит, на которой он родился и где будет погребен…
С этими словами шаман сорвал с своего ожерелья одну золотую монету и, кладя ему в пеленки, поцеловал его, со словами:
– Пусть это золото умостит тебе дорогу, какую уготовал тебе сам великий дух.
На хозяев эта восторженность подействовала неприятно, и на лицах их выразилось не то недоумение, не то страх.
– Что ты, что ты, – заметил скромно Минич. – Мы люди простые, а изба наша и ветха и холодна, да и не за что Богу взыскать нас и сына нашего милостью своею.
– Не говори это, Минич, – серьезно и строго произнес батюшка, – коли Бог захочет взыскать своей милостью кого, то и взыщет, хоша ты и крестьянин, и в убожестве. Родился Христос Бог наш в яслях, да на поклонение пришли к нему и волхвы и цари языческие, – и младенцу сему дано знамение – привел к нему Сам Господь на поклонение шамана языческого… Да будет же знамение это и путем Господним. Пью здравицу за новорожденного! – И с этими словами батюшка осушил стоявший на столе сосуд с пенным вином.
II
Мне путь – один лишь монастырь
Когда Ника стал сознавать все окружающее, ему было так хорошо и привольно. Мать так нежно с ним обращалась, да и отец, как возвратился из города, куда он часто ездил по извозу и со своими хлебушком, или пряников, или орехов навезет, а иногда и сапожки, и ситцу на праздничную рубашонку. И выйдет Ника из избы на улицу, и весело ему там щеголем поиграть с детьми: зимою в снежки да в салазки, а летом – в прятки в ближайшей лесной гуще.
Но слегла однажды зимою мать, застонала и более не вставала, даже Нику не узнавала, а к Рождеству перестала она говорить, обмыли ее и положили на стол, потом явился священник, читал что-то, кадил, потом простились все с его матерью и его заставили поцеловать ее. Когда он приложился к ней и почувствовал холодное ее тело, да увидел закрытые ее глаза, – он испуганно зарыдал и обмер.
Когда он очнулся, он увидел возле люльки своей какую-то чужую женщину с заплетенными косами.
– Мама! – стал он кричать.
– Мамы твоей нет…
– Где мама? – неистово заревел Ника.
– Я буду тебе мамой, – сердито закричала на него сидевшая близ него женщина.
Ника испуганно сдержал свой крик и, оглядев крикнувшую на него женщину, узнал в ней соседку, ходившую часто к ним и через которую мама нередко бранилась с отцом.
Ника приподнялся из люльки и увидел сидевшего на скамье у образов отца; он что-то делал.
– Где мама? – отчаянно крикнул Ника.
Отец вздрогнул, подошел к нему и, обняв его, кротко сказал:
– Маму твою Бог принял.
И Ника повис у отца на шее.
– Полно-то баловать парня, – озлобилась сидевшая здесь женщина; вскочила со своего места, насильно оторвала его от отца и, ударив его несколько раз, бросила обратно в люльку.
Больше Ника ничего не помнил; когда же вновь очнулся, то увидел ту же женщину, только с платком на голове.
Ника испуганно на нее взглянул, вспомнил, как она оторвала его руки от шеи отца и как она больно его била.
– А паренек-то очнулся, – послышался ее резкий голос. – Неча сказать – живуч, точно котенок…
На это замечание отец подошел к люльке и нагнулся к Нике; тот боялся его обнять, но поцеловал его горячо. При этом он почувствовал, что горячая слеза отца капнула ему на лицо. Эта капля была чудодейственна – Нике сделалось так легко и так захотелось ему жить; а тут, как нарочно, солнышко-ведрышко заглянуло в окно…
С этого дня Нике становилось все лучше и лучше, и он вскоре встал из своей люльки, а матери все нет как нет, спросить же не смеет, – еще сердитая новая мать прибьет.
Растет Ника не по дням, а по часам, мачеха поэтому и злобствует – то нужно другие сапоги купить, то рубашонку новую шить, а не то Ника много ест, Ника не там сидит, не там стоит.
И все это говорится с бранью и ему и отцу, а зачастую ни за что вихры натянет, уши нарвет или чем ни на есть отколотит да накажет – отцу-де ни гугу! Иначе со света сживу…
Была осень; отец и мачеха куда-то ушли и дома не ночевали. В избе было холодно, и Ника со страху и с холоду забрался в печь и сладко в самой глубине ее заснул, свернувшись, как котенок. Спит он, и снится ему его мама: в белой она одежде, светлая, ясная такая и как будто свет от нее исходит. Простирает он ей свои худенькие ручки, хочет ее обнять и кричит:
– Мама, возьми меня от злой мачехи… отчего ты ушла?..
Но та глядит только на него любовно, ничего не отвечает, а тут что-то жмет его голову и что-то душит: он вскрикивает и просыпается… Оглядывается он, силится вспомнить, где он, и видит, что он в печи, а тут кто-то наложил в печку дров и подложил уже огонь, дрова чуть-чуть еще тлеют, и дым выносится в трубу, но через несколько минут или дым его задушит, или он сжарится. Он силится выбросить дрова, но дым от потухших головней душит его страшно. Начинает он вопить, и, к счастью, кто-то входит в избу, выбрасывает дрова и вытаскивает его из русской печи.
Ника от страха и удушья падает в обморок: спасительница его обливает ему голову водою и приводит его в чувство; он узнает одну из деревенских вдов Ксению.
В это время входит мачеха и, узнав в чем дело, бьет его жестоко и вопит:
– Вот что вздумал, в печи спать? Да хоша б и сгорело зелье…
Вдову возмутило это, и она начала умолять мачеху отдать ей Нику на воспитание.
– Возьми, корми и одевай его, да с тем пущай мне служит.
Согласилась на это вдова и взяла к себе ребенка да стала ходить за ним, как родная мать…
Проходит так время, а он все растет да растет, так что мачеха сначала гусенят заставляла его пасти, потом свиней, а там и скотинку загнать в хлевок и дров аль воды принести.
Той порой и родись у его мачехи девочка; вначале ему весело было видеть живое существо, которое ему улыбалось, но на другой годок мать стала заставлять его носить ее по целым дням. Измается Ника своею ношею и посадит под дерево свою сестренку, а сам глядит, как муравьи тащут разные разности в гнездо свое; и диву он дивится, как такое маленькое существо имеет такую сметку: обойдет и камушек, и лужицу; и думает Ника: как буду большой, все это узнаю, обо всем проведаю, порасспрошу больших; спросил бы маму – прибьет, отца спрошу, а тот – «так Бог дал». Кто же тот Бог? Спроси, говорит, батюшку, тот больше меня знает.
И сделался батюшка идолом Ники, потому что о чем бы он ни спросил отца, тот все на батюшку указывает.
И вот Ника зачастую носит сестренку к избе батюшки и ждет по целым часам, чтобы увидеть его, а тот, как, бывало, выйдет из избы, непременно погладит его по головке и замолвит к нему несколько ласковых слов да скажет:
– Расти, расти, богатырь мой, выйдет из тебя человек. А «Отче наш» помнишь?
– Помню, батюшка.
– Так научу тебя «Богородицу».
И сядет батюшка на скамью у избы своей, и учит он терпеливо Нику «Богородицу», и дивится он его смышлености и памяти.
Так за лето батюшка выучил его многим молитвам, кондакам, ирмосам и акафистам, а как настала зима, упросил он вдовушку Ксению и Минича, чтобы они посылали к нему Нику для изучения грамоты.
За одну зиму Ника уже бойко читал и выводил довольно правильно каракульки тогдашней письменности. Между тем жизнь его сделалась невыносима, мачеха давала ему непосильные работы, подымала его с петухами и позволяла ему идти спать к Ксении, когда ей уже самой невмоготу вынести.
И чего Ника не делал? И работу жнеца, и работу швеи. И корову выдой, и лошадь убери; сапоги почини и рубаху аль кафтан заплатай.
Всему этому он не перечил и все делал с улыбкой, и работа у него шла исправно, да мачеха всегда бывала недовольна, и вместо поощрения на него сыпались лишь тумаки куда и чем ни попало.
Злобило это Нику и думал он думу:
«Господь, говорит батюшка, милосерд, всепрощающий, всеблагий, а людей зачем он создал такими злыми, неправедными…»
И заходит однажды Ника к батюшке, чтобы тот разъяснил ему это: мысль эта мучит и жжет его, она требует ответа.
На вопрос Ники батюшка задумался и, вздохнув, сказал:
– Не создал Бог людей злыми, а люди сами делают себя такими, они не хотят учиться слову Божьему, а оно говорит только о любви. Видишь ли, Ника, одним крещением человек не делается добрее, а нужно еще крещение духовное.
– Что такое крещение духовное? – спросил Ника.
– Крещение духовное – это слушание и усвоение себе слова Божьего; ибо оно одно только ведет к Царствию Небесному и к богоугодной жизни, ко всякому благу и душе спасению.
– Батюшка, – воскликнул тогда Ника, – дай же и мне услышать это слово Божье, чтобы спастись и попасть в Царствие Небесное.
– От тебя это зависит, Ника, я уговорю отца твоего, чтобы он отдал тебя ко мне, с тем что я выучу тебя и Священному Писанию, и поучениям Святых Отцов, и разным житиям святых угодников и подвижников. Выучу я тебя, как служить обедню, вечерню, заутреню, молебны и другим службам и всяким дьяконским обязанностям. И будешь ты со временем аль дьякон, а может быть, и повыше. А ты это и мне сослужишь службу: я без дьякона, и ты будешь помогать мне в церкви.
– Батька и мама не отпустят меня, – сказал Ника.
– Отпустят, коли скажу, что заработки твои пойдут к ним.
Ника схватил руку батюшки, поцеловал ее и прослезился.
– Да только поскорее, – всхлипывал он.
На другой день батюшка зашел к Миничу и представил ему такую блестящую будущность для Ники, что у самой мачехи глаза разбежались, и они отпустили его к священнику.
Отец Василий, как малоросс, воспитывался в Киеве и был для того времени очень просвещенный человек; он не только изучил всю тогдашнюю богословскую литературу, но знал почти наизусть все летописи и греческий язык; притом он обладал светлым природным умом.
На Нику он имел огромное влияние своею добротою – тот терпеливо слушал его и в несколько лет изучил все то, что сам батюшка знал, а церковную службу он изучил всю наизусть.
Кроме батюшки в доме было еще одно существо: это девочка, дочь священника, тремя годами моложе Ники.
Последний вообще любил детей и в сестренке своей души не чаял и часто носил ей гостинцы, то со свадьбы, то с крестин, на которых он служил с батюшкой. О дочери же священника и говорить нечего: он по целым часам просиживал с нею и рассказывал ей о божьих людях, угодниках, подвижниках, о народах и землях; только один греческий язык был выше ее понятий.
Так они росли вместе и жить не могли друг без друга; горе и радость одного были горем и радостью другого.
Мачеха заметила это, и сделалось ей и больно и досадно, что Ника отдает предпочтение пред ее дочерью дочери священника, и вот зашла она однажды к батюшке и наговорила ему с три короба: что он-де не глядит за своею дочерью, а люди смеются, что они с Никой точно жених с невестой. Озлился батюшка и на Минишну и на дурные толки, выругал доносчицу, но с этого времени он удалял Нику от своей Паши. Молодые люди это заметили, и им сделалось обидно и больно, но в угождение отцу они начали при других удаляться друг от друга и втихомолку перешептывались.
Таинственность и запрет расшевелили кипучую и нежную натуру Ники, и он однажды поцеловал девушку… Всю ту ночь он не спал, плакал и молился; вспомнил он об угодниках, умерщвлявших плоть свою, и о дьяволе, принимающем различные образы для искушения человека, и сделалось ему страшно и за грех свой, и за свой поступок. Хотел он ночью же разбудить батюшку, броситься к его ногам, исповедаться и просить прощения его согрешениям.
Он уже поднялся со своего ложа, вот уж он у постели старика, но из другой комнаты слышится голос девушки: она бредит во сне: «Ника, – говорит сладкий голосок, – Ника, люблю тебя… Люблю, мой сокол»…
Вне себя Ника идет в другую комнату, не помня себя, обнимает спящую и горячо… горячо целует ее.
Очнувшись, он одним скачком вернулся к своему ложу, бросается на постель и, уткнув лицо в подушку, рыдает и шепчет:
– В монастырь… мне путь – один лишь монастырь…
III
Макарьевская обитель
На другой день Ника избегал встречи и с батюшкой, и с его дочерью, забравшись в гущу леса. Он написал священнику письмо, в котором, изложив свое желание посвятить себя служению Богу, извещал его, что он удаляется в монастырь Святого Макария.
Положив письмо это на столик, Ника ночью поднялся тихо со своего ложа, вышел из избы и, взяв на дворе из повозки приготовленный им днем посох и котомку с хлебом, упал на колени, помолился и вышел за ворота.
Тихою поступью направился он из села. Ночь была лунная, летняя, и вся окрестность живописно рисовалась в его глазах. Ему сделалось жаль того места, где так много он страдал и где вместе с тем он был так счастлив. Сделалось ему жаль даже ветхой их церкви, развалившихся заборов, деревенских собак и всей неприглядной здешней обстановки.
Сердце у него сжалось, слезы полились из глаз, и он хотел было уж вернуться в село, но что-то как будто шепнуло ему: «Это плоть говорит в тебе – не станешь подвижником, коли не будешь умерщвлять плоти своей».
При одной этой мысли Ника стал читать «Помилуй мя Боже» и, перекрестясь три раза, пустился в дальнейший путь к Унже.
Чтобы рассеять свои грустные мысли, стал Ника вспоминать, что рассказывал ему батюшка о святом Макарье, которого называли Желтоводским.
Этот великий подвижник основал монастырь на берегу Унжи, вблизи черемисов, мордвы и казанских татар, чтобы внести туда свет Христов. У этого-то монастыря раскинулся маленький городок Макарий. Во времена княжения Василия Темного монастырь был сожжен казанскими татарами, а монахи или перерезаны, или полонены; горожане же разбежались, но потом место это немного населилось, так как торговый путь чрез него шел в Казань.
Но Бог судил этому месту иное; при отце Ивана Грозного казанский царь перерезал у себя без причины всех московских купцов и посла государева Василья Юрьева (одного из предков ныне царствующего дома). Великий князь Василий Васильевич пришел в великий гнев и, отправившись в Нижний Новгород, послал царя Шиг-Алея, князя Василия Шуйского – с судовою, а князя Бориса Горбатого с конною ратью.
Военачальники резали и истребляли все на пути, а при устье Суры основали крепость; оставив здесь гарнизон, Алей и Шуйский возвратились в Нижний.
Весною полки, гораздо многочисленнейшие, выступили в Казань, чтобы завоевать это царство.
Войско простиралось до ста пятидесяти тысяч человек, в числе их были наемники из литовцев и немцев.
Войсками командовали Шиг-Алей, князь Иван Бельский и Горбатый, Захарьин (тоже один из предков царствующего ныне дома), Симеон Курбский и Иван Лятцкий. Царь казанский Саип Гирей, узнав об этом, бежал в Крым, оставив в Казани 13-летнего племянника своего Сафа Гирея.
Татары, черемисы и мордва присягнули мальчику и готовились к обороне.
Главный воевода Иван Бельский 7 июля высадил за Казанью пред Гостиным островом судовую рать и, расположив войска на берегу реки, двадцать дней бездействовал.
Между тем казанцы вышли из крепости, расположились тоже лагерем и не только беспокоили, но истребляли и травы и хлеба, чтобы оставить нас без припасов.
Воеводы наши почему-то глядели на это хладнокровно, и когда в Казани сгорела крепостная деревянная стена, то на глазах наших войск казанцы построили новую.
Вдруг разнеслась весть, что наша конница перерезана; войсками нашими овладел такой страх, что они чуть-чуть не разбежались; но оказалось, что только один отряд уничтожен черемисами; другой же, напротив, на берегу Свияги одержал над черемисами и казанцами победу.
Войска ждали, между прочим, из Нижнего подвоза пушек и припасов, которые князь Иван Палецкий должен был доставить на судах.
Но с ним случилось несчастье: в том месте Волги, где имеются острова, черемисы запрудили ее каменьями и деревьями. Когда суда князя Палецкого подошли к этому месту, они, вследствие сильного течения реки, разбились о камни, а черемисы с высокого берега бросали в русских бревна и каменья.
Несколько тысяч людей были убиты или утонули, и князь, оставив в реке большую часть военных снарядов, лишь с немногими судами достиг стана. Отсюда и пошла в народе поговорка:
С одной стороны черемисы,А с другой – берегися.Медлить дальше нельзя было, и Иван Вельский наступил на Казань. Казанцы, черемисы и мордва заперлись в крепости.
Началась осада, и Казань едва бы выдержала ее, тем более что немцы и литвины жаждали штурмовать крепость, но воеводы предпочли взять с Казани подарки и под предлогом, что казанцы пошлют в Москву послов с повинною, – отступили. Но их ожидала Божья кара – они заразились в Казанской области какою-то болезнью, и более половины рати, то есть около ста тысяч воинов, умерла на пути отступления.
После этого бесславного похода было заключено с казанцами пятилетнее перемирие; но государь запретил русским купцам ездить для торговли в Казань, а для этого назначил город Макарьев.
Так возникла знаменитая ярмарка Макарьевская, впоследствии перенесенная в Нижний Новгород, монастырь же Святого Макария усердием купцов вновь отстроен.
В эту-то святую обитель Ника устремился, чтобы сподобиться подвижничества на пути просветления татар, черемис и мордвы.
Шел он в таких думах три дня, и на четвертый, голодный, весь в пыли, он приблизился к монастырю.
Было послеобеденное время, и колокола монастыря звали к вечерне. Не встречая никого на дворе монастырском, Ника подошел к колокольне, чтобы послушать музыкальный перезвон и дождаться, когда звонарь, окончив его, сойдет вниз.
– Единогласие, – подумал Ника, – производит такое успокоение, и у своего батюшки я ввел это при богослужении, а то в других приходах: иерей читает одно, дьяк другое, клир третье, а народ бормочет на разные лады, кто «Отче наш», кто «Богородицу».
Мысль эту перебил сошедший с колокольни низенький подслеповатый иеромонах. Он был в одном подряснике и в шапочке. Увидев высокого, почти трехаршинного статного крестьянина, с палкою и котомкою на плечах, он принял его за паломника.
– Откелева? – осклабил он желтые свои зубы.
– Издалека.
– Паломничаешь?.. Богоугодное дело… богоугодное…
– Не паломничаю, а поклониться пришел святым мощам Макария, поклониться и молить его заступничества у игумена сей святой обители, и да причислит он меня в виде послушника к святой вашей братии.
Иеромонах поднял вверх голову, взглянул на Нику и произнес полушутя:
– Да тебе в княжескую рать, а не в послушки; здесь тоже солоно хлебать – день-деньской в работе, а ночью на страже. И коли не грамотен, то век промаешься в послушках.
– Грамоте обучен и службу всякую церковную знаю; Евангелие, писание Святых Отцов и правила и греческую мудрость изучал…
Иеромонах прищурил глазки и сказал:
– Всякая ложь и гордость – бесовское наваждение… Откуда ты, паренек, мог у отца своего научиться так, да в такие годы… чай и двадцати нет.
