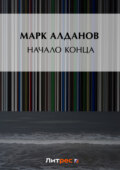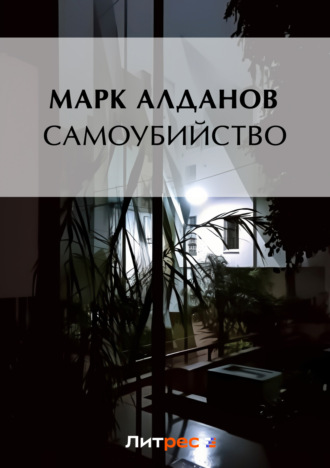
Марк Алданов
Самоубийство
– Я могла бы вас понять, Аркадий, если б вы ненавидели только революцию, вы всегда были человеком правых взглядов. Но теперь вы, оказывается, ненавидите в России все и всех!
– Вы, Таня, тут, быть может, не судья: вы все-таки не совсем русская, но…
– Фамилия «Рейхель» тоже не очень русская! – сказала Татьяна Михайловна. Лицо у нее покрылось пятнами. Так они до сих пор никогда не разговаривали. Аркадий Васильевич сам это почувствовал и положил холодную ладонь ей на руку.
– Не сердитесь, милая, вы знаете, что я вас всегда любил и люблю, – довольно искренно сказал он. – Но почему вообще надо непременно любить соотечественников? Мне какой-нибудь Роберт Кох в сто раз дороже не только Ленина и князя Львова, но и любого дивного русского мужичка, будь он там хоть расплатонкаратаев!.. А вот одна мысль у Гоголя очень правильна, я выписал. – Он взял из ящика тетрадку и прочел: «Стонет весь умирающий состав мой, чуя исполинские возрастания и плоды, которых семена мы сеяли в жизни, не прозревая и не слыша, какие страшилища от них поднимутся…» И тут не мог не соврать: вовсе он тогда не умирал, еще долго, слава Богу, прожил, и не стонал никак его состав, а сказал он верно: именно мы – или, вернее, вы – сеяли семена страшилищ. Вот и радуйтесь!
– Я не радуюсь, – ответил Ласточкин. – И я готов признать нашу вину, но вина была не только наша. Другая сторона была виновата больше нас. Уж, пожалуйста, ты не уподобляйся майору Ковалеву того же Гоголя. Как ты помнишь, этот майор признавал, что в литературе можно ругать и поносить только обер-офицеров, а штаб-офицеров никак нельзя. Не забывай и штаб-офицеров, и не все было так прекрасно в прошлом, – сказал он вставая: хотел закончить шутливо тягостный разговор. – Ну, прощай, Аркаша.
– Да куда вы спешите? Я так рад поболтать с вами.
Больше они Рейхеля не видели.
– Надо признать факт: он нам чужой человек! Все, что он говорил, отвратительная передержка! – сказал в сердцах Ласточкин на пути в гостиницу.
– Да, к сожалению, ты прав. И все его озлобленье произошло от того, что его тогда не сделали директором института!
Как тут же было решено, часа за два до отъезда на вокзал, Дмитрий Анатольевич позвонил по телефону двоюродному брату. С облегченьем узнал от горничной, что его нет дома. Ласточкин сказал, что они по дороге на вокзал собирались заехать, очень жалеют и просят извинить.
В последние дни перед отъездом они из любопытства побывали на митингах. В цирке Модерн глава либеральной партии спокойно и деловито, не повышая голоса, доказывал необходимость присоединения к России проливов. Многотысячная толпа солдат возмущенно орала и легко могла его поднять за это на штыки. Дмитрий Анатольевич сокрушенно пожимал плечами. Татьяна Михайловна восхищалась мужеством оратора.
– Это верно, он совершенно бесстрашный человек, – ответил ей муж. – Но Дарданеллы всегда нам были совершенно не нужны, а теперь говорить о них это чистое безумие!
На другом митинге они видели и слышали Ленина. Он тоже их поразил.
– Просто какой-то снаряд бешенства и энергии! – сказала Татьяна Михайловна.
– Именно. Я такого никогда в жизни не видел! Это большая сила… И как это его никто не убивает! – неожиданно добавил Ласточкин. Жена взглянула на него с недоумением.
II
Люда не принимала никакого участия в революции 1917 года. Не могло быть и речи об ее возвращении в большевистскую партию: как почти вся русская интеллигенция, она крайне отрицательно относилась к делам Ленина. Еще три года тому назад узнала, что он хочет поражения России. Это вызвало у нее крайнее возмущенье. Теперь он вернулся в Россию через Германию, в пломбированном вагоне. Говорили, что большевистская партия получает деньги от немцев на дезорганизацию русской армии. Ей было стыдно, что она когда-то примыкала к большевикам.
Зачислиться в другую партию ей было неловко – по тем же приблизительно причинам, что и Ласточкину. К тому же, в отличие от него, ей никто ничего не предлагал. Она решила, что будет гораздо полезнее оставаться в кооперативном движении. Все же с некоторой завистью следила по газетам за шедшей в Петербурге политической работой. Некоторых ее участников она знала лично, они были лишь немного старше и, по ее мнению, не образованнее и не даровитее, чем она. Между тем теперь они занимали разные видные посты; были известны всей России, – особенно если примыкали к социалистам-революционерам. Имели большие шансы стать членами Учредительного собрания, в которое стремились решительно все.
Несмотря на дороговизну жизни, Люда из своего жалованья откладывала и скопила немало денег. Отдавала свои сбережения Дмитрию Анатольевичу – больше потому, что ей было лень устроить себе счет в банке. Ласточкин покупал для нее какие-то бумаги и часто говорил ей, что они очень поднимаются в цене. Люда узнавала об этом изумленно: «Вот тебе раз! Становлюсь капиталисткой!» Все же было приятно, что она теперь стала независимой, может и без всякой работы безбедно прожить года два, может после окончания войны поехать путешествовать за границу, пожить в Италии, в Испании.
Впрочем, она в мыслях не имела бросать службу и со временем. Отпуска по ней четвертый год не брала, и складывались отпускные недели, на которые она имела право. Ласточкины и год, и два тому назад убеждали ее съездить куда-либо отдохнуть, но она перед войной прожила недели две в Крыму и там, без знакомых, скучала. Когда в Москве становилось уж очень жарко, отправлялась ненадолго на дачу в Новое Кунцево и оттуда каждый день приезжала на службу; это отпуском не было. Однако к лету 1917 года Люда почувствовала настоящую усталость и решила на месяц или даже, если понравится, на шесть недель съездить в Кисловодск: на Кавказе никогда не была.
Ласточкины в это лето не уезжали из-за общественных дел Дмитрия Анатольевича, но зимой до революции отдыхали в Ялте и собирались опять туда на Рождество.
– Надеюсь, у тебя, Людочка, найдутся в Кисловодске знакомые, – сказала Татьяна Михайловна. Люда, со смешанными чувствами, подумала о Джамбуле. Она с ним не переписывалась, вспоминала о нем мало и странно: вспоминала о каком-то общем, собирательном, очень похожем на него человеке (живой Джамбул уж очень менялся за три-четыре года их знакомства, встреч, связи). Так, Сезанн писал свои «натюрморты» с искусственных цветов: живые слишком быстро, с каждым мигом, увядают. Люда и не знала, где теперь находится Джамбул: «Верно, в Тифлисе или у своих родичей, где это?» – подумала она: не помнила точно, как называется его земля: «все равно из Кисловодска проеду по их знаменитой Военно-Грузинской дороге, а оттуда рукой подать до Тифлиса, там, помнится, где-то и осетины, и ингуши, и другие кавказские мусульмане… Но и незачем мне с ним встречаться, ничего вообще больше в жизни не будет». Люда вздохнула. «А когда-то я думала, что главный интерес моей жизни в мужчинах. И слишком много о себе всю жизнь говорила… Теперь исправлюсь, да мало радости в этих исправленьях! Просто старею». Как у большинства людей, это было чуть не главным горем ее жизни.
Те деньги, которые она не отдавала Ласточкину, Люда хранила у себя в предпоследнем томе «Большой Энциклопедии» издательства «Просвещение», которую ей ко дню рождения подарили Ласточкины. Это было надежнее, чем ящик письменного стола. Ее библиотека уже состояла из трехсот томов; теперь она не только покупала, но и читала книги, имела полные собрания сочинений главных русских классиков. Выбрала именно предпоследний том словаря: «пусть вор все перебирает и вытряхивает!» Она никогда не знала, сколько именно денег у нее там находится. За два дня до отъезда достала вечером толстую книгу и сосчитала: было всего сто восемьдесят рублей ассигнациями; золото давным-давно исчезло, чем Люда была скорее довольна: бумажки гораздо удобнее. «На сто восемьдесят далеко не уедешь. Надо взять у Мити не меньше тысячи».
Как раз в этот вечер ей позвонил по телефону (она давно имела телефон в своей маленькой квартире) дон Педро, теперь уже очень известный петербургский журналист. Он опять находился проездом в Москве.
– Еду отдохнуть на Кавказ. Просто замучен работой! Вы не можете себе представить, что такое моя работа в это проклятое революционное время! – сообщил Альфред Исаевич, впрочем, очень веселым голосом.
– На Кавказ! Наверное, в Кисловодск? Как я рада! – сказала Люда искренно. Она любила Альфреда Исаевича, с ним было весело, он знал всех, мог ее познакомить с кем угодно.
– Нет, не в Кисловодск, а скорее в Ессентуки или в Пятигорск, еще не решил.
– Зачем в Пятигорск? Разве у вас нехорошая болезнь, Альфред Исаевич? – пошутила Люда.
– В Пятигорск ездят, могу вас уверить, отнюдь не только больные нехорошей болезнью, – сказал дон Педро недовольным тоном: он не любил скабрезных шуток, особенно со стороны дам.
– Едем лучше со мной в Кисловодск. А вы когда едете?.. Вы с женой?
– Нет, я один. Жена теперь отдыхает у родителей, в западном крае. Ей лечиться, слава Богу, не надо. Я, впрочем, тоже совершенно здоров. Сиротинин сказал, что сердце у меня, как у юноши, но все-таки надо пополоскать желудок водицей… Так вы едете в Кисловодск, это очень приятно. Когда же? Вы хотите лечиться?
– Нет, не лечиться, нема дурных. Еду послезавтра. Поедем вместе?
– Вас, Людмила Ивановна, я готов был бы ждать сколько угодно, но у меня уже на завтра место в спальном вагоне.
– Жаль. Я еду не в спальном вагоне. Дадут ли только завтра плацкарту?
– Я вам могу достать в два счета, – сказал Альфред Исаевич. Это было новое выраженье, или старое, забытое и вновь возродившееся, как выражение «пара слов», или «извиняюсь», которые не очень сведущие люди считали «одесскими». – Но заказана ли у вас комната в Кисловодске? Нет?.. Тогда вы ничего не достанете. Там все битком набито! Я телеграфировал Ганешину, и ни одной комнатки не нашлось даже для меня, хотя хозяин хорошо меня знает.
– В Кисловодске нет комнат? Это для меня неприятный сюрприз!
– Поедем лучше в Ессентуки! Пошлите мне туда телеграмму, я вам приготовлю комнату. Как жаль, что я не могу вас подождать, – галантно добавил дон Педро.
«В самом деле, отчего бы не поехать туда?» – подумала Люда, отойдя от аппарата, и взглянула на великолепные стенные часы – подарок Ласточкиных на новоселье. Она тоже делала им подарки, хотя не столь дорогие. «Еще, пожалуй, не поздно. Зайду к ним, вот и деньги возьму. Не стоит и звонить».
Дмитрий Анатольевич и Татьяна Михайловна обрадовались тому, что у Люды будет на Кавказе знакомый, да еще солидный и теперь влиятельный человек. На ее вопрос, сколько же ей взять у него денег, Ласточкин, подумав, ответил:
– Знаете что, милая? Возьмите у меня все. Теперь ведь и застрять можно. А кроме того, я опасаюсь, что ценности начнут падать. Даже удивительно, что они еще не упали.
– А мои ценности можно быстро продать?
Дмитрий Анатольевич засмеялся.
– Я сейчас подсчитаю и дам вам чек.
– Чек? – спросила Люда. – Тогда надо будет мне пойти в банк и проделать там разные формальности?
– Необычайно сложные! Хорошо, я скажу в банке, чтобы артельщик доставил вам деньги на дом. Когда вы уезжаете?
– Послезавтра утром.
– Вот тебе раз! – сказала Татьяна Михайловна. – Значит, мы больше до твоего возвращения не увидимся? Мы ведь завтра утром с Митей уезжаем в «подмосковную» к Варваре Петровне и вернемся только в понедельник.
– Да, это досадно, – подтвердил Дмитрий Анатольевич. – Тогда ничего не поделаешь, берите чек. С чеком человеку получить деньги легко, а вот без чека труднее… Ох, дамы! Я сейчас же сосчитаю, – добавил он, вставая.
– Так вы до зимы никуда не уедете, Танечка? – спросила Люда. – А то поехали бы тоже на Кавказ? Отлично бы там пожили, а?
– Не может богдыхан. Его рвут на части, – грустно сказала Татьяна Михайловна. – Боюсь, как бы все-таки не убедили стать министром. Скажи ему на прощанье и свое мнение. Ты ведь не спешишь сегодня?
– Не спешу, но долгие проводы лишние слезы. Подумаешь, якая беда стать министром! Ты шутишь.
– Не шучу… Ты, наверное, вернешься даже не через месяц, а раньше. Соскучишься по своей квартирке.
– Не по квартирке. Уж очень я вас обоих люблю! – вдруг сказала Люда, хотя терпеть не могла «излияний».
– И мы оба тебя тоже. Очень!.. Подумать только, что мы когда-то были в «холодно-корректных отношениях»!
– Это была не твоя, а моя вина.
– И не твоя. Просто люди добреют с годами.
Дмитрий Анатольевич вернулся из кабинета и удивленно взглянул на дам. «Кажется, расчувствовались? Что бы это?» Он теперь почти всегда поглядывал на жену с беспричинным беспокойством, особенно когда она подходила к нему и его целовала.
– Вот вам, Людочка, расчет, а вот и чек. Я вас не обсчитал, – натянуто-весело сказал он.
– Митя, вы, верно, от себя прибавили! Не может быть, чтобы у меня образовалось так много!
– Даю вам слово, что не прибавил ни гроша.
– А если я все это потеряю или у меня вытащат?
– Постарайтесь, чтобы не вытащили. В Англии существует страхование против краж. Хотите, я вас застрахую? Вместо платы привезите мне олений рог для вина: вдруг буду где-нибудь на банкете «тамадой», – «пей до дна!»… Ах, славное место Кисловодск. Помнишь, Таня, как мы там катались к замку Коварства и Любви?
– Помню, – сказала Татьяна Михайловна обиженно (точно она могла этого не помнить).
– А вас, Людочка, мы, значит, до сентября не увидим?
– Да, до сентября.
Они никак не могли думать, что видятся в последний раз в жизни.
III
Ленин, приехав после февральской революции из Швейцарии в Петербург, остановился с женой у своей сестры Анны Ильинишны в доме на Широкой улице. Сестра отвела ему комнату, в ней были две кровати, стол и платяной шкаф; по его просьбе в шкафу были устроены полочки для книг. Больше ему ничего и не было нужно.
Возможно, что сестра была вначале рада гостю. Но речь, произнесенная им в вечер приезда, 4 апреля, потрясшая его ближайших товарищей по партии, наверное, перепугала и ее. В описании этой речи у случайного свидетеля Суханова сказано: «Приветствия-доклады, наконец, кончились. И поднялся с ответом сам прославляемый великий магистр ордена. Мне не забыть этой громоподобной речи, потрясшей и изумившей не одного меня, случайно забредшего еретика, но и всех правоверных. Я утверждаю, что никто не ожидал ничего подобного. Казалось, из своих логовищ поднялись все стихии, и дух всесокрушения, не ведая ни преград, ни сомнений, ни людских трудностей, ни людских расчетов, – носится по зале Кшесинской над головами зачарованных учеников. Он потряс не только ораторским воздействием, но и неслыханным содержанием своей ответно-приветственной речи, – не только меня, но и всю собственную большевистскую аудиторию».
Если о немедленном устройстве второй, уже социалистической, революции не думали в апреле 1917-го светочи партии, то никак не могла думать и Анна Ильинишна. Хотя о преследованиях, несмотря на проезд через Германию, тогда еще и речи быть не могло, она, вероятно, предпочла бы, чтобы ее брат поселился в другом месте. Дом был большой, было множество соседей, могли произойти неприятности, так как газеты уже писали о Ленине, печатали его фотографии и называли его крепкими словами. Ни соседи, ни сама Анна Ильинишна никак не предполагали, что речь перейдет в мировую историю и что Широкая улица со временем будет называться Ленинской. Большевики приняли старый обычай – придавать не всегда продолжительное бессмертие людям, называя их именем улицы.
Он тотчас принялся за работу. Теперь она была по духу той же, но совершенно другой по форме напряженности. От прежнего образа жизни ничего не осталось.
Было никак не до прогулок, не до окрестностей, не до велосипеда, ни даже до сплетен. Главная его работа заключалась в том, чтобы заставить партию идти за собой.
Никто из его товарищей вначале не собирался «захватить власть вооруженной рукой». Если б это можно было сделать не «вооруженной рукой», многие, разумеется, не возражали бы и в первые дни. Люди в большинстве были смелые, но в том, почти всеобщем, благодушно-радостном настроении, которое господствовало в столице после февраля, все революционеры предпочитали пожить более спокойно, отдохнуть от конспирации, арестов, ссылок, вести мирную борьбу с капиталистическим строем. Сам Джугашвили-Коба, уже довольно давно называвшийся Сталиным, высказывался за соглашение с меньшевиками. Всеми было признано, что новая программа Ильича совершенно противоречит марксизму. Отсталая в промышленном отношении страна никак не может вдруг стать социалистической. Революция может быть только буржуазной, а строй, как это ни неприятно, пока останется капиталистическим. Будет созвано Учредительное собрание, и там, разумеется, большевики займут место на самом левом краю. Ленин же на партийных собраниях именно за такие мысли и такое настроение ругательски всех ругал. Ему возражали, – большинство мягко, почтительно, даже нежно. Про себя думали (иногда в смягченной форме и говорили), что Старик отстал за границей от русской жизни и ударился чуть ли не в анархизм, в бланкизм, в бакунизм, во «вспышкопускательство». Приводили цитаты из Маркса.
Он отвечал другими цитатами. Сам, как и прежде, по собственному его выражению, «советовался с Марксом», то есть его перечитывал. Неподходящих цитат старался не замечать, брал подходящие, – можно было найти любые. Маркс явно советовал устроить вооруженное восстание и вообще с ним во всем соглашался. Но и независимо от этого Ленин всем своим существом чувствовал, что другого такого случая не будет.
Он в самом деле отстал от русской жизни, да собственно никогда ее хорошо и не знал. Но одно ему было совершенно ясно: веками накопленный запас ненависти, злобы, жажды мщенья – огромная страшная сила. Если развязать ее, эта сила унесет все. «Но можно ли будет на ней и строить?» – спрашивал он себя и отвечал, что там будет видно.
Через много лет Троцкий сравнил его с Наполеоном. Император писал своему начальнику генерального штаба: «Нет человека более робкого, чем я, когда я разрабатываю военный план: я в мыслях преувеличиваю все опасности, все возможные катастрофы. Но когда мое решение принято, все забывается». Едва ли сравнение было верно. Ленин допускал, что октябрьское восстание может провалиться и что тогда их всех перевешают. Но в своем «плане» он с этим не считался. План – то есть твердое решение устроить в России и в мире социальную революцию – был им принят в Швейцарии тотчас после того, как туда пришло сообщение о февральских событиях в Петербурге. А никакой сколько-нибудь серьезной «разработки» не было ни тогда, ни даже позднее. Да если б она была возможна и показала, что план неосуществим, Ленин, в отличие от Наполеона, все равно от него не отказался бы. Наполеон разрабатывал планы отдельных кампаний; без каждой из них можно было бы и обойтись. Для Ленина же социальная революция была смыслом всей его жизни.
Правда, была еще теория. Именно в 1917 году он разработал или закончил свое странное, малопонятное, противоречивое учение о государстве. Он никогда не называл себя гением, говорил, что он только продолжатель дела Маркса. Но, вероятно, это свое учение считал гениальным продолжением. Оставил в 1917 году указание, что делать с рукописью в случае, если его убьют. Естественно, работу о том, удержат ли большевики государственную власть, в этом случае можно было бы и не перепечатывать.
Партийный бунт против него скоро начал стихать. Под его напором произошло невероятное: один за другим, хотя с сомненьями и колебаньями, на его сторону стали переходить главари партии. Вероятно, они сами этому удивлялись: не могли же в несколько дней или недель совершенно изменить весь свой привычный строй брошюрного мышления. В числе первых перешел к нему Сталин. Должно быть, очень жалел, что не сам он это придумал: разумеется, захват власти вооруженной рукой! Впрочем, понимал, что он все равно на роль главы правительства не вышел бы: ранг был не тот, его и знали еще очень мало.
Скоро захват власти стал задачей главных, за редкими исключеньями, партийных вождей. Но эта напряженная, грубая борьба с ними, хотя и завершившаяся победой, постоянные выступления на многолюдных митингах, непривычный образ жизни издергали нервы Ленина. Он стал чувствовать себя плохо как раз к намеченному восстанию. Разыграл кровавое дело 4 июля новый большевик Троцкий – и разыграл плохо. Несмотря на слабость и неподготовленность Временного правительства, восстание провалилось, – приходилось даже уверять, что его не было, что был разве лишь «смотр сил», что была правительственная провокация. Вожди повторяли это, хотя и знали, что лгут. В своей среде опять стали ругать Ильича; ох, опростоволосился Старик, пролетариат отшатнулся, теперь можно ждать всего, гидра реакции поднимет голову.
И действительно, все враждебные газеты, то есть почти вся печать России, осыпали Ленина бранью и насмешками, требовали его ареста и предания суду. Полудрузья или бывшие друзья почти открыто злорадствовали. Несколько растерялся и он сам. Собрался было «предстать перед судом», – мысль для него почти непостижимая. Но его легко отговорили: укокошат, расстреляют или разорвут на улице! Особенно отговаривал Сталин: уж он-то нисколько не сомневался, что укокошат, – так, разумеется, поступил бы с врагами он сам и без малейшего колебания. Правительство отдало приказ об аресте Ленина.
Он скрылся, сбрил усы, надел парик и темные очки; перешел на нелегальное положение – как в 1905 году. Несколько дней скрывался у рабочего Аллилуева, потом где-то еще, затем – тоже как двенадцать лет тому назад – уехал в Финляндию.
Но эта нервная депрессия была чуть ли не последней в его жизни. Она скоро прошла, и в дальнейшем его ловкость, проницательность и всего больше волевой поток были необычайны.
Меры предосторожности он теперь принимал с достаточным основанием. В Петербурге его легко могли бы убить или даже разорвать на части: так его в те дни ненавидела громадная часть населения. Присяжные, вероятно, оправдали бы убийцу. Могли и выдать его за деньги добрые люди, – он теперь еще меньше верил людям, чем когда-либо прежде.
Ленин писал, что большевики захватят и удержат государственную власть. Был убежден, что в случае начального успеха сторонники хлынут к нему толпами, тысячами, миллионами. Он как-то сказал, что презрение к людям плохое свойство для государственного человека. Но, верно, потому и сказал это, что думал прямо противоположное. В этом отношении он мало отличался от Муссолини, Гитлера, Троцкого и уступал лишь одному Сталину.
О начинавшем карьеру Робеспьере граф Мирабо с удивлением заметил: «Этот человек далеко пойдет: он действительно верит во все то, что говорит!» О Ленине трудно было бы сказать это, трудно было бы сказать и обратное. Он сам не замечал, когда лжет, когда говорит правду. Вернее, все, что он говорил, ему обычно казалось правдой, а то, что говорили враги, то есть не подчинявшиеся ему люди, всегда было ложью. Он не умел проверять свои чувства, да и нисколько не считал это нужным. И в те дни почти искренно считал себя «жертвой клеветы» и новым Дрейфусом.
Больше всего он теперь боялся, что воюющие стороны заключат между собой мир, – это было бы страшным, непоправимым ударом для его дела: главный его шанс, бесконечно более важный, чем все другие, был основан на стремлении к миру солдат. Летом 1917 года в Стокгольме должна была состояться конференция социалистов, ставивших себе целью окончание войны. Ленин написал за границу: «Я абсолютно против участия в Стокгольмской конференции. Выступление Каменева… я считаю верхом глупости, если не подлости… Я считаю участие в Стокгольмской конференции и во всякой иной вместе с министрами (и мерзавцами) Черновым, Церетели, Скобелевым и их партиями прямой изменой». Еще более грубой бранью осыпал западноевропейскую «министериабельную сволочь».
В Финляндии он мог жить более или менее безопасно. Но на всякий случай он теперь прятался и тут: почти не выходил на улицу. Грим, как всегда у всех, отражался на его душевном состоянии. Изредка конспиративно приезжала Крупская, сообщала ему новости и получала от него указания. Все его инструкции сводились к одному: вооруженное восстание. Он писал в столицу одно шифрованное письмо за другим. Его бешеные письма действовали на Центральный комитет сильно – и все же недостаточно.
Тормозили дело недавние любимцы, Зиновьев и Каменев. Они восстания не хотели. Ленин их люто возненавидел, – правда, ненадолго: в полное отличие от Сталина, злопамятен никогда не был, и всегда был готов прийти к дружескому соглашению с любым из людей, которых называл и считал «мерзавцами» и «сволочью», – лишь бы этот человек вполне ему подчинился. Робеспьер не мог сказать и двух слов без «vertu». Ленин этого слова и не выговорил бы – не только потому, что в мире изменился литературный стиль: он просто не понимал, какая-такая «добродетель» и зачем она, если и существует? Разве можно делать революцию без мерзавцев?
Люди в Петербурге работали по его инструкциям. Все же работали другие, а не он сам. Очень не нравилось ему и настроение части Центрального комитета. И 7 октября он вернулся в Петербург. Поселился на Выборгской стороне, в многолюдном доме по Сердобольской улице, в квартире партийной работницы Фофановой: этой как будто можно было верить: не продаст, – разве уж, если предложат очень большую сумму? – нет, и тогда не продаст. Она смотрела на него влюбленными глазами. Перед его приездом отпустила свою горничную, сама покупала для него и готовила еду, исполняла его поручения. Кроме жены и сестры, у него бывали только наиболее надежные из «связных». Всем им было указано, как стучать в дверь. Крупская принесла ему большой план Петербурга, он что-то размечал для восстания.
Единственное неудобство было в том, что Фофанову изредка посещал молодой племянник, никак не большевик, – чуть ли даже не юнкер. Было решено, что Ленин ни на какие звонки отвечать не будет.