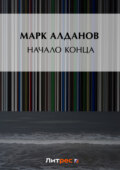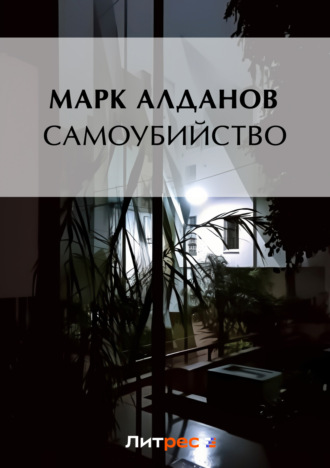
Марк Алданов
Самоубийство
VII
По настоянию Татьяны Михайловны Ласточкины уехали из Москвы на отдых зимой, – обычно уезжали только летом. Ей самой гораздо удобнее и приятнее было в Москве. Но здоровье и у него стало несколько сдавать, почти как у жены. «Это лишний признак того, как сплетены наши с тобой жизни», – говорил Дмитрий Анатольевич шутливо (думал же он это и не в шутку). У него не было ничего серьезного, но он замечал, что вставать утром с кровати, надевать туфли ему стало труднее, чем прежде, и что в ногах пониже колен какое-то неприятное ощущение, – «Точно хочется их отцепить». Врачи думали, что он переутомился, что одышка у него от усталости, от сидячего образа жизни и от некоторой слабости сердца. Слово «сердце» встревожило Татьяну Михайловну. Было решено, что они, после обычного летнего лечения в Мариенбаде, где Ласточкин каждый год, по его словам, «спускал благоприобретенные двадцать, а то и двадцать пять фунтиков», поедут еще в Наугейм.
Но в декабре одышка и усталость у Дмитрия Анатольевича усилились. Татьяна Михайловна предложила ему съездить куда-нибудь за границу на праздники, не для лечения, а просто для отдыха. «А отчего бы тебе не поехать одному?» – нерешительно сказала она. Об этом Дмитрий Анатольевич и слышать не хотел. «Ни за что один не поеду! Это было бы против всех наших правил и традиций. И ты тоже не так уж хорошо себя чувствуешь…» – «Я совершенно здорова. Меня ни в какие Наугеймы не посылают, сердце у меня, как у молодой девушки». – «Слава Богу, но отдохнуть не мешает и тебе». – «Да я не ты! Я весь год ничего не делаю!» Кончился разговор тем, что они решили съездить на французскую Ривьеру. «Только не в Монте-Карло, он мне надоел, что ж все в одно место, поедем лучше в Канн», – предложил Ласточкин. – «В Канн так в Канн, мне совершенно все равно».
Они остановились по дороге на несколько дней в Вене. Тонышевы давно их к себе звали. «И пожалуйста, Таня, Митя, выбейте у себя из головы, что вы будете жить в гостинице! Мы с Алешей об этом и слышать не хотим! – писала Нина, действительно очень обрадованная сообщением об их приезде. – За столько времени не удосужились у нас погостить, позор! Не видели даже наших «Сезаннов», двойной позор! У нас есть «комнаты для друзей», и это чистая фикция: кроме вас, никаких друзей мы не ожидаем. Отдадим вам обе комнаты. И никакого номера в «Империале» я вам не найму, дудки. И нашей ноги у вас больше никогда не будет, если вы остановитесь не у нас. Nous vous ferons les honneurs de Vienne»[63].
Квартира Тонышевых очень понравилась Ласточкиным, они мысленно сравнивали ее со своей московской.
– У вас преимущественно старинная мебель, а у нас преимущественно модерн, и то, и другое имеет свою прелесть, – говорил Дмитрий Анатольевич.
За семейным обедом обо всем успели поговорить, и уже приходилось придумывать темы. Заговорили даже о литературе. Тонышевы за ней очень следили, выписывали из России много новых книг.
– Странно, как у нас все переменилось, – сказал Алексей Алексеевич. – Всего лет десять тому назад в наших повестях и романах писали больше о врачах-тружениках, которые обычно погибали во время холерных бунтов, а теперь…
– Да это иногда и в самом деле случалось.
– Случалось, конечно, Таня, но, согласитесь, не часто. А теперь все отдельные сильные и страстные личности, и у них единственное чувство – необыкновенная способность к необыкновенной любви. – Татьяна Михайловна невольно подумала, что в жизни Тонышевых любовь в самом деле не занимает очень большого места. – Я и тут стою за золотую средину. Есть и другие большие сюжеты.
– Например, политические, – сказала Нина. – Я вижу, что Мите и Алеше хочется поговорить о большой политике, мне она здесь осточертела. Пойдем, Танечка, я тебе все покажу в ваших комнатах.
Татьяна Михайловна все очень хвалила.
– Как хороша эта ванна. Вделана в пол, таких у нас в Москве еще нет.
– Горячая вода круглые сутки, купайся, Танечка, хоть всю ночь. Впрочем, нет, никак не всю ночь, должно быть, тебе вредно сидеть долго в воде. Одна беда: на кране с кипятком они написали «kalt», а на другом «heiss»![64] Я так рассердилась!
– Это действительно очень большая беда!
– Не шути, по ошибке можно обжечься. Мастер был очень сконфужен, но уже переделывать было трудно.
– Лишь бы у вас, Ниночка, не было огорчений похуже… Да, хорошо живется нам, обеспеченным людям.
– Ах, мне самой часто бывает совестно перед бедняками… Вещи, как видишь, горничная уже разложила и развешала в полном порядке.
– Она такая элегантная, ваша венка.
– И очень честная. Можете спокойно оставлять все в комнатах, не запирая.
– Будем знать. Да, у вас очень благоустроенный дом, – сказала, устало садясь в кресло, Татьяна Михайловна. – Вообще мы с Митей так за вас рады… Ниночка, а можно тебя спросить? Когда же дети?
Нина Анатольевна вздохнула.
– Надеюсь, будут. Алеша говорит, что дети были бы счастьем, если б всегда оставались маленькими.
– Не следуйте нашему примеру. Это у нас с Митей единственное горе. Ну, хорошо, не будем об этом говорить.
– Завтра с утра я вам буду показывать Вену. Алеша уйдет в посольство, хотя там в праздничные дни нечего делать.
– Мы Вену отлично знаем. Чудный город, но Москва все-таки лучше.
– С Москвой и я ничего не сравниваю!.. Вечером завтра у нас ложа в «Бурге».
– Что идет?
– Шиллеровская «Смерть Валленштейна». Ты читала?
– Кажется, когда мне было лет шестнадцать.
– А я не читала. Алеша обожает Шиллера. Я предпочла бы пойти в оперу, и ты, верно, тоже? А послезавтра у нас будут интересные люди. – Она назвала знаменитого пианиста.
– О-о!
– Да, он играет божественно. Говорит, что после шампанского играть не умеет, но, конечно, врет. Мы его заставим играть. Будут и другие, один известный профессор-экономист, пусть побеседует с Митей о расцвете промышленности. Мы с тобой не обязаны слушать.
Тем временем мужчины в кабинете говорили о политических новостях. Главной новостью была опасная болезнь графа Эренталя.
– Говорят, он переносит страдания с необыкновенным мужеством, – сказал Тонышев. – Что ни говори, он замечательный человек.
– Может быть, и замечательный, но, говорят, он хочет войны.
– А здесь, разумеется, говорят, будто войны хочет Россия. И то и другое неверно. Эренталь большую часть своей дипломатической карьеры проделал в Петербурге. На Балльплатц так и уверяли меня что он «kam direkt aus der ausgezeichneten Petersburger diplomatischen Schule»[65] и восхищается всем русским.
– Вот как? У нас о наших дипломатах думают иначе. Нет пророка в отечестве своем. Кто же займет место Эренталя?
– Первым кандидатом считается Буриан, но его ненавидит наследник престола. По-моему, больше шансов имеет граф Берхтольд.
– Мы с Таней с ним знакомы. Познакомились когда-то в поезде по дороге в Монте-Карло. Помню, красивый человек.
– Признается самым элегантным человеком в Австро-Венгрии и, кажется, очень этим гордится. Какой-то американский журналист устраивает анкету: десять мужчин в мире, которые лучше всех одеваются. По-моему, он должен был бы получить первый приз, – сказал Алексей Алексеевич, смеясь, но не без легкой зависти.
– Это единственный его «titre»[66] для должности министра иностранных дел? И тоже подумывает о войнишке?
– Не знаю. В петербургском свете его очень любят, как, впрочем, прежде любили Эренталя. Нет, какая же войнишка?
– Меня тревожат дела на Балканах. Газеты пишут, будто братья-славяне очень подумывают о войне с Турцией.
– Без нашего согласия они не посмеют на это пойти.
– А вдруг посмеют? И так ли ты уверен, что им в Петербурге согласия не дадут? У нас тоже достаточно полоумных. Очень ухудшилось вообще в последние годы политическое положение в мире. Еще лет десять тому назад никто об европейской войне не говорил.
– Да, особенно осложнилось дело после этого несчастного спора о Марокко. Впрочем, покойный Эдуард Седьмой считал французскую позицию в нем шедевром дипломатического искусства. Эдуард сам был замечательный дипломат. Правда, у него политика осложнялась его личной антипатией к Вильгельму. У хорошего дипломата не должно быть личных симпатий и антипатий.
– Да этого, верно, не бывает.
– Отчего же не бывает? Но я уверен, что европейской войны не будет. Франц-Иосиф войны не хочет. Неужто ты, при твоей жизнерадостности, становишься пессимистом! Не будет войны. Люди разумные существа.
– Дай Бог, чтобы ты оказался правым.
На следующий день они в автомобиле Тонышевых отправились в театр. Приехали за несколько минут до начала. Тонышевы до поднятия занавеса успели показать своим гостям разных известных людей в зале. В антракте все восхищались спектаклем.
– По самому своему замыслу и построению, трилогия настоящий шедевр, – сказал Алексей Алексеевич, знавший на память много стихов на разных языках. – Я другой такой трагедии не знаю. Как постепенно нарастает напряжение! Правда, первая часть, «Лагерь», не сценична, но как и она хороша, как подготовляет зрителя к ожидающейся трагедии. Конечно, в изображении Валленштейна Шиллер немного погрешил против исторической истины, да кто же этого не делал? Шекспир, Гёте, Гюго. Я предпочитаю нашего Пушкина всем поэтам, но ведь его «Полтава» сплошная историческая ошибка. Даже в деталях, в божественном описании украинской ночи: «Чуть трепещут – сребристых тополей листы». При Петре никаких тополей на Украине не было, их развел много позднее Щенсный Потоцкий, это вызвало сенсацию. А Мария чего стоит! А Мазепа! Даже в дрянном романе Фаддея Булгарина он изображен ближе к исторической правде, чем у Пушкина. А скачущий с доносом влюбленный в Марию казак!
– Этот почему же? – спросила Татьяна Михайловна. – «Кто при звездах и при луне – Так поздно едет на коне…» Вы говорите об этом?
– Об этом самом. Стихи очень звонкие, но… «Червонцы нужны для гонца, – Булат потеха молодца, – Ретивый конь потеха тоже, – Но шапка для него дороже, – продекламировал Алексей Алексеевич. – За шапку он оставить рад – Коня, червонцы и булат, – Но выдаст шапку только с бою, – И то лишь с буйной головою. – Зачем он шапкой дорожит? – Затем, что в ней донос зашит, – Донос на гетмана злодея – Царю Петру от Кочубея…» Вполне возможно, что донос был зашит в шапку, но эта шапка скорее была ермолкой: Кочубей послал донесение Петру через какого-то еврея. Едва ли он носил с собой «булат» и едва ли был уж так влюблен в Кочубееву Матрену, которая, кстати, перетаскала у Мазепы немало «злата».
– Так ли это? Может, гонцов было несколько? Я историю знаю плохо, – сказала Татьяна Михайловна. – Об исторических драмах судить не могу, но, по-моему, во всей немецкой литературе нет ничего равного песенке Теклы: «Das Herz ist gestorben, die Welt ist leer – Und weiter gibt sie dem Wunsche nichts mehr. – Du heilige, rufe dein Kind zurück! – Ich habe genossen das irdische Glück. Ich habe gelebt und geliebt»[67].
«А говорила, что, кажется, читала «Смерть Валленштейна», – подумала Нина.
В другом антракте литературный разговор продолжался.
– …И мысли о власти Шиллер высказывает мудрые. Вот, оказывается, и в семнадцатом веке людей занимали те же мысли: «Верхи общества уходят, им на смену поднимаются низы…» Как хорошо он играет! – говорил Дмитрий Анатольевич.
– Изумительно, – сказал Тонышев. – Заметьте, этот актер – еврей, а как изображает кондотьера! Хоть с каждой его позы картину пиши!
– Пожалуйста, без антисемитизма, Алеша. Почему актеру-еврею не изображать хорошо кондотьера?
– Я ведь, Таня, говорю только к тому, что еврейское племя, которое я очень почитаю, давным-давно стало самым мирным из всех.
– Это так, – подтвердил Ласточкин. – Ты тоже, Танечка, ведь войны не хочешь?
– Думать без ужаса не могу! А вы, Алеша, разве хотите?
– Никак нет. Хотя думать могу и без ужаса. Артист же он действительно великий. Я, кстати, всегда сожалел, что Шиллер не изобразил самой сцены убийства: гениальный актер себя в ней показал бы! Правда, сцену убийства до некоторой степени заменяет страшный крик убийцы Деверу: «Freund! Jetzt ist’s Zeit zu lärmen!»[68] Сейчас его услышим.
– Алешенька, перестань щеголять эрудицией, – сказала Нина.
После обеда они отправились ужинать к Захеру. При входе в общую залу им бросилось в глаза знакомое лицо. «Легок на помине: граф Берхтольд», – сказал Тонышев. Он сидел в углу один, у его столика почтительно суетились лакеи. Тонышев занял стол на другом конце зала, подал одну карту дамам и начал озабоченно изучать другую.
– Таня, можно мне заказать для всех? Я знаю, что` у них особенно хорошо. Этот ресторан не хуже Донона или вашего «Эрмитажа».
– Ну, положим, – сказал Ласточкин. – Старый Донон первый ресторан в мире.
– На десерт не забудь, Алешенька, заказать «Захер-торте». Ты увидишь, Танечка, какое это чудо! – сказала Нина. Начался гастрономический разговор.
VIII
В Канн погода была плохая. Ласточкины никогда зимой на Ривьере не бывали и были удивлены.
– Холодно, солнца нет, «старожилы не запомнят», – говорил жене Дмитрий Анатольевич на второй день.
– Особенно этот неприятный холодный ветер.
– Если б это хоть был мистраль, по крайней мере название звучное, но одни говорят «биз», другие говорят «бриз», третьи говорят «полан» или как-то так. Сами своих ветров не знают. Если не пройдет, переедем куда-нибудь в Сицилию или даже в Египет. Как ты думаешь?
– Ни за что. Опять переезжать, да еще морем, какой же это отдых! Наверное, скоро будет солнце. Ривьера обязана поставлять солнце.
– А вдруг не выполнит обязательств?
– Тогда, благо нет знакомых, будем сидеть в гостинице и заниматься ничегонеделаньем.
Так оно и вышло. Они большую часть дня сидели дома и читали. Дмитрий Анатольевич нашел предмет для «работы». В Европе уже много говорили о теории относительности молодого физика Эйнштейна. Ни одна отвлеченная научная теория не вызывала у большой публики такого интереса, как эта. Ласточкин в Москве побывал на лекции в ученом кружке и почти ничего не понял, кроме примера о двух поездах. Ему казалось, что не много поняли и другие слушатели. Между тем он получил серьезное научно-техническое образование. Правда, математику давно успел позабыть: она не имела никакого отношения к делам, которыми он занимался уже двадцать лет. Как-то с досадой он заметил, что не очень помнит и гимназическую математику: не знал почти ничего о биноме Ньютона и не сразу вспомнил, что именно называется тройным правилом. Решил, что в первое же свободное время непременно пополнит познания. На лекции он спросил у профессора название и номер журнала, в котором была напечатана знаменитая работа. Побывал в библиотеке и разыскал ее, но далеко не ушел и только вздыхал. Накануне отъезда из Москвы заехал в магазин Ланга и купил несколько «Grundriss-ов» и «Vor lesungen über…»[69]. Немного поколебавшись, купил также памятные ему по гимназии «Элементарную геометрию» и «Начальную алгебру» Давидова. Сам был сконфужен: «Вот так инженер-технолог!» Все это повез с собой, к изумлению Татьяны Михайловны. В Вене нашел какую-то популярную книжку, где, с некоторым недоверием, говорилось о теории Эйнштейна.
В их роскошном номере был свой балкон, но проводить на нем время было в январе невозможно. Они придвинули к окнам кресла и читали, Дмитрий Анатольевич с карандашом в руке. В четвертом часу приходилось зажигать лампы. Татьяна Михайловна для себя ничего лучшего не желала, как быть наедине с мужем. Читать рядом было уютно, – но для этого не стоило приезжать на Ривьеру. Учебники Дмитрий Анатольевич восстановил в памяти легко, с Grundriss-ами уже было хуже, а когда в популярной книге он прочел, что теорию Эйнштейна можно по-настоящему понять лишь при знакомстве с новыми методами математического мышления, то приуныл, тем более что назывались имена, неизвестные ему и понаслышке. «Наш милый профессор говорил: «Выдумал немец обезьяну! Будь все относительно, то тем паче «deboliare superbos»[70].
«Принижать гордыню это никогда не мешает, – думал Ласточкин. – Может быть, эта теория характерна именно для нашего времени. В самом деле, если поколеблена механика Ньютона, то какие же могут быть истины в политике, в философии, в политической экономии? И не могут ли оказаться последствия самые необыкновенные?.. Впрочем, в книжке сказано, что теория относительности еще висит в воздухе. Вдруг обезьяна не настоящая?» – думал Дмитрий Анатольевич и с некоторым облегчением переходил от книги к «Le Temps». Тут по крайней мере все было понятно, хотя далеко не все приятно: «Сгущаются, сгущаются тучи…»
Татьяна Михайловна читала новые французские романы. Иногда опускала книгу на колени и задумывалась. У нее настроение было не очень хорошее. В Вене она, тайком от мужа и Тонышевых, побывала у известного всему миру врача. Тот ничего опасного как будто не нашел или, по крайней мере, сказал, что не находит. Она настойчиво просила не скрывать от нее правды, если даже что-либо очень тревожно. «Я сказал вам, сударыня, как обстоит дело, – уклончиво ответил профессор, – но не скрываю, что организм у вас довольно утомленный. Это может в будущем способствовать развитию разных болезней. Непременно показывайтесь почаще врачам и в России».
С этим она и ушла: ничего тревожного, но… Не сказала ни слова Дмитрию Анатольевичу, «нельзя отравлять ему поездку, да, верно, и в самом деле ничего худого…». Как-то, прочитав в романе о чьей-то смерти, она взглянула на мужа. «Ну, а если?.. Что он будет без меня делать?.. Нет, конечно, ничего ему не говорить!» Об его смерти она не думала: об этом невозможно было думать. Татьяна Михайловна знала женщин, которые любили мужей, но оживали после их смерти, – так те подавляли их волю и личность. Однако эти женщины были ей всегда чужды, непонятны и даже немного противны.
Как-то Дмитрий Анатольевич принес газету с объявлениями людей, желающих жениться. «Образованный, красивой наружности господин средних лет, очень любящий природу, имеющий хорошее место, желал бы разделить жизненный путь с барышней, имеющей средства, серьезной и некурящей. Необходима фотография. Секрет переписки обеспечен честным словом», – невозмутимо читал он жене. И вдруг ею овладела радость жизни, – оттого ли, что они с Митей женились без газетных объявлений, оттого ли, что как раз с моря подул свежий ветерок, оттого ли, что в этот день на ней было платье, которое он особенно любил (и потому любила она сама).
– Как хорошо, что нам незачем искать!.. А то написать господину красивой наружности о Люде?
– Отчего бы и нет? Но любит ли она природу?
Оба хохотали.
– А каннская природа все-таки нас подвела. То есть климат.
– Кажется, солнце сейчас застенчиво покажется. Чтобы не погубить репутации Ривьеры.
Когда солнце показывалось, Ласточкины уходили на прогулку. Сначала принималось решение пойти далеко, например в Ле-Канне, но, пройдя по Круазетт, они садились где-нибудь на скамейку, «ах, проклятая одышка!» – думал, а иногда и говорил Дмитрий Анатольевич. Любовались видом на Эстерель. Не умели говорить о природе. Ласточкин обычно пропускал ее описания в романах: «все равно словами не опишешь». Отдохнув, шли дальше, но недалеко. Если же доходили до Ле-Канне, то он очень гордился и за завтраком выпивал две рюмки водки: «Заслужил!» Перед обедом выходили опять и снова садились на скамейку. Дмитрий Анатольевич немного скучал. Разговаривали мало. Смотрели на низкое небо, на редкие звезды.
– «На небе было черно и скучно, на земле было весело». Это из «Войны и мира». Правда, странные слова? – сказала Татьяна Михайловна. Он посмотрел на нее удивленно.
– Да, пожалуй, для Толстого странные, но это совершенно верно. На небе черно, на земле весело. Или, по крайней мере, должно быть весело. По этому случаю сейчас закажем целую бутылку шамбертена? Согласна?
– Митенька, я в винах ничего не понимаю и даже не люблю их. Удивляюсь, как люди находят их вкусными… А ты лучше бы хоть за обедом пил минеральную воду.
– Минеральную воду будем пить, когда будем стары.
– Мы уже и так немолоды.
– Это совершенно разные вещи: немолоды и стары, – отвечал с неудовольствием Дмитрий Анатольевич. – Но хоть аппетит у тебя есть?
– Нет… Есть, но маленький, – отвечала Татьяна Михайловна. Он смотрел на нее беспокойно.
Погода стала еще хуже. Пошел мелкий, сухой снег.
– Это уже настоящее предательство со стороны Ривьеры! – говорила Татьяна Михайловна. – Снег на пальмах и на кактусах! Правительство должно было бы это запретить, это против всяких правил и против стиля. Снег мы имели в Москве бесплатно, а платить для этого за пансион по семьдесят франков в день незачем. Не повезло!
– Можем вернуться в Москву раньше, – ответил Дмитрий Анатольевич, чуть задетый словами «не повезло». Они, разумеется, были сказаны в шутку, но он давно привык к тому, что ему во всем везет.
Несмотря на снег и ветер, они перед обедом снова вышли на Круазетт и вернулись минут через десять. «Уж слишком мрачно. Луна и звезды подражают солнцу, тоже скрылись», – сказал Ласточкин довольно угрюмо. Татьяна Михайловна поднялась в их номер. Он ждал ее внизу. Разговорился со стариком швейцаром. Тот очень хвалил русских.
– Теперь у вас русских что-то мало.
– Еще приедут. Это зависит от сезона и от года. В тысяча девятьсот пятом году, когда в России были беспорядки, у нас чуть ли не все номера были заняты русскими, – ответил швейцар.
Вдруг Ласточкин вспомнил, что Савва Морозов покончил с собой в Канне. Почему-то это его взволновало. «Где? Господи, да в этой самой гостинице! Конечно, здесь! Я помню твердо!»
Он перебил швейцара, уверявшего, что очень скоро установится прекрасная погода: спросил о самоубийстве Морозова. Швейцар помнил это дело, но ответил очень неохотно и старался перевести разговор.
– Я хорошо его знал. В каком номере это было?
Старик ответил не сразу и с неудовольствием. Татьяна Михайловна спустилась вниз. Они пошли завтракать. Ласточкину уже без заказа приносили к закуске русскую водку. Он выпил две рюмки, затем, почему-то поколебавшись, сказал жене, что Савва Морозов покончил с собой в этом отеле. Она тоже чуть изменилась в лице.
– Где? Не в нашем номере?
– Нет, не в нашем. Он жил в другом этаже.
– Я мало его знала. Помнишь, он незадолго до своего конца был у нас на музыкальном вечере? Хороший был человек, очень благородный. Ведь до сих пор так и неизвестно, почему он покончил с собой?
– Неизвестно. Без всякой причины. Это самое странное.
Татьяна Михайловна, разумеется, тотчас заметила резкую перемену в настроении мужа. Между ними давно было нечто вроде телепатии, иногда устанавливающейся между мужем и женой, которые нежно любят друг друга. Эта телепатия, распространявшаяся даже на здоровье, с некоторых пор приносила им нерадостные впечатления. Обоим казалось, что они уже перевалили через гребень и что начинается спуск; точно у них стало меньше жизненной силы, создававшей их счастье. «Но ведь так должно быть у каждой четы, особенно если нет детей», – думала Татьяна Михайловна. Теперь она тревожно себя спросила, что случилось. Телепатия показывала: что-то случилось, но не говорила, что именно.
«У него была, помню, какая-то теория самоубийства, – опять думал за обедом Дмитрий Анатольевич. – Верно, что-то дикое? Странно, очень странно».
Обеды в гостинице были такие, какие полагались богатым людям в то время, не слышавшее о давлении крови, не считавшее калорий, не знавшее, что соль грозит человеку смертельной опасностью: шесть или семь изысканных блюд; многим обедавшим даже было неловко ограничиваться одним вином ко всем семи. В Москве, возвращаясь поздно вечером, Ласточкины еще дома ужинали; почему-то у них это шутливо называлось «седьмым ужином». В Канне обходились без еды на ночь, тем более что ложились рано, но для уюта оставляли себе что-либо в номере. Дмитрий Анатольевич приносил жене конфеты, и она съедала в постели одну или две. Татьяна Михайловна покупала для мужа чаще всего грушу, – одну из тех французских груш, которые развозятся чуть ли не в шкатулках, как драгоценности, и которые надо есть тупыми ложечками, – да и то при прикосновении льется сок. За окном и в этот день лежала такая груша. Татьяна Михайловна перенесла ее на столик в гостиной. Они читали часов до одиннадцати. Затем Татьяна Михайловна ушла в ванную, а Дмитрий Анатольевич лег. При жене старался делать вид, будто внимательно читает.
Без всякой причины им вдруг овладела нестерпимая тоска, с мрачными предчувствиями: болезни, особенно ее болезни, смерть, и даже не смерть, а умирание. Он прежде почти никогда обо всем этом не думал. «И некому будет закрыть глаза, либо ей, либо мне! Детей нет, друзей сколько угодно, но ведь это все-таки чужие люди. Придут на похороны и забудут в тот же вечер, – да хотя бы и не забыли. Савве Тимофеевичу было легче, у него были только друзья, жену он, кажется, не любил. Там внизу в этом самом ресторане он в тот день ел такие же блюда, пил такое же вино, чувствовал ту же смертельную тоску…»
Татьяна Михайловна вернулась в спальню, взглянула на нетронутую грушу, и хоть было смешно обращать внимание на то, съел ли он грушу или нет, перевела глаза на мужа и вздохнула. Оба спали плохо. Каждый чувствовал, что и другой не спит, хотя притворяется спящим.
На другое утро Дмитрий Анатольевич вышел в коридор и, сам не зная, для чего, разыскал номер Морозова. Двери были отворены, в первой комнате работали горничные. Ласточкин заглянул и увидел диван, отодвинутый от стены, – «верно тот самый».
– Monsieur désire?[71] – подозрительно спросила горничная, державшая в руке половую щетку. Он что-то пробормотал в ответ и вернулся в свой номер. У него дрожали руки и стучало сердце.
Накануне отъезда в Москву он прочел в газете, что в Чили упал огромный, очень редкий по составу метеорит и что его перевезли в музей. Газета попутно объясняла, что метеоритами называются металлические массы, падающие обычно при раскатах грома с огненным следом с других планет на землю, гаснущие и распадающиеся. Он подумал, что тут есть некоторое сходство с человеческой жизнью: «Вдруг и мы так, после недолгого большего или меньшего свечения, переносимся из одного мира в другой?» Эта аналогия впрочем показалась ему несостоятельной и даже дешевой.
Вечером он вскользь сказал жене, что в Чили упал редкостный метеорит.
– Ну и что же? – спросила Татьяна Михайловна, чуть подняв брови. Она почувствовала, что Митя говорит не совсем вскользь и немного преувеличивает небрежность тона.
– Ничего, разумеется. Я упомянул так.
– Верно, это как-нибудь связано с теорией Эйнштейна?
– Ни малейшего отношения. Твои научные познания, Танечка, оставляют желать лучшего, – пошутил Дмитрий Анатольевич.
– И научные, и всякие другие. Но уж слишком ученые книги ты стал читать, Митенька, это тебя верно утомило, – полувопросительно сказала Татьяна Михайловна и, не получив ответа, добавила: – Читал бы лучше романы. Прекрасный этот роман Буалева, я его сегодня кончила.
– Прочту в дороге, не прячь его в сундук.
– Хорошо, положу в несессер. Сегодня вечером буду укладывать вещи.
– Я тебе помогу.
– Не надо, поможет горничная, ты и не умеешь. Читай себе в холле «Le Temps».