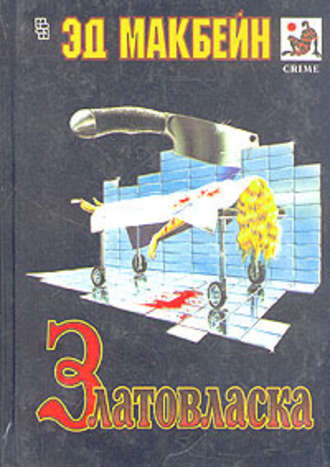
Эд Макбейн
Румпельштильцхен
– Скоро здесь появятся Даунинги. И снова речь идет про эти их завещания, – заговорил Фрэнк. – Я даже не знаю, что еще им можно посоветовать. И вообще, мне бы очень не хотелось влезать в это дело.
– А в чем так сложность-то?
– Видишь ли, они собираются на целых полгода в кругосветное путешествие, в круиз, значит, и теперь перед отъездом им захотелось оформить завещания. Но вот только Салли не желает сделать деверя, брата мужа, значит, своим душеприказчиком…
– Имеешь в виду, если ее Говард умрет раньше, чем она?
– Вот именно. Она, скажем так, недолюбливает брата своего мужа. Только и всего. Ей кажется, что если сначала умрет Говард, а затем она, то ее беспутный деверь разбазарит все, что только можно.
– А у нее что, есть основания для подобной уверенности?
– Конечно, ведь он уже промотал свою часть того наследства, что досталось братьям Говардам после смерти их отца. Вот Салли и боится, что после того, как их с мужем не станет, их имущество удостоится той же участи.
– Ну и что из этого? А она кому хочет доверить все это?
– Своему брату.
– И в чем здесь загвоздка?
– А в том, что он ни чуть не лучше брата Говарда. Как мне удалось выяснить, он просто мелкий картежник из тех, что отправляются каждый уикэнд в Майами. Он может поставить на кон что угодно: хоть собаку, хоть целый дом.
– Да-а… сюда бы сейчас Царя Соломона, – заметил я.
– Через двадцать минут они будут здесь. И что я им скажу?
– А может она согласится с тем, чтобы в случае чего, кто-нибудь из нас стал бы исполнителем ее последней воли?
– Может быть.
– Или банк? Какой у них там банк?
– «Ферст-Юнион».
– Ведь там есть хороший попечительский совет, почему бы тебе не предложить им и этот вариант?
– Она зациклилась на своем брате.
– А Говард что думает по этому поводу?
– Он настаивает на кандидатуре своего брата.
– Ну раз так, то посоветуй им отменит к чертовой матери этот дурацкий вояж, – сказал я.
– Уж лучше я порекомендую им банк.
На столе затрещал селектор. Фрэнк нажал на кнопку:
– Слушаю.
– Здесь к мистеру Хоупу пришли из полиции, – доложила Синтия.
– У тебя что, встреча с полицейским? – поинтересовался Фрэнк.
– Нет, – ответил я.
Он дожидался меня в приемной, этот мускулистый молодой человек с волосами, цветом напоминающими песок. Он представился мне как сержант Халловей и очень вежливо спросил меня, не смогу ли я оказать ему любезность, последовав за ним.
– А зачем это? – поинтересовался в свою очередь я.
– Вы Мэттью Хоуп, не так ли? – переспросил он.
– Да, я Мэттью Хоуп, – подтвердил я.
– Мистер Хоуп, – снова обратился ко мне он, – сегодня утром женщина по имени Виктория Миллер была найдена мертвой в собственном доме. Первой ее обнаружила пришедшая для уборки домработница. Соседи, живущие через дорогу от дома убитой, рассказали нам, что в три часа ночи у дома покойной был припаркован автомобиль «Карманн-Гиа» коричневатого цвета с номерным знаком «Хоуп-1», зарегистрированным во Флориде. Дорожная инспекия утверждает, что эта машина принадлежит вам, мистер Хоуп. В то же время, кажется присматривавшая за ребенком, девушка по имени Шарлен Витлоу находилась вчера около полуночи в доме покойной и подтвердила, что там она была представлена мужчине, назвавшегося мистером Хоупом, что подтверждает ваше присутствие на месте преступления по крайней мере в течение трех часов. И теперь вам просто хотят задать несколько вопросов. Так как, вы идете?
В Калусе полицейский участок официально назывался не иначе как «Здание общественной безопасности», и соответствующая надпись была выведена белыми буквами на его низкой наружной стене. Справа от коричневой металлической двери располагалась другая, менее заметная и частично скрытая за кустами табличка: «Департамент Полиции». Само здание департамента было выстроено из кирпича и по его суровому по своей архитектуре фасаду располагались лишь узкие окна, очень походившие на бойницы в крепостной стене. Подобный архитектурный прием был довольно распространенным в Калусе, где лето было довольно знойным, и огромные окна напускали бы в помещение еще больше раскаленного зноем воздуха. В марте прошлого года я провел в этом здании довольного много времени, занимаясь делом своего клиента по имени Джеймс Печиз, жена и сын которого были жестоко убиты в его же собственном доме на Джакаранда Драйв. Тогда мне пришлось работать со следователем, которого звали Джордж Эренберг. Когда по пути в участок я спросил у сержанта Халловея, работает ли сегодня Эренберг, он лишь кратко ответил мне, что детектив Эренберг больше не работает в Калусе, и что теперь он несет службу в полиции Лаудерейла. Тогда я снова поинтересовался у Халловея, где же теперь в таком случае находится напарник Эренберга – детектив Ди Лука.
– У Винни сейчас отпуск, – был ответ. – И до двадцать первого он не вернется.
– Вот оно что, – сказал я. До двадцать первого оставалась еще целая неделя.
Ярко-оранжевый лифт поднялся, словно огромный перископ прямо напротив входа в приемную на третьем этаже. Там у стены стоял стол, а за ним сидела молодая женщина. Она что-то быстро печатала на машинке. На стене у нее над головой висели часы, показывавшие без десяти минут одиннадцать. И все это было мне до боли знакомо и привычно (за исключением того, что Винсент Ди Лука тогда был в отпуске, а Джордж Эренберг был переведен в Департамент полиции Форта Лаудердейл). Тот человек, что ждал меня для беседы, представился как детектив Моррис Блум. Это бол большой мужчина, лет ему было уже за сорок, и он был выше меня по крайней мере на целый дюйм. Одет он был в несколько помятый синий костюм и неглаженную белую рубашку, верхняя пуговица ворота которой была расстегнута, а узел галстука соответственно несколько ослаблен. У него были руки уличного драчуна, лицо лисы, нос на котором, видимо, был ломан уже не один раз, косматые черные брови и темно-карие глаза, которые и придавали всему его лицу такое выражение, что его кто-то сильно обидел, и он вот-вот расплачется. Глядя на него, я припомнил, что Джордж Эренберг тоже почему-то был преисполнен какой-то непередаваемой словами грусти, и мне было уже просто интересно узнать, действительно ли всем, состоявшим на службе в полиции Калусы, работа доставляла такую боль. Блум тут же поставил меня в известность, что он занимается расследованием по делу об убийстве и что перед тем, как он начнет задавать мне вопросы, ему бы хотелось проинформировать меня о моих правах. Это было первое упоминание о случившемся как об «убийстве». Сержант Халловей сказал мне только о том, что Викки была найдена мертвой. В этом штате случаи как самоубийств, так и убийств расследовались в точности по одной и той же схеме, и прежде у меня были все основания полагать, что если я был последним, кто застал Викки в живых, то визит полиции ко мне в офис можно было считать в порядке вещей. Но теперь об убийстве было заявлено официально. Убийство. И уже в этом случае положение мое было далеко незавидным. Если бы я остался с ней прошлой ночью…
– Я адвокат, – сказал я ему. – Мне известны мои права.
– Знаете, мистер Хоуп, я считаю, что если подходить к делу с сугубо технической стороны, то вы находитесь здесь под стражей, и я обязан ознакомить вас с вашими правами. Я служу в полиции уже почти двадцать пять лет, и ничто не раздражает меня больше, чем то, что приходится постоянно пересказывать одно и то же. Но я уже на собственной шкуре убедился, что на допросах лучше сразу сделать все так, как это положено, чтобы в дальнейшем не сожалеть, что не сделал этого, и если вы не возражаете, я быстренько зачитаю вам все, что касается ваших прав, и больше мы к этому уже не будем возвращаться.
– Если вам от этого станет легче, – отозвался я.
– От того, что людей убивают, мне легче никак стать не может, мистер Хоуп, – сказал он мне в ответ, – но давайте все же хотя бы начнем так, как того требует Верховный Суд, ладно?
– Хорошо, – согласился я.
– О'кей, – начал он, – в соответствии с постановлением Верховного Суда 1966 года по делу Миранда против Аризона, мы не имеем права начинать допрос до тех пор, пока вы не будете предупреждены о вашем праве на защиту, и с тем, чтобы избежать впоследствии самооговора. Во-первых, вы имеете право хранить молчание. Вам это понятно? – Да.
– Вы имеете право не отвечать на вопросы. Это вам понятно?
– Если же вы все-таки станете отвечать, то любое ваше слово может быть использовано против вас.
– Мне это известно.
– Далее, вы имеете право прибегнуть к услугам адвоката, как перед, так и во время допроса.
– Я сам адвокат. Дальше, я думаю, можно не продолжать, не так ли?
– Может быть и так, – подозрительно проговорил Блум. – Вам полностью ясны ваши права?
– Да.
– О'кей. Тогда я начну с того, что имеет принципиальное значение: вы были вчера с Викторией Миллер в промежутке от полуночи и часов до трех ночи?
– Если вы имеет в виду ее дом, то мы были там уже около половины двенадцатого. Мистер Блум, вы можете сказать мне, что же все-таки произошло?
– Знаете ли, мистер Хоуп, да не в обиду вам это будет сказано, но я пригласил вас сюда, потому что мне хотелось бы услышать то же самое от вас. Ведь, мистер Хоуп, я уверен, что будучи юристом, вы наверняка понимаете, что из-за того, что вы провели вместе с ней три-четыре часа, у меня теперь есть все основания для того, чтобы подозревать вас, как ее возможного убийцу.
– Но когда я уходил от нее, она была жива, – возразил я.
– А в котором часу это было? – немедленно последовал вопрос.
– Где-то между тремя часами и половиной четвертого утра.
– А более точное время не можете указать?
– Три пятнадцать-три двадцать, вот так приблизительно.
– Кто-нибудь еще видел, как вы выходили из дома?
– Вот этого не могу вам сказать. Не знаю.
– Одна лэди из дома напротив смотрела по телевизору фильм, так вот она утверждает, что когда она в три часа ночи выключала свет, то ваша машина все еще была припаркована у дома убитой.
– Да, в три я все еще был там.
– Почему вы в этом так уверены?
– Я запомнил, как часы отбивали время.
– Какие часы?
– В гостиной. Такие маленькие фарфоровые часики.
– Вы находились в гостиной в это время?
– Нет. В это время мы были в спальне.
– Мм-м. В постели?
– Да.
– Мистер Хоуп, я прошу прощения, но я вынужден спросить вас об этом. Скажите, вступали ли вы в интимные отношения с Викторией Миллер минувшей ночью?
– Да.
– Мистер Хоуп, а вы до этого давно были знакомы с ней?
– Немногим больше трех недель.
– А вообще за все время вашего знакомства между вами часто происходили подобные встречи?
– Нет. До вчерашнего дня нет.
– Мистер Хоуп, вы женаты?
– Уже нет. Я развелся.
– Насколько я понимаю, мисс Миллер была певицей…
– Да, это так.
– … и она выступала неподалеку отсюда в «Зимнем саду», том ресторане, что на Стоун-Крэб.
– Да, и вчера вечером мы были там вместе.
– Пока она там пела?
– Да.
– А когда это было по времени?
– Я приехал туда, когда еще не было девяти. Шоу закончилось в десять. Потом мы еще немного задержались там, встретив кого-то из ее знакомых до… кажется ушли мы оттуда без четверти одиннадцать. Я отвез ее домой, где мы и были уже в половине двенадцатого.
– В доме был еще кто-нибудь, когда вы приехали?
– Да. Девушка, что присматривала за дочерью Викки. Викки расплатилась с ней, и после того как она ушла…
Не решаясь рассказывать, чем мы занимались дальше, я замолчал.
– Мне вы можете рассказать об этом, – заметил Блум, – я не собираюсь выяснять, кто где достает наркотики. Мы нашли в пепельнице пару окурков, а также два невымытых бокала. Итак, ваши дальнейшие действия заключались в том, что вы устроились так, чтобы покурить марихуаны и немного выпить. Так? А потом что?
– Потом мы отправились в спальню.
– И занялись там любовью?
– Да.
– До трех – трех тридцати утра?
– Да.
– А вам не приходилось в тот вечер видеть там маленькую девочку?
– Нет. Она спала.
– А вы ее вообще когда-нибудь встречали?
– Да, один раз.
– Когда это было?
– На прошлой неделе. В пятницу.
– Но вчера вы ее не видели, так?
– Нет, не видел.
– Ни когда вы пришли туда, ни тогда, когда уходили?
– Да, это так. Няня дала девочке снотворное, кажется никвил, чтобы та уснула.
– Вам это сказала сама няня?
– Она сказала об этом Викки. А Викки передала ее слова мне.
– А какие между вами были отношения?
– С Викки? Все было замечательно.
– Ни перебранок, ни ссор, что зачастую случаются между любовниками, ни…
– Мы с ней не были любовниками.
– До минувшей ночи. А кем же вы тогда были до этого?
– Друзьями.
– И хорошими друзьями?
– Я бы сказал, случайными друзьями.
– Но ведь ваша вчерашняя ночь не была случайной.
– Нет, случайной та ночь не была.
– Итак, вчерашняя ночь. Вчера между вами не было никаких размолвок?
– Нет, не было. Хотя, подождите… да. Кажется, да. Я думаю, что мы все-таки повздорили немного. Во всяком случае, это наверное можно счесть размолвкой.
– Вот как? И что же это было?
– Она хотела, чтобы я остался с ней, а мне нужно было идти домой. Мы еще некоторое время это обсуждали, а после я ушел.
– И как она отнеслась к этому вашему поступку?
– Мне кажется, что она на меня очень рассердилась.
– Но вы тем не менее ушли.
– Да, я ушел.
– И вы утверждаете, что когда вы уходили, она была жива, так?
– Очень даже жива.
– Я допускаю, что возможно это и было так, – сказал Блум, кивая мне. – Знаете, мистер Хоуп, при такой работе, как у меня, у человека начинает развиваться чувство, которое Эрнст Хемингуэй назвал встроенным детектором лжи. Вы знаете об Эрнсте Хемингуэе, о писателе?
– Я знаком с его творчеством.
– И вот ты начинаешь каким-то образом чувствовать, когда тебе говорят правду, а когда наоборот, лгут. Я думаю, что ваша работа, тоже способствует чему-то подобному. Мне кажется, что вы говорите правду, – он передернул плечами. – Надеюсь, мне не придется напоминать вам о том, чтобы вы пока не уезжали бы никуда из города, ведь мы с вами не в кино. Как раз сейчас производится вскрытие, и может быть мне опять будет нужно увидеться с вами, после того, как получу результаты. Если исходить из того, что вы мне только что рассказали, то у нее во влагалище должны будут обнаружить сперму, но для нас это будет все равно уже практически бесполезно, если мы начнем выяснять, была ли она изнасилована перед смертью или нет. Но может быть им все же удастся найти что-нибудь помимо очевидной причины смерти…
– Мистер Блум, скажите, а что это было?
– Ее до смерти избили.
– Изби…
– М-да, славно, а? Мы предполагаем, что это сделал мужчина, потому как убийца обладал, по-видимому, недюжинной силой. У нее оказалась сломаной челюсть, нос и еще дюжина ребер, а еще к тому же проломлен череп, очевидно, ее били головой о кафельный пол ванной комнаты. Там-то ее и нашла домработница в девят утра, все в той же ванной, и весь этот чертов пол был залит кровью. А там, черт его знает, может быть убийцей была и женщина. Ведь некоторые женщины в гневе могут становиться сильными словно буйволицы. У меня в практике был случай (я тогда служил в полиции округа Нассау), когда малюсенькая, миниатюрная женщина задушила своего мужа, который весил никак не меньше двухсот фунтов. Вот вы сейчас наверняка подумали о том, что он мог бы запросто отшвырнуть ее в сторону, ведь так, я прав? Но у той женщины оказались на редкость сильные руки. Гнев был скрыт у нее в пальцах, представляете?! – он соединил вместе свои большие руки, переплетя пальцы и словно сжимая воображаемое горло. – Против такой ярости парень оказался бессилен. И вот что я скажу вам, мистер Хоуп, никогда не связывайтесь с по-настоящему разгневанными людьми. А то и глазом не успеете моргнуть, как окажетесь на том свете, – он разжал пальцы и потом снова заговорил, горестно качая при этом головой. – Я перевелся сюда, потому что был уверен, что у вас здесь, в таком прекрасном местечке как Калуса, мне не придется столкнуться с подобным дерьмом, что разве я не прав? Я-то думал, что здесь только котов могут воровать, эдакие первокласные кошачьи воры, крадущиеся в темноте… А тут вместо этого – на тебе, какой-то негодяй насмерть избивает молодую девчонку среди ночи, – Блум снова покачал головой. Грустные карие глаза его глядели теперь еще более печально. Он вздохнул и затем сказал, – а вы, случайно, не знаете никого, кому могла быть так нужна та маленькая девочка?
– Что? – переспросил я.
– Ее малышка.
– Я не понимаю, о чем вы.
– Причем до такой степени, чтобы из-за этого пришлось бы даже убить мать.
– Мне все еще…
– Малышка пропала, мистер Хоуп. Кем бы там ни был убийца Виктории Миллер, но ее дочку он забрал с собой.
Глава 3
Я никак не мог отделаться от ощущения, что я тоже был отчасти виновен в том, что Викки умерла, а дочка ее была похищена. Я ведь даже не знал полного имени Элисон, и теперь эта допущенная мною оплошность заставляла меня испытывать сильнейшие угрызения совести, сравнимые разве только с мучившим меня тогда чувством вины. Мой компаньон Фрэнк утверждает, что тремя этническими меньшинствами, которые постоянно и в большей мере, чем все остальные из когда-либо живших или живущих на земле, оказываются виноваты во всем, являются евреи, итальянцы и разведенные мужчины. О первых двух этнических группах я ничего сказать не могу, но все же я со всей ответственностью могу подтвердить, что комплекс вины сыграл далеко не последнюю роль при подписании мной бракоразводного соглашения, когда вначале инициатива исходила от адвоката Сьюзен, а впоследствии это же самое соглашение было предложено мне и моим собственным адвокатом, Элиотом Маклауфлином. Сьюзен при каждом удобном случае поминала мне, что я, по ее выражению, «шлялся по бабам и докатился до того, что занялся развратом» с женщиной, выжившей из ума настолько, чтобы даже пойти на самоубийство из-за любви к такому негодяю, каковым являюсь я, и что если бы не это мое «мальчишеское поведение», то моей дочери теперь не пришлось бы разрываться между двумя домами, и вместо этого она бы просто жила в нормальной семье, «как все другие дети в Калусе». Однако при этом Сьюзен забывает, что уровень разводов в Калусе примерно такой же как и в целом в Соединенных Штатах: каждый год разводятся примерно сорок процентов от общего количества всех семейных пар. И фактически большинство друзей моей дочери тоже жертвы… – ну вот, до чего я договорился. Жертвы. Очень нелегко противостоять этой пропаганде Сьюзен против меня, тем более, что каждый раз, когда я приезжаю за Джоанной, она непременно говорит нашей дочери: «А вот и твой папочка», – при этом интонация, с которой все это произносится, фактически подразумевает вот что: «А вот и он, этот сукин сын, да к тому же еще бабник и просто никчемный отец». Фрэнк говорит, что это чувство вины уже никогда не пройдет. Она рассказывал мне о том, что некоторые из его знакомых развелись уже десять или даже более лет назад, но тем не менее их бывшие жены до сих пор снятся им каждую ночь. С тех пор, как в июне прошлого года я развелся со Сьюзен, она приснилась мне лишь однажды. Но в то утро, в утро того понедельника, в то время как я вышел из полицейского участка, и мне еще предстояло пройти пешком десять кварталов до Херона и Воэма, туда, где были расположены наши офисы, меня не покидало чувство, что Викки и все то, что с ней произошло еще очень долгое время будет сниться мне по ночам.
На моих глазах зарождался еще один погожий день. Электронные часы на зданиях «Банка Южной Флориды» и трастовой компании показывали попеременно то время – 11:20, то температуру воздуха: было уже семьдесят два градуса, а у солнца было в запасе еще сорок минут на то, чтобы достичь зенита. Небо над домами было голубым и безоблачным; легкий туман раннего утра, лежавший на земле в то время как мы вместе с сержантом Халловеем ехали к центру города в его патрульной машине, теперь уже полностью исчез. В Калусе полицейские патрулируют улицы города поодиночке. Они вешают фуражки на крючок над солнцезащитным щитком со стороны места пассажира, что рядом с водителем, и если посмотреть сзади, то создается иллюзия того, что как будто в машине находится еще один полицейский. Этот трюк может ввести в заблуждение только туристов; каждому местному жителю, и ворам в том числе, прекрасно известно, что в машине едет только один полицейский. В то время, пока я стоял на переходе у светофора, собираясь перейти через улицу напротив магазина Братьев Гаррис, мимо меня проехала патрульная полицейская машина. Как обычно фуражка водителя висела над сидением рядом с ним. Он повернул голову и взглянул в мою сторону, а ко мне вдруг снова вернулось это пронзительное чувство осознания своей вины, и было оно таким сильным, что в какой-то момент я действительно поверил в то, что в машине находились двое полицейских, и что оба они очень пристально разглядывали именно меня. На светофоре зажегся зеленый свет. Я перешел через улицу под горячими лучами утреннего солнца.
Но тут меня охватило еще одно чувство, отделаться от которого было так же трудно, как и от комплекса вины. Я все еще никак не мог забыть, как Викки вышла вчера из дома, чтобы сказать мне, что Элисон приболела, и как я тут же подумал, что она лжет мне. И теперь я снова стал пытаться подобрать всему этому какое-нибудь более или менее рациональное объяснение, точно так же, как старался сделать это минувшей ночью. Тогда я был разочарован, я был отвергнут (по крайней мере, так мне показалось тогда), и поэтому я про себя решил, что Викки просто придумала такую причину, щадя мои чувства: ей не хотелось оставаться наедине со мной у меня дома, а та наскоро придуманная история о кашле, сопровождаемом к тому же еще и повышением температуры, казалась самым простым путем для избавления от нежелательных проблем. Но ведь это было до того, как она сама пригласила меня войти, все это было перед тем, как мы курили марихуану и пили коньяк, а потом еще вытворяли черт знает что у нее в постели. Итак, если ее ложь была направлена совсем не на то, чтобы отделаться от дальнейшего совместного времяпрепровождения, то зачем вообще ей нужно было лгать мне?
Она пошла в дом, пообещав, что она лишь «возьмет травку и взглянет на Элли». Через три-четыре минуты от вернулась обратно с этой, в чем я был уже абсолютно уверен, лживой историей. Было бы вполне разумно предположить, что за эти три-четыре минуты она узнала что-то такое, что заставило ее так резко переменить все планы и не оставлять дочь в доме одну в обществе одной лишь няни. И при дальнейшем рассмотрении данной проблемы казалось так же разумным предположить, что пятнадцатилетняя Шарлен Витлоу возможно могла знать, что это было.
За исключением тех случаев, когда ребенку везет настолько, что его принимают в элитарную среднюю школу «для одаренных», ту, что официально называется «Бедлоу», а среди родителей, чьи дети не сумели выдержать строгие вступительные экзамены, презрительно именуется не иначе как «Бедламом»; или же если семья ребенка настолько богата, что может позволить себе выбрать для своего чада одну из двух местных частных школ – Святого Марка, находящуюся непосредственно в самой Калусе, и «Реддинг Академи» в Манакаве, пригороде Калусы – возможности получить среднее образование сводятся к трем школам, и дальнейший их выбор ограничивается уже непосредственно районом города, где учащийся проживает. Конечно, мне гораздо приятнее было бы сообщить вам о том, что все белые родители в Калусе начинают просто плясать от радости прямо на городских улицах, когда в один прекрасный момент им доводится узнать, что не исключена вероятность того, что их ребенку придется посещать среднюю школу Артуру Козлитта, где, как известно, необычайно высок процент темнокожих учащихся. Нет, увы, это совсем не так. За последние несколько лет у меня в офисе перебывало по крайней мере с дюжину разгневанных родителей, которых интересовал единственный вопрос: что бы такое им было бы возможно предпринять, с точки зрения законодательства, разумеется, чтобы перевести ребенка из Козлитта либо в школу Джефферсона, либо в школу Тейта, в каждой из которых было гораздо более умеренное соотношение между числом белых и темнокожих учащихся.
В Калусе живет примерно сто пятьдесят тысяч человек, и треть из них составляют негры и еще очень небольшое число кубинцев, перебравшихся на Западное побережье из Майами. Одно время у нас на Мейн Стрит был ресторанчик под названием «У кубинца Майка», и там делали самые лучшие сэндвичи во всем городе, но в августе прошлого года, после того, как кто-то бросил туда зажигательную бомбу, это заведение прикрыли. Белые во всем обвиняли негров; негры валили все на «пришлых»; а небольшая горстка обосновавшихся в городе кубинцев стойко держала язык за зубами, не желая, чтобы как-нибудь в одну из темных ночей, на лужайках перед их домами заполыхали бы огненные кресты. Между прочим, все тут делают вид, что будто бы мы все еще живем в прошлом веке; я думаю, что кроме нас с Фрэнком, больше никто во всей Калусе не замечает того, что на концертах, устраиваемых в «Хелен Готлиб», обычно присутствует лишь примерно полдюжины темнокожих зрителей – и это в зале, рассчитанном на две тысячи человек!
Шарлен Витлоу жила на улице Цитрус-Лейн, что находилась в юго-восточной части города, а это означало, что по всем правилам она должна была бы учиться в школе Козлитта. Но всего один звонок в местный департамент образования (я специально для этого заскочил ненадолго в свой офис) – и я узнал, что оказывается, Шарлен Витлоу была второкурсницей престижного «Бедлоу» на Тантамаунт и Крейн. Я сказал Синтии, что поеду туда сейчас же, и постараюсь успеть до обеда, и что обратно я рассчитываю вернуться к трем часам, чтобы успеть к назначенным мною встречам.
Синтия поинтересовалась у меня, что такое произошло в полицейском участке. Я рассказал ей все, и она пообещала мне, что дождется, пока не вернется Фрэнк. Моя машина жарилась на солнце все утро, до черных сидений было горячо дотронуться. Я поехал в южном направлении и выехал на Олеандр-Авеню, идущей параллельно 41-му шоссе, но мало известной туристам. Затем, повернув на Тарпон, я продолжил свою поездку самыми немыслимыми путями, стараясь избегать светофоров и перекрестков; в Калусе проще иметь дело с запрещающими дорожными знаками, и уж любой ценой следует избегать левых поворотов на перегруженные магистрали.
Когда я наконец припарковался на стоянке у «Бедлоу» на Тантамаунт, стрелки часов уже перешагнули рубеж половину первого. Я спросил у попавшейся мне навстречу девушки лет семнадцати, где находится главный офис их школы, и она указала мне на белое здание с оштукатуренными стенами, находящееся по соседству с другими подобными ему постройками, вольготно раскинувшимися по территории всего студенческого городка. На игровой площадке дюжина или чуть больше мальчишек и девчонок оглушительно кричали, увлеченно играя в мяч. Суетливая секретарша с карандашом, почему-то воткнутым в волосы, сообщила мне, что в настоящее время Шарлен Витлоу находится на перерыве на обед – точно так же, как и все остальные учащиеся «Бедлоу», – но после у нее по расписанию идет урок английского языка в корпусе номер четыре, это вон в том здании с бордовой дверью, и начнется он в час дня. И только после этого, с большим опозданием, она поинтересовалась у меня, а кто же я, собственно говоря, такой. Я ответил, что я дядя Шарлен.
Без десяти час учащиеся стали расходиться по классам. На Шарлен была надета все та же рубашка и голубые джинсы, что я видел на ней вчера вечером; у меня промелькнула дурацкая мысль, что должно быть, она и спать ложится в этом наряде. Она узнала меня сразу же, как только вышла из-за угла здания, и в глазах ее застыл испуг. Ведь сегодня утром ее уже допрашивали в полиции, и ведь это она рассказала им, что вчера в половине двенадцатого ночи в дом к Викки пришел человек по имени мистер Хоуп. И теперь она, должно быть, подумала, что я пришел сюда именно за тем, чтобы сделать с ней то, что сотворил и с Викки, то, что по ее предположению я сотворил с Викки.
– Шарлен, – быстро проговорил я, – все в порядке, я просто хочу задать тебе несколько вопросов.
– Я им ничего не сказала, – начала оправдываться Шарлен, одновременно медленно пятясь от меня.
– Я уже разговаривал с полицией…
– Я только имя ваше…
– Да, все в порядке, я сам юрист, – сказал ей я, – все ведь нормально.
Когда говоришь людям, что ты юрист, то это, кажется, их несколько успокаивает, хотя, если посмотреть правде в глаза, то следует все же признаться, что в тюрьмах по всей Америке содержатся сотни юристов, совершивших просто непередаваемые словами самые гнусные преступления. Мои слова, кажется, возымели какое-то действие на Шарлен. Она сделала осторожный шаг в мою сторону.
– Я не думала на вас, – прошептала она.
– Ты права. Я этого не делал.
– Вы говорили с мистером Блумом?
– Да.
– Я испугалась его, – призналась мне Шарлен.
– Напрасно. Он замечательный человек.
– Ужасно, что все так получилось, правда?
– Жутко.
– А как вы думаете, кто это сделал?
– Понятия не имею.
– Тот человек, что звонил?
– Кто-кто? – тут же переспросил я.
– Тот, который позвонил вчера вечером.
– Шарлен, а он не назвался?
– Нет. Он просто сказал мне передать Викки, что он заскочит к ней, чтобы забрать.
– Забрать что?
– Он не сказал.
– А он не упоминал о деньгах, или…
– Нет.
– Или… ну, вообще о чем-нибудь? За чем таким он собирался зайти к ней?
– Нет, он просто сказал: «Я заскочу, чтобы забрать», это все.
– А в котором часу это было?
– Он звонил трижды.
– И все это прошлым вечером?
– Да. Первый раз он позвонил сразу же после того, как Викки села в такси и поехала в «Зимний сад». Это было примерно…
– Да, когда?..
– Примерно без десяти восемь, я тогда только-только пришла к ним.
– И ее тогда уже не было дома, да?
– Конечно, ведь у нее же в девять часов должно было начаться выступление.
– Да, я об этом знаю. А что он сказал, когда позвонил в первый раз?
– Он просто спросил, не может ли он поговорить с Викки, а я ему сказала, что ее нет дома. Я никогда не говорю никому по телефону, кто куда ушел и когда собирается вернуться. Это, конечно, дурная привычка. Но одни раз я видела в кино, как один мужик, собиравшийся совершить ограбление, сначала звонил по телефону, и няня отвечала ему, кто где, и когда вернется, и так он узнавал, что в доме кроме няни никого нет, и он может спокойно приходить и грабить.
– Мм-м. А потом, когда он позвонил?
– Около половины одиннадцатого.
– И что ты ему ответила?
– Я сказала, что Викки пошла выгуливать собаку, а потому никак не может подойти к телефону. У Викки не было собаки, но мне не хотелось, чтобы он понял, что она вернется поздно, потому что тогда бы он понял, что я была там одна. Понимаете? Только я и Элисон. А ей всего-то шесть лет.







