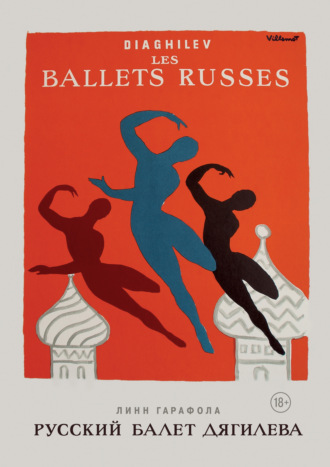
Линн Гарафола
Русский балет Дягилева
Хотя «Весна священная» не имела прецедентов в Париже и Лондоне, манипулирование ансамблями у Нижинского имело определенные параллели с управлением массами у Мейерхольда примерно в тот же период. За две с половиной недели до увольнения танцовщика из Императорских театров, в январе 1911 года, режиссер показал вызвавший полемику спектакль «Борис Годунов». С Федором Шаляпиным в главной роли и декорациями Александра Головина это возобновление напоминало о парижской постановке Дягилева трехлетней давности. Поскольку Мейерхольду нужно было работать быстро, он следовал в основном режиссерскому плану Александра Санина – исключая массовые сцены. В интервью «Биржевым ведомостям» Мейерхольд говорил:
Санин в своей постановке индивидуализирует толпу, у меня толпа делится не на индивидуумов, а на группы. Идут, например, поводыри с каликами перехожими – все они одна группа, публика их должна воспринять сразу, как нечто целое… Возьмите толпу бояр… Нужно ли расчленять ее на отдельных, непохожих один на другого бояр, когда они составляли одно целое раболепствующей челяди? Как только кто-нибудь возвышался над этой толпой, он непременно становился царем – Василий Шуйский, Годунов были редкие по характеру люди…[190]
Как Нижинский, Мейерхольд преобразовал ансамбль в обезличенную человеческую массу, состоящую из отдельных групп, истоком объединения которых стало насилие. В первой картине московские приставы хлестали народ, заставляя его повиноваться, со зверством, которое вызвало «патриотическое негодование» в прессе правого крыла. М. О. Меньшиков в газете «Новое время» спрашивал:
Откуда взял это господин Мейерхольд? Я думаю, что г. Мейерхольд взял приставов из своей еврейской души, а не из Пушкина, у которого (в «Борисе Годунове») нет ни приставов, ни кнутьев. Может быть, в самой действительности были и приставы, похожие на палачей, и кнутья, но неужели опера… есть перенесение грязной действительности на сцену? Господину Мейерхольду или той кучке инородцев, в чьих руках императорская сцена, видимо, хотелось с первой же картины подчеркнуть глубокое рабство, в котором (будто бы) пребывала Древняя Россия, с первой же картины вывести тогдашнюю московскую полицию, потрясающую треххвостными кнутьями…[191]
Каким бы оскорбительным ни был выпад Меньшикова, он выдает секрет провокационной политики Мейерхольда – то, как он представил массы. В мейерхольдовском «Борисе Годунове» масса – и действующее лицо истории, и ее жертва, субъект и объект в материалистическом представлении о судьбе. Нечто похожее присутствует и в «Весне священной» Нижинского, где сила судьбы, безжалостная и вездесущая, была отнята у отсутствующего бога и передана во власть человека. В этих условиях божественного отсутствия всем располагает человеческое сообщество; в его руках и секрет жизни, и сила смерти; более того, оно обладает властью над отдельным человеком. Избранница – это ось, вокруг которой вращается «Весна священная». Хотя эта роль была задумана Стравинским, она говорит непосредственно о хореографии. Как позднее писала Нижинская, работавшая вместе с братом над самыми ранними ее набросками, смертельный танец Избранницы был «собственностью» Нижинского. Подобно Золотому рабу в «Шехеразаде», Избранница испускает свой последний вздох в экстазе самопожертвования; как Петрушка, она берет на себя грехи актера, расплачивается за свою инаковость. Нижинская писала:
В «Священной пляске» я воображала, что… все замерло, словно перед бурей. Стремясь осознать первобытный ритуал, требующий, чтобы Избранница умерла ради спасения земли, я чувствовала, что мое тело должно вобрать в себя, поглотить неистовство этой бури. Сильные, резкие, самопроизвольные движения как бы противостояли стихии, когда Избранница охраняла землю от угрозы, надвигавшейся с небес. Избранница плясала, словно одержимая, так как жертвенный обряд предполагал, что она умрет, танцуя до изнеможения[192].
В «Весне священной» приносится в жертву не только Избранница. В смертельном танце героини приходит к концу и бисексуальная юность Нижинского – это было своеобразным предчувствием события, которое спустя чуть более трех месяцев после премьеры балета положит конец его отношениям с Дягилевым, – женитьбы на Ромоле де Пульски. С этого времени герои его балетов – озорной бунтарь в «Тиле Уленшпигеле», романтический Фауст в «Мефисто-вальсе», мрачный самурай в безымянном японском балете, пребывающий в поиске художник из другого безымянного балета в стиле эпохи Возрождения – будут придерживаться традиционной мужской идентичности. В редких случаях, когда границы пола размывались – в балете на музыку «Песен Билитис» и в другой постановке, где действие предполагалось в доме терпимости, – главными действующими лицами были женщины. Из всех этих проектов, задуманных во время войны, лишь «Тиль Уленшпигель» был показан на сцене. В этом спектакле, как и в «Весне священной», спаситель всего сообщества приносится у Нижинского в жертву. Но, в отличие от предыдущего балета, в «Тиле Уленшпигеле» это преподносится в понятиях классовости: в образах простонародья, которое непрерывным потоком является из лабиринтов средневекового Брауншвейга, и буржуазии, которая торжественно выходит из своих особняков. Г. Т. Паркер в бостонской вечерней газете «Транскрипт» писал:
Наступает ночь, уважаемые люди находятся у себя дома, в постели; лишь простой народ, сытый, счастливый, ликующий, опьяненный дневными действиями Тиля, заполняет площадь… они шумно приветствуют его и называют своим освободителем.
Тиля несут на плечах, словно на троне, как властелина разума, приносящего свободу, и насмешки, от которой условности и лицемерие теряют свою силу… На площади появляются инквизиторы… Тут же происходит повешение… Но стоит палачам уйти, как он вновь возвращается к жизни, к вечному существованию веселья, которое побеждает притворство, и смеха, который разоблачает ничтожество больших притязаний. В мрачной задумчивости, пророчески… народ созерцает вечное чудо[193].
По иронии судьбы, Тиль, фламандский народный герой, ближе к жертвенным богам древних мифов, чем Избранница. Ибо в отличие от Аттиса, Осириса и других мужских божеств, принесенных на алтарь европейских и ближневосточных богинь плодородия, пасхальная жертва в «Весне священной» – девушка. Ни в античных мифах, ни в славянских верованиях не было прецедента женского жертвоприношения. Лишь у мексиканских ацтеков, где девушек-рабынь и благородных дев убивали жрецы Богини Маиса, можно найти прообраз такого обряда, но создатели «Весны священной» никогда не упоминали об этом кровавом ритуале[194]. Придуманная Стравинским, стилизованная под древность Рерихом и оживленная Нижинским, Избранница была рождена началом XX века – и состояла в родстве с выдуманными мифами Уильяма Батлера Йейтса, Томаса Стерна Элиота и Зигмунда Фрейда. Действительно, труд последнего «Тотем и табу», представленный публике в тот же год, что и «Весна священная», также обращается к темам человеческого жертвоприношения – в данном случае убийства первобытного отца, а не первобытной дочери. В центре воссозданного мифа балета – наваждение времен fin de siècle[195], связанное с образом «женственного» артиста, которое было слабостью символистской литературы, живописи и драмы. Однако в «Весне священной» этот образ был смягчен; лишенный андрогинности, он принял форму «безопасного» обличья молодой девушки – традиционного балетного средства искупительной жертвы. Избранница – Жизель, примитивизированная в духе времен Золотой Орды, – прежде всего была плодом мужского плотского желания XX века.
Насколько парадоксально то, что миф «Весны священной» был не старше, чем fin de siècle, настолько парадоксален и тот факт, что ее примитивизм не имел ничего общего с африканским искусством. Конечно, африканская скульптура оказала решающее влияние на возникновение кубизма: она преподнесла современным художникам, как говорил Аполлинер, «нравственный урок»[196]. Но этот урок происходил не из Африки как таковой, а из осознания отличности: той степени, в которой подобное искусство отрицало ценности и формы, ассоциирующиеся с «цивилизацией». В этом смысле примитивизм отражал состояние сознания; определяя в большей степени психологическую сторону, чем реальный факт, он постулировал таинственное, непознаваемое Иное. Для одних это Иное выражалось в образе женщины, для других – в бессознательном, проявляющемся в творчестве детей, или в автоматическом письме. Если модернизированная Европа искала все это в экзотических странах, для европейской периферии эта «Африка сознания» обнаруживалась в их собственной национальной самобытности: у испанцев – в древнем искусстве Иберии, у русских – в древнеславянском искусстве. В этих традициях и в реалиях XX века тех стран, где они достигли расцвета, «третий мир» приобрел конкретные формы, посеяв в сознании художника воспоминания о временах отсталости. В примитивизме два этих мира сошлись и принесли модернистские плоды. Для Нижинского и его соавторов центр примитивности обнаружился в русских степях.
С появлением «Весны священной» балет переступил порог модернизма. Дягилев, использовавший бессчетные средства и обширные человеческие ресурсы, отступил от революции, которую он сам привел в движение. Уже летом 1913 года, писала Нижинская, Дягилев «разочаровался в таланте Нижинского и в его балетмейстерских способностях». Иными словами, еще до отъезда Нижинского в Южную Америку и его брака с Ромолой де Пульски Дягилев «дал ясно понять… что не намерен поручать ему постановки новых балетов». Действительно, телеграмму о том, что он уволен из Русского балета, танцовщик получил как раз тогда, когда Петербург облетел слух о том, что Дягилев и Фокин достигли полного согласия относительно участия последнего в сезоне 1914 года[197]. С восстановлением их отношений положение Нижинского внутри труппы стало несостоятельным. Можно также задаться вопросом: не отошел ли сам Нижинский от передовых экспериментаторских позиций, представленных в «Весне священной»? Хотя декорации Роберта Эдмонда Джонса к «Тилю Уленшпигелю» весьма далеко ушли от «старомодного романтизма» Рериха, сам замысел балета, который стремился, как писал Г. Т. Паркер, к «правдоподобию иллюзии времени, места и действия», скорее был ближе к «Петрушке», чем к «Послеполуденному отдыху фавна», «Играм» или «Весне священной». Наброски, приведенные в книге Ромолы Нижинской, тоже не свидетельствуют о том, что ее муж пытался продолжать творить в духе новаторской абстракции, характерной для «Весны священной». Если балет на музыку «Песен Билитис» Дебюсси напоминал о «Фавне», то «Мефисто-вальс» представлял собой «ожившего Дюрера» – средневековую историю о скупых землевладельцах, грубых крестьянах и влюбленных, не подходящих друг другу по социальному положению, а одна из последних постановок, где речь шла о юноше, искавшем истины сначала в искусстве, затем в любви, была задумана в духе высокого Возрождения[198].
Средневековая тематика «Тиля Уленшпигеля» и «Мефисто-вальса», основанная на фольклорном материале, говорит о том, что Нижинский работал в направлениях, схожих с теми, которые использовал Доктор Дапертутто (такой псевдоним носил Мейерхольд при работе вне Императорских театров). Эксперименты режиссера, осуществленные в 1912–1914 годах, были продолжением его исследования комедии дель арте и испанского театра золотого века. Одновременно с этим его очень занимала проблема движения – «самого могущественного средства театральной выразительности», как он писал в 1914 году[199]. В этих начинаниях ему помогал Владимир Соловьев, танцовщик Императорского балета, который вел класс комедии дель арте в студии, открытой Мейерхольдом в 1913 году. Кроме того, чтобы изучать приемы итальянского импровизационного театра, учащиеся студии знакомились с традициями китайского и японского театров. Именно в это время Мейерхольд заложил основы системы физических упражнений, которая в начале 1920-х годов получила название биомеханики. Эти опыты возникли из самых разнообразных источников – физкультуры, танца, акробатики, эвритмии и спорта; они развивали равновесие, гибкость и физическое совершенство[200]. Фотографии этих упражнений едва ли могут не поразить любого, кто изучал творчество Нижинского: многие из них имеют необыкновенное сходство с позами танцовщика в «Послеполуденном отдыхе фавна» и в «Тиле Уленшпигеле»; в них присутствуют то же чувство веса и та же центростремительная концентрация силы; кажется, что оба артиста стремились передать внутреннюю сущность образа через его внешние формы. Естественным образом возникает вопрос влияния, хотя слишком мало фактов, чтобы можно было проследить его направление. Вывод, который необходимо из этого сделать, уже неоднократно звучал на протяжении этой главы: творчество Нижинского, каким бы уникальным оно ни казалось западным критикам, не возникло на пустом месте, но целиком и полностью принадлежало театральной культуре своей эпохи и, в частности, времени перед Первой мировой войной, когда русские символисты очертя голову погрузились в рискованное предприятие модернизма.
Кто знает, каким хореографом стал бы Нижинский, если бы судьба распорядилась его жизнью иначе, если бы Русский балет не был почвой, направлявшей его талант, и если бы шизофрения не похоронила его творчество в тайниках расстроенного сознания? Ответы на эти вопросы лежат вне власти историка. В случае с Нижинским факты ясны. Какой-то неведомой силой в создании «Фавна», «Игр» и «Весны священной» Нижинский переступил порог модернизма. Он сделал это, используя в качестве материала свои собственные навязчивые идеи и современные эксперименты в музыке, танце и драматическом искусстве, и – что любопытно – осуществил это всего за два года: к 1913 году хореографическая революция, начатая Фокиным, завершилась. Это, впрочем, было лишь одним из достижений Нижинского. В «Весне священной» он сотворил символ XX века, итог модернизма в его наиболее провокационных и неожиданных проявлениях. Третье его наследие не менее важно: балет, как и другие виды искусства, может создавать выразительные стили, настолько же мощные, глубоко личные, живые и современные. Какими критериями ни оценивать достижения Нижинского, они бесспорно велики – и тем более велики для артиста, которому еще только должно было исполниться двадцать четыре года.
С «Весной священной» модернизм пустил корни как в хореографии, так и в музыке постановок дягилевской антрепризы. Однако эта работа, усилив образ Русского балета как колыбели эксперимента, не оказала существенного влияния на эстетику труппы в целом. Напротив, эта эстетика продолжала ассоциироваться с экзотикой и символистским наследием fin de siècle. Лишь с Первой мировой войной и встряхнувшей труппу встречей Дягилева с футуристическим авангардом Русский балет в полной мере вошел в XX век.
3
Создание балетного модернизма
Бесспорно, что «Весна священная», ставшая у Дягилева наиболее значительным событием довоенных лет, не слишком повлияла на художественную жизнь труппы в будущем. Балет, исполнение которого не насчитывало и дюжины спектаклей, исчез вместе с уходом из труппы Нижинского, даже если учесть, что десятью годами позже его сестра в «Свадебке» в некоторой степени возродила это наследство. К тому времени в Русском балете нашел себе место другой вид модернизма. Эта новая эстетика частично совпадала с принципами работы Фокина и художников «Мира искусства» – но на совершенно ином витке развития и с совершенно другими целями.
В общем и целом историки связывают датировку этого значительного художественного сдвига с премьерой «Парада». Произведение, представленное в Париже в 1917 году (прошло уже три года, как состоялся последний полномасштабный дягилевский сезон во французской столице), стало для публики знаком перемен в альянсе Дягилева с авангардом. «Парад» появился на свет с безукоризненной модернистской «родословной»: художник – Пабло Пикассо, композитор – Эрик Сати, либретто – Жана Кокто, вступительный текст к программе написал Гийом Аполлинер. Только Леонид Мясин, хореограф балета, был в тот момент величиной неизвестной, однако к началу 1920-х годов его имя станет так же неразрывно связано с модернизмом. Нетрудно понять, почему историки определяют именно эту постановку как исток модернизма в Русском балете.
Любопытно, что «Парад» появился скорее в конце, чем в начале своеобразной революции, инициированной Дягилевым на исходе 1914 года. За время, прошедшее с тех пор до 1917 года, барин уступил место прогрессивно мыслящему радикалу, беллетрист – творческой личности: когда Европа воевала, Дягилев выводил Русский балет на передовые рубежи авангарда. Естественно, что трансформация сущности его труппы проистекала из неуемной личности самого Дягилева, но он решился на этот шаг не один. Его окружала целая группа деятелей художественного авангарда, чье видение стало основой для сотворенной им антрепризы. Столпы, на которых она покоилась теперь, – футуризм, неопримитивизм и то, что я называю первоначальным модернизмом[201], – поддерживали Русский балет в 1920-е годы.
Не считая двух важных исключений (примечательно, что в обоих случаях это были искусствоведы, а не историки танца), историки Русского балета попросту игнорировали футуризм[202] – и это притом, что встреча Дягилева с этим взрывным итальянским авангардом военных времен стала важнейшим катализатором перехода к модернизму. Футуризм утверждал новые отношения между исполнителем и огромным пространством сцены, предлагал новые способы заполнения этого пространства и придания ему выразительности и провоцировал художников, жаждущих новизны, в поисках материала для работы вглядываться во все явления современного мира, включая массовые развлечения. Несмотря на то что только одна из целого ряда футуристических постановок, планировавшихся Дягилевым, была осуществлена, идеи футуристов, часто в тандеме с другими подходами и влияниями, прослеживались в послевоенном репертуаре и стали в ряде случаев определяющими моментами современного балетного стиля. Сколь глубоко сказалось их воздействие на воображении Дягилева, можно судить по забавному интермеццо в его «Ромео и Джульетте» 1926 года, когда занавес приподнимался над полом меньше чем на метр, открывая только стопы и низ ног танцующих. Одиннадцатью годами раньше Филиппо Маринетти, дуайен футуристов, использовал подобный прием в своей пьесе «Ноги» (Le Basi)[203].
Хотя футуристы уже давно вызывали у зрителей бурную – от удивления до возмущения – реакцию, их пути пересеклись с дягилевскими только в 1914 году. Первая встреча могла иметь место в Лондоне, где «Большой футуристический концерт шумов» в Колизеуме совпадал с июньским сезоном Дягилева в британской столице. Очевидно, что последовавшие затем месяцы привели его к сближению с этой мигрирующей группой и знакомству с ее акциями. Поэт Франческо Канджулло описывает вечер в «восточной» гостиной Маринетти в Милане, где Дягилев, выглядевший как «вертикальный гиппопотам», председательствовал на выступлении intuonarumori – «певцов шума», – а Стравинский играл для итальянцев свои «бешеные выходки». Композитор был очарован футуристическими «невиданными эксцентричными инструментами» и считал возможным «включить два или три из них в уже существующие дьявольские партитуры своих балетов». Дягилев, и здесь проявивший себя как импресарио, был готов представить все тридцать инструментов в «шумовом концерте» в Париже. Более того, он пошел послушать композиции другого футуриста, Франческо Прателла, и достиг с ним взаимопонимания о возможности положить на музыку стихотворение Канджулло «Пьедигротта» для последующей балетной интерпретации[204].
В феврале 1915 года Стравинский присоединился к Дягилеву для концертного исполнения «Петрушки» в Риме – события, как композитор написал своей матери, собравшего «всех» футуристов, которые его «шумно приветствовали»[205]. В этот приезд Стравинский открыл для себя скульптора Умберто Боччони, работавшего, как почти все члены группы, в различных сферах искусства, включая театрализованные представления. «Сегодня я был приглашен на чай, – написал Боччони 13 февраля, – устроенный в честь русского музыканта Стравинского. Он пожелал встретиться со мной и сделать что-нибудь с футуристическими… красками, танцами и костюмами»[206]. Стравинский был не одинок в поисках сотрудников среди футуристов. В телеграмме, датированной последними числами января, Дягилев говорит об «альянсе с Маринетти», а в письме композитору, написанном в начале марта, описывает «блестящую» идею лидера футуристов по поводу звуковой партитуры в качестве аккомпанемента к «Литургии», религиозному балету: изначально Дягилев предполагал использовать для него русские литургические песнопения, а затем решил вообще отказаться от звукового оформления и исполнять балет в тишине[207].
Несмотря на то что никто из представителей футуризма не получил официального заказа до декабря 1916 года, первые шаги дягилевской модернистской революции состоялись под эгидой футуризма. Помимо этого они совпали с годами становления Мясина как хореографа. Извлеченный Дягилевым из кордебалета Большого театра весной 1914 года, теперь он последовал за своим ментором тропой футуристов. Среди поэтов, художников, скульпторов и композиторов, в той или иной степени ставших для этой пары наставниками, интерес к представлению, к театрализованному действу был всепоглощающим. На это тратилась огромная энергия, и шумные демонстрации, сопровождавшие предъявления публике работ футуристов – литературных, визуальных, театральных, – составили красноречивую главу в истории этого движения. Более того, между 1913 и 1917 годами театральные представления стали предметом увлеченного теоретического осмысления, темой более чем десятка манифестов, касавшихся абсолютно всех составляющих искусства театра, включая танец (область, где они, однако, достигли наименьших результатов[208]), и отличавшихся неизменной оригинальностью. В этих провокационных и полных протеста документах мы находим идеи, которые стали строительными лесами эстетики Русского балета военных и послевоенных лет и которые пронизывали ранние постановки Мясина.
Среди ключевых принципов как футуристических представлений, так и модернистского кредо Дягилева лидировал антинатурализм. Манифест Маринетти «Театр Варьете», опубликованный в октябре – ноябре 1913 года, открывается раскатистым осуждением натурализма:
Современный театр (поэтический, прозаический и музыкальный) вызывает наше глубокое отвращение по причине его тупого колебания между исторической реконструкцией (пастиччо или плагиат) и фотографическим воспроизведением нашей повседневной жизни; жеманный, замедленный, рассудочный и обескровленный театр, достойный в общем и целом эпохи керосиновых ламп[209].
Маринетти направлял свою критику против верности подлинным источникам и правдоподобным страстям, предназначенным для утверждения темы в подробностях времени и места, столь типичным для довоенного Русского балета, с тем же пылом он обрушивался на психологические подходы – и это была критика как раз того, что принесли с собой на сцену фокинские герои и толпы, «вооруженные» индивидуальными биографиями. В «Футуристическом синтетическом театре» (январь – февраль 1915 года) Маринетти, Эмилио Сеттинелли и Бруно Корра продолжили обвинения в адрес театра, очарованного прошлым. Теперь уже, наряду с правдоподобием и психологизмом, были жестоко атакованы и сами проверенные временем конструкции, поддерживающие их, – сюжет, драматургическая структура и характеры. Выступая против «нудного многословия, дотошного анализа и длительного развития событий»[210] в драматургии, футуристы провозглашали театр синтетический, атехничный, динамичный и независимый: 1) стенографическая точность и краткость («Парсифаль» за сорок минут!), 2) устранение повествовательности, 3) скорость и одновременность действия и 4) формы воплощения, не претендующие на объективное воспроизведение реальности. Все эти идеи нашли место в модернистской эстетике Дягилева.
Они были связаны с целым рядом других идей, важнейшей из которых оказывалась идея механизации, особенно в отношении актерской игры. Попросту говоря, футуристическое действие и костюмировка механизировали исполнителя, подчиняя его сценическому оформлению. Майкл Керби указывает, что в манифесте 1914 года «Динамическая и синоптическая декламация»
Маринетти преобразовывает, по крайней мере в теории, все аспекты исполнительского искусства: актер должен носить обезличенную одежду… его лицо должно быть свободным от индивидуального выражения; его голос должен избегать «модуляций и нюансировки»; его движения должны быть «геометричными». Описывая использование жестов, Маринетти предлагал употреблять такие понятия, как «кубы, конусы, спирали, эллипсы и т. д.»[211].
Фортунато Деперо, которому Дягилев заказал оформление сокращенной версии «Песни соловья», намечавшейся к постановке весной 1917 года, тщательно детализировал эти принципы. Актер, писал он в «Записках о театре» 1916 года, должен разрушить свою естественную внешность преувеличенным гримом, вычурными париками, глазами, похожими на фары, ртом, уподобленным мегафону, воронкообразными ушами и механической одеждой, чтобы добиться в результате эффекта устранения каких бы то ни было индивидуальных и правдоподобных деталей. Костюмы Деперо, нарисованные к «Соловью», строго следовали его собственным предписаниям: объемные и жесткие комплекты одеяний, прочерченные в пространстве, скрывали не только тело, но и руки и лицо, в то время как геометрические выступы, подобные протуберанцам, обозначали глаза и рты. Все танцовщики, как сообщал французский еженедельник «Опиньон», должны были быть в масках. «Танцовщики, – объяснял Деперо, – таким образом освободятся от излишней характерности, кроме того, центр интереса сместится в сторону движения масс»[212]. Декорации продолжали тематику, заявленную в костюмах. На фотографии, сделанной в 1917 году в мастерской художника, можно увидеть огромные полуабстрактные подсолнухи (половинки дисков, прикрепленные углами к целым дискам) с треугольными жесткими ростками на вершине и металлические ветки, прикрепленные к стойкам. Другая фотография, вероятно с уже готовыми декорациями, изображает стилизованный футуристический сад с пальмовыми листьями, цветами и кустами, представленными в виде произвольно расположенных конусов, сегментов дуг и дисков. Для усиления яркости красок использовались лак и глазурь.
Не только внешний облик актера, но также его движения и жесты были механизированы. В «Печатном станке» (Printing Press) 1914 года, «полиграфическом балете» (по определению «летописца» футуризма Вирджилио Марчи) Джакомо Балла, художника дягилевской постановки «Фейерверка», было двенадцать деперсонализированных актеров-роботов, представлявших различные части печатной машины. Сохранились эскизы «хореографии» Балла: две пары актеров, с силой вытянув руки перед собой, качались взад и вперед, имитируя движения поршня, вращающего «колеса», образованные третьей парой, которая размахивала столь же сильно вытянутыми руками, согнутыми в запястьях под прямым углом, что напоминало перекрещивающиеся круги. Автоматы Балла еще и говорили: точнее, они «очень громко» декламировали отрывки «бессвязной болтовни», стремясь, как и музыка Луиджи Руссоло, к достижению чистого звука[213]. «Печатный станок» настолько заинтриговал Дягилева, что он даже намеревался осуществить его постановку. Марчи рассказывает:
Однажды вечером мы пришли к Дягилеву в гостиную Семенова, чтобы решить, что выбрать – «Фейерверк» или «Балет печатной машины», механистическое изобретение Балла. Для второго автор расставил нас в геометрическом рисунке и дирижировал, управляя механическими движениями и жестами, которые мы все должны были исполнять, представляя души отдельных деталей ротационной печатной машины. Мне было поручено энергично повторять слог ‘STA’ с одной рукой, по-спортивному поднятой вверх, так что я чувствовал себя как солдат на плацу. Надо ли говорить, что Балла зарезервировал для себя более изысканные слоги, звукоподражание и словесную абракадабру, и все это срывалось с его губ с неподражаемым пьемонтским «neh», в то время как бессовестный Семенов продолжал откупоривать бутылки с шампанским, превращая все представление в высокоинтеллектуальный и в высшей степени забавный гротеск[214].
Однако Дягилев предпочел не ставить «Печатный станок», он заказал его автору сценографию «Фейерверка» Стравинского. Оформление Балла к этой короткой пьесе – световое шоу, сыгранное на установке из геометрических тел, – прославляло краткость, динамизм и абстракцию – то, к чему стремился футуристический театр. Итальянский критик Маурицио Фаджоло дель Арко написал:
Балла сделал лучшее, что мог, согласовав конструкцию с пиротехническими изобретениями композитора. – Он заполнил сцену ошарашивающим нагромождением кристаллических форм, световыми лучами разного цвета, коралловыми образованиями, символами бесконечности (спиралями и бегущими световыми волнами), эмблемами света (обелиском, пирамидами, лучами солнечного и бледного лунного света), аэродинамическими символами (полетами стрижей и огненных птиц). Все это проецировалось на черный задник, подсвеченный сзади красными лучами[215].
Дягилев, как уже было сказано, принимал участие и в замысле, и в самом исполнении сложнейшей световой партитуры. Но, определенно, он уловил «сигнал», идущий от футуристов, в чьих теориях свет приобретал почти мистическое значение. «Футуристическая сценография» Энрико Прамполини, написанная в апреле – мае 1915 года, заканчивается воображаемой картиной нового светящегося театра. «В полностью реализованную эпоху Футуризма мы увидим светящуюся динамичную архитектуру сцены, созданную с помощью цветных раскаленных ламп, которая, трагически закручиваясь или просто с упоением демонстрируя себя, породит у зрителя новые ощущения и новые эмоциональные ценности»[216]. Несмотря на очарованность Прамполини «светящейся сценой» и на дружбу Дягилева со Стравинским, выбор «Фейерверка» и способа его воплощения, вполне возможно, возник из другого источника – из соединявшего разные виды искусства произведения на ту же самую музыку, которое было представлено Лой Фуллер в мае 1914 года в парижском театре Шатле. Премьера «оргии цвета, света и звука», как окрестила «Фейерверк» Фуллер, состоялась за неделю до открытия последнего довоенного дягилевского сезона[217].


