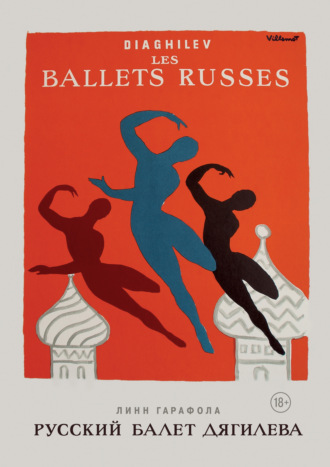
Линн Гарафола
Русский балет Дягилева
2
Поэтика авангарда Вацлава Нижинского
«Новый балет», представленный в Русском балете с 1909 по 1912 год, был созданием исключительно Михаила Фокина. Именно его постановки доминировали в репертуаре: помимо «Жизели», «Лебединого озера» и дивертисментов «Пир» и «Ориенталии», возвеличивавших стиль «старого балета», весь корпус новых работ имел авторскую подпись Фокина.
Начиная с 1912 года ситуация изменилась. В этом году Дягилев затеял дворцовый переворот – первый из целой череды, последовавшей за ним на протяжении всей истории Русского балета, – который привел к уходу Фокина из труппы. Его место было быстро занято, его искусство – так же быстро замещено. Этот переворот означал не только перемену в составе «преторианской гвардии» Дягилева: он обнаружил нетерпеливое стремление своенравного импресарио проявить себя и как творец-художник. С уходом Фокина Дягилев взял хореографические бразды правления Русским балетом в свои руки, чтобы с помощью танцовщика-протеже, ставшего инструментом для реализации его замыслов, установить концепцию нового «нового балета».
Фокин, открыв дверь модернизму, сам тем не менее не решился переступить порог. Этот радикальный шаг был сделан Вацлавом Нижинским, которого Дягилев теперь облачил в мантию преемника-продолжателя «нового балета». В отличие от Фокина, который ежегодно обеспечивал своего бывшего хозяина изрядным капиталом новых постановок, Нижинский осуществил для Русского балета всего четыре работы: «Послеполуденный отдых фавна» (1912), «Игры» (1913), «Весна священная» (1913) и «Тиль Уленшпигель» (1916). За исключением «Тиля», который исполнялся только в Соединенных Штатах и которого Дягилев никогда не видел, все были значительными вехами в хореографии: «Фавн» с его пластикой, «Игры» с их близостью к неоклассицизму, «Весна» с ее примитивизмом в пластике и общем стиле постановки. «Фавн» и «Весна» принесли Нижинскому славу и скандальную известность: демонстрация акта мастурбации в первом привела в ярость парижских столпов нравственности, вторая же спровоцировала величайший скандал в театральной истории Франции. Действительно, ни одно танцевальное произведение XX века не оставило такого продолжительного следа в памяти самой широкой аудитории, как «Весна», – и это притом что оригинал, первоначальная постановка, был практически мгновенно утрачен. Этот балет, воссозданный более чем в шестидесяти версиях, стал синонимом самой идеи модернизма.
Работы Нижинского 1912 и 1913 годов в Русском балете обозначили окончательный разрыв с традицией Мариинского театра. Балеты Фокина, ставившиеся в основном для благотворительных спектаклей, редко являлись заказами администрации театра, они тем не менее легко вписывались в понимание культурной публики Санкт-Петербурга. Работы Нижинского, напротив, принадлежали исключительно Западу. Известия о них достигали России, но, за исключением экспериментов, осуществленных его сестрой Брониславой Нижинской в послереволюционном Киеве, сами они доступа туда не имели: с Нижинским история современного балета впервые разделилась на две ветви – русскую и западную. В целом балеты Нижинского произвели первое потрясение, связанное с балетным модернизмом. Но они также подготовили, наряду с символизмом, то, что иначе как пророчеством и не назовешь: важнейший эстетический проект Русского балета – диалектику разрыва и воссоединения в отношениях с классическим прошлым.
Учитывая, что статус Нижинского как балетмейстера уже не подлежит сомнению, сами истоки его творчества остаются такой же тайной, какой они были и для его первых зрителей. Частично это происходит из-за «недостатка свидетельств»: до той поры, когда в Джоффри Балле появилась реконструкция «Весны священной», только «Фавн», доставшийся последующим поколениям благодаря возобновлению 1922 года, сделанному Брониславой Нижинской в Русском балете, выжил и сохранился на сцене. Другая сторона тайны проистекает из его собственных «показаний»: «Дневник»[133], захватывающая хроника меркнущего сознания, не дает, однако, убедительного объяснения самого его творчества. И наконец, есть загадка Нижинского-танцовщика и есть миф о нем как о человеке – настолько длительный и устойчивый, даже сенсационно-захватывающий, что отвлекает внимание от вопроса о его формировании как артиста.
Среди всех прославленных исполнителей Дягилева один лишь Нижинский превратился в легенду. Появившийся на свет в 1889 году у супружеской четы скитавшихся по провинции польских танцоров, он стал единственной и неповторимой звездой Русского балета за все время его двадцатилетнего существования. Как танцовщик он преодолевал границы, казавшиеся недоступными для человеческих возможностей, неподвластные даже превосходным виртуозам, а как актер обладал поразительной, даже патологической способностью буквально погружать свою индивидуальность в исполняемые роли. Эти качества Нижинского, способствовавшие появлению нескольких счастливейших фокинских творений, сделали его исключительно тонким интерпретатором «нового балета», и с 1909 по 1913 год он потрясал публику в ролях Золотого раба, Петрушки, Арлекина и Призрака Розы. Искусство танца сформировало лишь одну часть легенды. Как любовник Дягилева он был еще и героем гомосексуальным. Оставив Дягилева ради женитьбы на Ромоле де Пульски, что стало причиной его увольнения из Русского балета в конце 1913 года, он по-прежнему пользовался дурной славой, только теперь как перебежчик, гомосексуалист-ренегат. И сверх всего этого, безумие – шизофрения, омрачавшая сознание Нижинского в последние тридцать два года жизни, – затрудняет понимание и разумное осмысление его работы. С постоянным определением его как человека умственно отсталого, но проявляющего незаурядные способности только в одной области, или как «клоуна Господа Бога» (как он часто именовал сам себя в «Дневнике»), Нижинский стал символом наивного и трагического гения[134].
План первого балета Нижинского был составлен осенью 1910 года во время длительного отдыха вместе с Дягилевым и Львом Бакстом. К декабрю, когда все трое вернулись в Петербург, набросок общей схемы будущего «Фавна» уже существовал. Постановка, объявил Нижинский своей сестре, должна быть в стиле греческой архаики, музыка – Прелюдия к «Послеполуденному отдыху фавна» Дебюсси. Что же касается хореографии – «ничего сентиментального, ничего “сладкого”, ни в формах, ни в движениях». На квартире Нижинских, перед высоким зеркалом в гостиной, где брат использовал сестру как модель для создаваемых им поз Фавна и Нимфы, балет и приобрел свою форму. В начале 1911 года они показали фрагменты своей работы Дягилеву и Баксту. К следующей весне «хореографический эскиз» «Фавна» был готов[135].
Наряду с тем, что Нижинская видела своего брата единственным создателем балета, были и другие мнения. Арнольд Хаскелл в своей биографии Дягилева, характеризуя концепцию постановки, приписывает двухмерный принцип композиции Дягилеву и Баксту. Поскольку главным источником Хаскелла являлся Вальтер Нувель, друг и соратник импресарио на протяжении почти сорока лет, его «подлинная история» зарождения балета достойна того, чтобы быть процитированной полностью:
После поездки в Грецию Дягилев, а в еще большей степени Бакст буквально бредили недавно открытым Кносским дворцом и древнегреческой архаикой. Бакст грезил о воспроизведении всего этого на сцене. В ходе долгих бесед они искали подходящие сюжет и музыку. И наконец остановились на «Эклоге» Малларме, о существовании которой Нижинский не имел ни малейшего понятия, пока разработка сценария не была завершена, и на музыке Дебюсси. Они также решили, что этой работой дадут Нижинскому его первый шанс, но будут контролировать его до мельчайших деталей, что же касается основной идеи, то они решили сделать балет в виде движущегося барельефа, все в профиль, балет без танцев, а только с движениями и пластическими позами в профильном стиле – вдохновителем всего этого являлся исключительно Бакст[136].
Страстное увлечение Бакста искусством греческой архаики засвидетельствовано документально. Об этом говорит его поездка в Грецию в 1907 году, а также воспоминания и наброски, с которыми он вернулся в Петербург. «Что больше всего интересовало его, – писал его биограф Чарльз Спенсер, – так это минойская Греция, Микены, Кносс… и ранняя архаическая скульптура», – чьи образы вскоре возникнут в «Античном ужасе», апокалиптическом видении Древней Греции, картине, которую Бакст теперь переписал[137]. Не менее хорошо известен и интерес Дягилева к Дебюсси, которому он заказал в 1909 году балет Masques et Bergamasques. Проект этот никогда не был осуществлен, но 26 октября следующего года Дебюсси дал добро на использование его партитуры в дягилевской «хореографической адаптации» «Фавна»[138]. Бесспорно и то, что сюжет балета был инициирован Дягилевым или Бакстом.
Более проблематичным является приписывание Хаскеллом Баксту трех ключевых хореографических идей балета – принципа фриза, профильных положений и чередования движений и пластических поз. Замечание Нижинской о том, что ее брат «с самого начала, без всякой подготовки, в совершенстве владел новой техникой», подтверждает справедливость мнения Хаскелла, что, приступая к сочинению хореографии, Нижинский уже обладал ясным видением будущего балета. Если Бакст действительно был источником самых новаторских идей «Фавна», то, в свою очередь, сам собой возникает вопрос, какие источники использовал он. И здесь обычный ответ – архаическая Греция – представляется неубедительным. Безусловно, листва виноградной лозы и геометрические мотивы, которыми художник украсил туники, были главным элементом в отделке керамических изделий доклассической поры. Но с не меньшей частотой они появлялись и на черно- и краснофигурных вазах V столетия, где любой может найти те же развевающиеся одежды, ритуальные жесты и профильные положения. Вазовые росписи этого переходного периода преисполнены общественным довольством: на них много изображений сцен музыкальных празднеств, где музыканты движутся легкой походкой, их лица расплываются в улыбке. Наряду с изысканностью эти образы содержат реалистические черты: если локоть согнут, то плоть прилегающего к нему предплечья смягчает угол, если тело плоское, то складчатая туника округляет плоский силуэт – Бакст так и сделал в своих эскизах костюмов для нимф. Но там, не менее чем в греческих оригиналах, на которые он ориентировался, мы далеки от основного замысла, воплощенного в единстве телесных образов в «Фавне». На самом деле мы здесь гораздо ближе к фокинскому представлению об Аркадии, воплотившемуся в таких его балетах, как «Нарцисс» и «Дафнис и Хлоя»[139].
Композиция «Фавна», как и его идея (Хаскелл также приписывает ее Баксту) использования нетанцевальных движений, позволяющая связать их с «пластическими позами», наводит на мысль о другом – театральном источнике вдохновения. Мейерхольд вновь, и не без основания, возникает на этих страницах. Но на сей раз он появляется в новой роли: как изобретатель «статичного», или «неподвижного», театра, который стал краеугольным камнем его подхода к постановке символистской драмы. Этот стиль, впервые опробованный в «Смерти Тентажиля» (1905) и развитый при постановках 1906 и 1907 годов для известной петербургской труппы Веры Комиссаржевской, содержал в зародыше самые новаторские идеи «Послеполуденного отдыха фавна» Нижинского.
Отношение Дягилева к Мейерхольду остается незаполненной страницей в биографии импресарио. Однако с 1906 года, когда временно оставшийся без работы режиссер высказывал надежду, что, «может быть, Дягилев выстроит новый театр», и до 1928 года, когда Дягилев толковал о том, что устроит в Париже «с Мейерхольдом общий сезон» следующей весной, их пути время от времени пересекались[140]. То, что их первая точно зафиксированная встреча состоялась в 1906 году – то есть когда Мейерхольд «был увлечен искусством символизма»[141] и стремился продолжить эксперименты, начатые в Театре-Студии Станиславского, – представляется в высшей степени значительным. Это не только упрочило интерес Дягилева к театру задолго до того, как он стал продюсером, но также подтверждает его интерес к символистскому эксперименту того времени. Воздушный замок Дягилева рухнул, и вскоре он перенес свою деятельность в Париж. Но он поддерживал отношения с Мейерхольдом, который в 1910 году посещал вечера на квартире Дягилева, где собирались художники, композиторы и друзья первых Русских сезонов. Нижинский также был среди этого собрания элиты петербургской интеллигенции – единственный танцовщик (если верить его сестре), имевший такую привилегию. Молодой человек, общавшийся до того с атлетами и другими представителями спортивного мира, теперь открыл для себя мир искусства Дягилева. Нижинская слышала об этих «встречах» и отметила их влияние на брата. «Он решил, что это именно тот мир, который ему необходим, и что он может жить исключительно среди артистов»[142].
В годы, непосредственно предшествовавшие возникновению Русских сезонов, Бакст работал с Мейерхольдом не менее двух раз. Осенью 1906 года оба принимали участие в организации нового театра Комиссаржевской (для этого театра Бакст написал занавес сезона)[143]; двумя годами позже Мейерхольд был режиссером, а Бакст – художником при постановке «Саломеи» для Иды Рубинштейн. Даты, отмечающие символистский период в творчестве режиссера, полностью совпадают со временем, в которое родились наиболее бросающиеся в глаза новшества «Фавна». В постановках «Гедды Габлер», «Пеллеаса и Мелисанды» и, более всего, «Сестры Беатрисы» эти новации – двухплоскостное решение мизансцен, стилизованные позировки, ограничение действия авансценой, деперсонализированный стиль исполнения, единство художественного стиля и медленное, «многозначительное» движение – уже присутствовали в арсенале режиссера. То, что сделал «Фавн», и было переводом на балетную сцену принципов мейерхольдовского «статичного театра».
Истоком этого стиля была «Смерть Тентажиля», одна из постановок Театра-Студии 1905 года, так и не увидевшая там свет рампы, но показанная в начале следующего года в Тифлисе. Пьеса, писал режиссер, «дала в руки метод расположения на сцене фигур по барельефам и фрескам, дала способ выявлять внутренний монолог с помощью музыки пластических движений»[144]. Это было началом театра, который Мейерхольд называл «статичным», или «неподвижным», театром, так описанным Константином Рудницким:
…театра замедленных, значительных, даже многозначительных движений, театра, в котором пластика актеров призвана была давать не пластическую копию человеческих движений в реальной жизни (как это было во МХТ), но – медленную «музыку» движений, соответствующую таинственному духу пьесы. Временами… актеры вдруг замирали в неподвижности. Человеческие лица и тела в эти моменты становились как бы одухотворенными изваяниями. Режиссер впервые требовал от актеров скульптурной выразительности. Так появились живые «барельефы»[145].
Движущийся фриз вновь и вновь появлялся в постановках Мейерхольда. В «Сестре Беатрисе», одной из немногих работ этого периода, от которых сохранились фотографии, мейерхольдовские монахини, как и нимфы в «Фавне», строго стилизованы, их тела представлены нарочито плоскими, чтобы создать видимость их пребывания только в двух измерениях, жесты угловаты и подчинены общему рисунку постановки. На протяжении всей пьесы эти жесты были синхронизированы с позами героини. Мейерхольд писал:
Ритм строился из строго выработанной длительности пауз, определявшейся отчетливой чеканкой жестов. Примитивный трагизм прежде всего очищался от романтического пафоса. Напевная речь и медлительные движения всегда должны были скрывать под собой экспрессию, и каждая, почти шепотом сказанная фраза должна была возникать из трагических переживаний[146].
Если акцент на внутренний ритм, как и на медленный и «нетанцевальный» характер движения, предвосхищал «Фавна», то, в свою очередь, архаичный характер позировок в случае «Сестры Беатрисы» был вдохновлен прерафаэлитами и живописью раннего Ренессанса. В равной степени оказался предсказанным и деперсонализированный стиль актерской игры, аксиома нового театра, и использование укороченной сцены, которая ограничивала действие узкой полосой у самого края просцениума. Как и использование ритмизованного движения, это был один из нескольких технических приемов, позаимствованных Мейерхольдом из теорий Георга Фукса[147].
Мало оснований верить, что Нижинский вообще видел работы Мейерхольда этого периода, разрушавшие основы традиционализма. До мая 1907 года он жил в замкнутом пространстве Императорского театрального училища, и даже после окончания школы связь с князем Павлом Львовым, патроном спортивных состязаний и страстным болельщиком, приводила его гораздо чаще на велосипедные гонки и конные скачки, чем в драму[148]. То, что он знал о мейерхольдовском «условном театре» – термин режиссера для его символистских экспериментов, – могло прийти к нему из вторых рук, из разговоров на пляже Лидо, где Бакст писал портрет танцовщика летом 1910 года, или из бесед с Дягилевым осенью того же года, когда музыка для «Фавна» уже была выбрана. Известна история, как Бакст назначил встречу Нижинскому в греческой галерее Лувра, и танцовщик, в восторге засмотревшись на египетские рельефы этажом ниже, подвел к ним своего друга: в этом усматривается причина появления двухплоскостного принципа композиции «Фавна». Но, как подчеркивает Линкольн Керстин, Нижинский «давно был знаком с “египетским стилем” Мариинского театра», если и не из опер, как «Аида», то уж определенно из таких балетов, как «Дочь фараона» и «Клеопатра»[149]. В любом случае пластика была лишь исходным моментом. Значительно более важным для «Фавна» было единение статичных образов с темпами ритмизованного движения и стилизованными формами символистского театра. Под эгидой пары менторов первые шаги Нижинского как хореографа были сделаны по пути, проложенному Мейерхольдом, – как выполнение пророческого предначертания режиссера о том, что новый театр «приблизит возможность возрождения пляски»[150].
Ни Дягилев, ни Бакст тем не менее не появлялись в гостиной, где Нижинский начал сочинять хореографию. А ведь именно там зерна-идеи, посеянные ими, дали свои всходы, и осуществление попыток новичка, как полагали они, оказалось радикальным хореографическим заявлением, соединенным с индивидуальным видением Нижинского. Как и первые, ранние романы многих писателей, «Фавн» есть произведение о сексуальном пробуждении подростка. Начальный импульс исходил от известного монолога Малларме: фавн видит – или думает, что видит? – в отдалении группу нимф; он преследует их, теряет их, затем снова оживляет в памяти – или это только была игра воображения? – вожделение, лесбийские страсти и неутоленное желание. Только общие очертания поэмы сохранились в балете: фавн, нимфы, которые бесцеремонно вторгаются в его грезы, настроение эротического томления. Если в поэме линия между мечтой и реальностью размыта, то балет представляет эротическую тему в виде живого жизненного опыта: реальность как нимф, так и шарфа, при помощи которого Фавн удовлетворяет свое желание, бесспорна. Безусловна и его невинность, неискушенность: от полных истомы потягиваний в начале, когда он обнаруживает чувствительность частей своего тела, до прерывистых шагов, когда он преследует женщину-добычу, и удивление ее отказом от взаимности, когда он с вожделением смотрит на нее, – все это говорит о сексуальном открытии самого себя.
Если быть точными, это говорило о гетеросексуальном открытии: в «Фавне» Нижинский, спасаясь в реальности фантазии, озвучил желание, не удовлетворенное в его жизни с Дягилевым. В своей книге Ромола Нижинская описывает сюжет балета как «явление, самое обычное для любого человека: пробуждение эмоциональных и сексуальных инстинктов и реакция на них юноши»[151]. Но, несмотря на то что на поверхности произведение привлекает простотой его протагониста – получеловека, полуживотного, взгляд на гетеросексуальность саму по себе полон двусмысленностей: соблазнительность Нимфы, которая сбрасывает не одно, а три покрывала, как будто стремясь своим раздеванием нарушить самоизоляцию Фавна; стремительное неистовство их объятий, в которых он «захватывает» ее, как сказала Джоан Акочелла, «между рельсами его вытянутых рук»[152]; угроза трех возвращающихся нимф, которые издеваются над ним с язвительной усмешкой, – и грех. Среди многих навязчивых идей, гнездящихся в «Дневнике» Нижинского, есть и проститутка, или кокотка, как он называет ее, блуждающая по парижским улицам с запахом дешевых духов и обещанием греховных наслаждений, с презрением относящаяся к преследованиям скромно одетого танцовщика:
В то время, когда я жил с Дягилевым в Париже, я испытывал явную склонность к кокоткам. Дягилев говорил, что я глуп, но тем не менее я привык охотиться за ними. Я бегал по городу, чтобы найти дешевых, однако боялся быть замеченным… Но я также понимал, что поступаю ужасно. Если бы меня обнаружили, это было бы равносильно моей гибели. Как и все молодые люди, в это время я делал много глупостей. Итак, я бегал по улицам Парижа в поисках кокоток. Поскольку я хотел, чтобы девица была здоровой и красивой, это занимало у меня много времени, и иногда, проискав целые дни, я, случалось, возвращался несолоно хлебавши, так как у меня недоставало опыта. Я находил их по нескольку в день… Я использовал разные способы, чтобы привлечь их внимание: однако они мне его уделяли очень мало, потому что, не желая быть узнанным, я одевался очень просто[153].
Подобно самому Нижинскому, его Фавн нуждается в сладкоголосом призыве соблазнительницы, преследует ее хитросплетением шагов и позволяет ей ускользнуть, удовлетворяясь при этом смакованием воспоминания о ее теле – вместо того, чтобы испытать радость подлинного обладания им. Шарф, который он набрасывает на себя и на который в экстатическом финале балета изливает свое семя, тем не менее не есть просто замещение отсутствующей владелицы. В равной степени это также символизирует его победу над силками, раскинутыми Женщиной, его твердость перед соблазном ее плоти. В случае с «Фавном», где явный гомосексуалист Нижинский объявляет себя скрытым гетеросексуалом, фетишизм шарфа обнаруживает глубоко коренящуюся двойственность в подобии мужчин и женщин. Разрывающийся между силой вожделения и страхом за его возможные последствия, Нижинский предпочел спасительную гавань самоудовлетворения.
На сцене, где показ сексуальных отношений был в высшей степени условным, откровенность языка Нижинского шокировала. Его движения, лишенные виртуозности и декоративности, представляли содержание с дерзкими и откровенными формами примитивного идола. Подобные пластические решения на драматической сцене принесли Мейерхольду звание балетмейстера. Перенесенные на балетную сцену, они вызвали обвинения в покушении на общепризнанные балетные условности. Действительно, в восемь минут «Фавна» Нижинский уместил все существо балетного модернизма, завершив революцию, инициированную Фокиным.
Для Нижинского движение стало самоцелью. Он разбивал его, разбирал на части и собирал вновь, очищая каждый раз от наросшей на нем плоти. Фокин скупо использовал виртуозность, подчиняя ее выразительности. Нижинский устранил ее полностью, наряду с классической техникой, поддерживающей ее. «Фавн» вернулся к истокам. Исполнители передвигались шагами и поворачивались, опускались на колени, и был только один прыжок – все движения открывали генетические истоки балета в предельно примитивизированных значениях этих па. Фокин обнажил стопу. Но именно Нижинский освободил стопу для работы, пригвоздив ее к полу, утяжелив и используя составляющие ее части – пятку, подушечки пальцев, свод – в противоположных целях. Его торс также обращает на себя внимание: он здесь не только, как у Фокина, центр телесной выразительности, но и проявление прямизны, традиционно ассоциирующейся с выворотностью. Фокин избавил балет от аксиоматического отождествления классического стиля с выворачиванием ноги наружу. Теперь Нижинский крепко ухватился за параллельные позиции ног, которые Фокин вводил от случая к случаю, и, закрепив их линии, трансформировал эти позиции в качестве дополнения к самой эстетике выворотности.
Несмотря на то что Фокин редко говорил о рисунке, в его хореографии торжествует кривая линия. Нижинский, напротив, представляет тело как пересечение евклидовых форм – треугольников, дуг, линий, – что в равной степени служило и основой общего рисунка его ансамбля. Эти формы, порой причудливо смешанные, порой наложенные друг на друга, способствовали возникновению двойных планов и геометрических ландшафтов кубистов; они возвестили модернизм в «Фавне» и одновременно спрессовали в единый образ целую цепь повествования. Дуэт с Нимфой в «Фавне», непоследовательная смена поз, принимаемых угловатыми телами, наводит на мысль о сонме противоречивых желаний: вожделение, страх, согласие, застенчивость, увиливание, жажда господствовать и повелевать. Но углы и линии евклидовского универсума служат и другой, более важной цели. Хореография, очищенная от всего сентиментального и романтического, сужает понимание секса до голого инстинкта. Фавн Нижинского – человек лишь отчасти. Как его прародители и классические предшественники, он также наполовину животное, и это черта его собственной природы, которая выступает первой при его встрече с нимфой. В этом дуэте партнеры не касаются друг друга. Тем не менее возникает впечатление, что они соприкасаются, и почти каждый намек на контакт импульсивен и связан с насилием. Фавн вновь и вновь жаждет свою жертву, заключая ее в тиски своих сильных рук. Почти каждый раз беззвучный крик, рвущийся из гортани, раздирает его рот, словно именно там находит выход поднимающаяся из глубин лава самого сексуального возбуждения. В один из моментов, находясь сзади ее, он руками образует треугольник, будто бы символически ее обезглавливая. В этой парной группе не насилие, а остановленное движение есть цель, ибо если «Фавн» и говорит о вожделении, то более настойчиво он говорит об этом паузами с застывшими позами, устранением претензий вожделения в самом теле. Это самоотречение природы таится в самом замысле балета, ибо если геометрия стилизовала протагонистов Нижинского, то она также лишала их секса, как если бы сама форма, подобно высокой морали, становилась щитом против инстинкта.
«Игры», второй балет Нижинского, также вращался вокруг сексуальной двойственности и желания. Но варварство на сей раз предстало укрощенным, введенным в реалии современной жизни. Это произведение было задумано как последовательное продолжение «Фавна», где степень откровенности Нижинского достаточно велика. Некоторые источники считают местом рождения «Игр» Довиль; другие – парижский ресторан на открытом воздухе; вполне вероятным местом мог быть сад леди Оттолин Моррелл в Бедфорд-сквер, где в июле 1912 года Нижинский вместе с Бакстом наблюдал сумеречной порой матчи теннисистов, ставшие прообразом балета. Судя по всему, замысел «Игр» принадлежал Нижинскому, однако, как и в случае с «Фавном», и Дягилев, и Бакст оказались в роли «повивальных бабок» при создании либретто. Жак-Эмиль Бланш, модный художник-портретист и поклонник Русского балета, описал совместные усилия, предпринимавшиеся в «Савой-гриле», любимом Дягилевым заведении в Лондоне:
Шаляпин… развлекал приглашенных на обеде у леди Рипон в большом зале Савой, и я был среди гостей. Официант принес мне записку от Дягилева, я развернул ее и прочитал: «Дорогой друг, мы находимся в гриль-баре с Бакстом. Вацлав хочет видеть тебя и потолковать с тобой об одной сумасшедшей затее… он хочет, чтобы мы включились в составление “игрового” либретто, и Дебюсси написал музыку. Приходи сразу, как только встанешь из-за стола…» Вацлав рисовал что-то на скатерти, когда я появился в гриль-баре… «Кубистический» балет – который стал в конце концов «Играми» – был про игру в теннис в саду, но окружение не должно было быть романтической декорацией в манере Бакста! Здесь не должно было быть ни corps de ballet, ни ансамблей, ни вариаций, ни pas de deux, только девушки и юноши во фланелевых костюмах и ритмические движения. Группа в определенный момент изображала фонтан, и игра в теннис (с мотивами флирта) прерывалась крушением аэроплана. Что за сумасбродная идея![154]
Бланша, далекого от авангардистских пристрастий (аэроплан гораздо ближе к футуризму, чем к кубизму), удалось тем не менее убедить донести эту идею до Дебюсси, отвергшего ее, в свою очередь, как «идиотскую». Однако когда Дягилев в ответной телеграмме пообещал удвоить гонорар, композитор принялся за партитуру и управился с ней за недели – к концу августа[155].
Как много было в этом идей Нижинского? В интервью, опубликованном в «Фигаро» накануне премьеры балета, Гектор Кайюзак приводит несколько сделанных предыдущей весной замечаний танцовщика, которые показывают, насколько Нижинский был увлечен спортом:
Человек, которого я прежде всего вижу на сцене, – это современный человек.
Я мечтаю о костюме, пластике, движениях, характерных для нашего времени…
Если мы понаблюдаем, как наш современник прогуливается, читает газету или танцует танго, мы не найдем ничего общего в его жестах с жестами, допустим, фланера времен Людовика XV или монаха, разбиравшего в XIII веке манускрипты.
Я внимательно изучаю поло, гольф, теннис и убежден, что игры эти не просто полезный досуг, но и создатели пластической красоты. Из их уроков я вынес надежду, что в будущем наше время охарактеризуют стилем столь же выразительным, как и стили, которыми мы сейчас охотно любуемся в прошлом[156].
Аэроплан, с другой стороны, оказывается любимым детищем Дягилева. Знаменательно, что в письме к Дебюсси, рассуждая о его появлении в балете, он быстро переходит от первого лица множественного числа к первому лицу единственного:
Если дирижабль Вам не нравится, обойдемся без него. Я предполагал, что Бакст изобразит аэроплан на декоративном панно, которое будет передвигаться в глубине сцены, и его черные крылья создадут неожиданный эффект. Поскольку действие балета происходит в 1920 году, появление этого аппарата не может особенно привлечь внимание действующих лиц. Скорее их будет беспокоить то, что за ними могут наблюдать с дирижабля. Но, в общем-то, я на этом не настаиваю. С другой стороны, «ливень» меня тоже не удовлетворяет, и мне кажется, можно ограничиться поцелуем, после чего все трое разбегутся и скроются одним прыжком[157].
Дягилев также указывает на идею, которую Нижинский категорически не принимал, но которая совершенно очевидно восхищала Дягилева: «много pointes для всех ТРОИХ. Это – величайший секрет, потому что до сих пор мужчина никогда не танцевал на пальцах. Он был бы первым, сделавшим это, и я думаю, что это было бы очень элегантно». Дягилева никогда нельзя было заподозрить в недооценке силы воздействия новизны.


