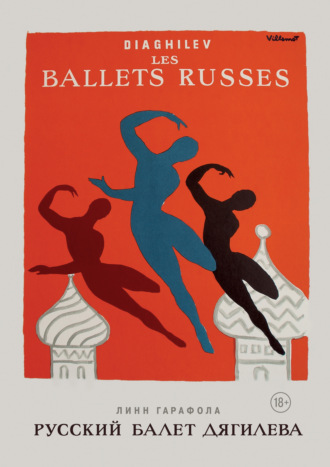
Линн Гарафола
Русский балет Дягилева
На протяжении двадцати лет Русский балет привлекал в театр многочисленных зрителей. Никогда еще со времен романтизма 1830-х и 1840-х годов балет не собирал такого огромного количества поклонников. Аудитория была замечательной не только с точки зрения ее численности. До появления Русского балета считалось, что балет – зрелище для детей и стариков. Однако благодаря Дягилеву балет превратился во времяпрепровождение для избранных. На его спектакли приходили люди состоятельные и знаменитые – члены королевских семей и известнейшие люди эпохи, чьи имена постоянно мелькали в светских хрониках того времени. Были среди зрителей и писатели, художники, композиторы и коллекционеры – интеллектуальная и художественная элита, которую до той поры редко привлекали балетные спектакли. Дягилев создавал свою публику и в других кругах общества: так, в послевоенном Лондоне наряду с интеллектуальными сторонниками балета на спектакли приходили и простые люди – завсегдатаи мюзик-холлов. Состав сегодняшней балетной аудитории во многих смыслах был определен Русским балетом.
Зрительская аудитория Дягилева создала широкий культурный контекст для его труппы. Она влияла на ее общественный и – в значительной мере – художественный облик. Во времена, когда реклама делала еще только первые шаги, Русский балет пользовался огромной популярностью в той социальной среде, где формировались вкусы публики. Зрители Дягилева приводили на спектакли своих друзей, нанимали танцовщиков для выступлений на частных вечеринках, надевали на балы-маскарады костюмы в стиле постановок Русского балета. В печати труппу превозносили на все лады, и можно было по пальцам пересчитать те журналы мод и светской хроники, которые игнорировали ее знаменитостей. Интеллектуальные журналы того времени – даже те, которые редко помещали материалы о балете, – также не обходили труппу своим вниманием, хотя тон их статей был несколько иным. Русский балет оказывал влияние на моду, искусство, развлечения. Но и они, в свою очередь, наложили свой отпечаток на труппу – от костюмов танцовщиков до содержания хореографии. В целом в каждый отдельно взятый период облик Русского балета отражал социальный состав его аудитории. Роль различных слоев зрительской аудитории Дягилева в формировании постоянно развивающейся идеологии, лежавшей в основе его деятельности, – тема третьей, заключительной части книги.
Эпоха Русского балета, вероятно, описана подробнее, чем любой другой период в истории танца. Тем не менее мы впервые попытаемся взглянуть на эту труппу в целостности – представить ее искусство, охарактеризовать ее как антрепризу и рассмотреть ее публику. Эта задача не только побудила меня искать ответы на новые вопросы в уже знакомых источниках, но и привела в архивы Парижа, Монте-Карло, Нью-Йорка, Беркли, Сиракуз и Принстона, к которым ранее не обращались исследователи деятельности Дягилева.
В этой книге также впервые пересматриваются основные положения так называемой британской школы историков Русского балета, которая возникла в 1930-е годы. Труды представителей этой школы, и прежде всего Сирила У. Бомонта и Арнольда Хаскелла, заложили основы современного дягилеведения и открыли первоисточники, которые остаются незаменимыми по сей день. Однако с течением времени трактовки, предлагаемые данной школой, не получили развития. В многочисленных работах Ричарда Бакла, ведущего современного исследователя деятельности Дягилева, Русский балет предстает либо как связующее звено в некоей последовательности, ведущей от Русского балета к Королевскому балету Англии, либо как полностью независимая труппа, на которую не влияли ни искусство, ни идеи современной ей эпохи. Бакл вскрыл новые факты, но не сумел дать им соответствующую интерпретацию. Кроме того, он усердно избегал применения новейших подходов в социальной истории, балетной критике и идеологии феминизма, которые оживили американское балетоведение и без которых появление этой книги было бы невозможным.
История, рассказанная ниже, весьма продолжительна, многообразна и населена. Она начинается в России конца XIX века и заканчивается в Западной Европе эпохи джаза. Она включает в себя политические и художественные революции, а также Первую мировую войну. Ее действующими лицами являются мужчины и женщины самых разных кругов общества, разного стиля жизни – такие непохожие друг на друга личности, как леди Кунард, законодательница лондонского высшего света; Эдвард Бернейз, отец современных рекламных технологий; Анатолий Луначарский, советский комиссар просвещения, и Отто Кан, финансировавший армии союзников во время войны. Исполины модернизма – Пикассо, Стравинский, Джойс и Пруст – присутствуют здесь наряду с танцовщиками и хореографами, чьи имена стали легендой. В этой книге представлены и люди, чьи судьбы менее известны, – Василий Киселев, работавший вместе с Фокиным в самом начале его карьеры и отправленный в психиатрическую лечебницу за активное участие в забастовке танцовщиков 1905 года, а также Дорис Фэйтфул, подавшая от имени нескольких танцовщиков жалобу на нищенское жалованье во время одного из турне труппы по Америке. Они тоже появляются на страницах этой книги, вплетая прозу своих жизней в общий ход событий. История Русского балета – это и их история. Она принадлежит им в той же степени, что и самым ярким личностям той эпохи.
Нью-ЙоркМай 1989Л. Г.
I
Искусство
1
«Освободительная эстетика» Михаила Фокина
9 января 1905 года бастующие рабочие с окраин Санкт-Петербурга собрались у Зимнего дворца для подачи царю петиции «от лица всего трудящегося класса России» о прекращении войны с Японией и принятии «мер против гнета капитала над трудом». Главными лозунгами петиции, которые спровоцировали трагедию, вошедшую в историю как «Кровавое воскресенье», были право на самоопределение, свобода личности и осуждение чиновничества[14].
В последовавшие месяцы призывы к гражданской свободе и независимости дошли от рабочих кварталов Петербурга до самых привилегированных культурных учреждений царской России. В феврале произошла забастовка студентов Петербургской консерватории. «Некоторые из требований студентов весьма обоснованны», – писала мать студента консерватории Сергея Прокофьева. И далее:
Они просят, чтобы ежемесячно ставились оперные спектакли с участием студентов: певцов, дирижеров и полного состава оркестра, где студенты играли бы на инструментах, на которых учатся… Они просят библиотеку, повышения уровня академических занятий и вежливого обращения со стороны служебного персонала и преподавателей. Например, говорят, что [Леопольд] Ауэр бьет студентов смычком по голове. Нынешнюю ситуацию можно сравнить с надвигающейся бурей, когда воздух становится тяжелым и трудно дышать[15].
В марте, на гребне волны протеста, Николай Римский-Корсаков, открыто выражавший свои либеральные убеждения в прессе, был уволен с должности директора консерватории, в результате чего ее покинули также Александр Глазунов и Александр Бенуа. Сорок студентов были отчислены, а после того как премьера «Кощея Бессмертного» Римского-Корсакова в театре Веры Комиссаржевской превратилась в политическую демонстрацию, царь запретил постановку в Императорских театрах произведений этого «революционного» композитора[16].
Консерватория стала не единственным учреждением искусства, которое всколыхнули события 1905 года. Осенью забастовка разразилась в Императорском балете. Конечно, на фоне общей революционной панорамы забастовка танцовщиков представляла собой лишь незначительный эпизод. Тем не менее она оказала крайне значительное влияние как на само возникновение Русского балета, так и на его эстетику. В таком виде искусства, где идея приобретает форму лишь в самом исполнителе, подбор состава труппы, соответствующего видению хореографа, выполняет необходимую художественную функцию. Забастовка в Мариинском театре возымела именно такой эффект: она превратила инакомыслящих членов труппы в инициаторов хореографического раскола – и главных действующих лиц Русского балета 1909 года. Бастующие избрали двенадцать делегатов, которые выступили с их требованиями, и по меньшей мере трое из этой дюжины – Михаил Фокин и балерины Анна Павлова и Тамара Карсавина – стали в будущем звездами дягилевской антрепризы. Даже тщательно оберегаемых студентов Петербургского театрального училища коснулись «бесконечные разговоры о забастовках и мятежах», вспоминает учившаяся в те смутные дни балерина Елена Люком. В октябре учащиеся выступили с нешумным протестом, о котором Владимир Теляковский, директор Императорских театров, так записал в своем дневнике: ученики «собрались на совещание без разрешения для обсуждения своих нужд». Одним из присутствовавших на этом необычном митинге, где требовали «улучшить обучение, ввести специальные занятия по гриму, разрешить… старшим учащимся носить собственную обувь и крахмальные воротнички и манжеты под форменной курткой», был Вацлав Нижинский[17].
Забастовка выявила недовольство, усилившееся из-за кризиса в руководстве и художественного упадка, который последовал за золотым веком Императорского балета 1890-х годов (именно в это десятилетие долгая карьера Мариуса Петипа в Мариинском театре достигла своей творческой вершины, и именно тогда появились такие классические постановки, как «Спящая красавица», «Щелкунчик», «Раймонда» и «Лебединое озеро»). Многие из требований бастующих были экономическими: повышение заработка, право голоса в вопросах формирования бюджета, пятидневная рабочая неделя. Но так же как и в консерватории, ключевые разногласия касались вопросов искусства. Танцовщики требовали права на выбор режиссеров – штатных руководителей труппы, которые отвечали бы за репетиции и выступали представителями руководства в повседневных взаимоотношениях с танцовщиками, а также просили о возвращении к своим обязанностям Петипа, его ассистента Александра Ширяева и педагога Альфреда Бекефи, незадолго до этого уволенных из театра по политическим причинам. То, что личность Петипа, который руководил Императорским балетом четыре с лишним десятка лет и придал завершенный облик русскому классическому балету, столь явно фигурировала в дебатах, демонстрирует, до какой степени искусство и политика переплетались в Мариинском театре. Как объясняла Карсавина своей матери, не одобрявшей ее действий, целью танцовщиков было «поднять уровень искусства на должную высоту… Мы намерены потребовать право на самоуправление, право избрать свой комитет, который станет решать… вопросы творчества… намерены покончить с бюрократизмом в организационных делах»[18].
Ключевым для революции 1905 года было слово «свобода». Оно означало принцип личной свободы в общественной, культурной, равно как и экономической, жизни. У танцовщиков и других работников Императорских театров забастовка вызвала чувство сопричастности общим художественным устремлениям, сродни той, что объединяла художников вокруг дягилевского журнала «Мир искусства». «Помните, – обратился режиссер – участник забастовки[19] к своей драматической труппе, когда был опущен занавес в Александринском театре – собрате Мариинского, – мы боремся за почетную свободу. Еще совсем недавно русский актер был рабом»[20]. Утверждение политического единства подразумевало трансформацию художественного и общественного сознания восставших.
Вопреки сказанному в воспоминаниях Карсавиной, жизнь в Императорском балете после событий 1905 года так и не вошла в привычное русло. Для расследования беспорядков была создана комиссия, и, несмотря на официальную амнистию, Петр Михайлов и Валентин Пресняков, возглавлявшие забастовку танцовщиков, были уволены, а еще один из активных ее участников – Василий Киселев – был отправлен в психиатрическую лечебницу. (Очевидно, его пребывание там не оказало долговременного влияния на него как танцовщика, поскольку он, как и Пресняков, принимал участие в постановках первых сезонов Русского балета.) Иосиф Кшесинский, брат Матильды Кшесинской, prima ballerina assoluta Мариинского театра и бывшей возлюбленной царя Николая II, также был уволен за участие в забастовке, хотя, благодаря связям сестры при дворе, смог сохранить пенсию. Даже Павлова, ярчайшая звезда молодого поколения, получила от барона Владимира Фредерикса, всемогущего министра двора, осуществлявшего контроль над Императорскими театрами, предупреждение о последствиях, которые ее ожидают, если она не воздержится от дальнейшего участия в смуте. «Многие принимавшие участие в “бунте” были позднее уволены без особой причины, – вспоминала Бронислава Нижинская, – не получали хороших ролей или очень медленно продвигались по службе»[21]. Эти репрессии, безусловно мягкие по царским меркам, тем не менее усилили раскол между взбунтовавшимися и оставшимися верными руководству.
Дальнейшая поляризация уже расколовшейся труппы подготовила почву для «исхода» талантливых танцовщиков, что фактически привело к оттоку молодого поколения из Императорского балета. Начиная с 1907 года танцовщики Мариинского театра стали все чаще поглядывать за границу в поисках ангажементов. В 1907–1908 годах Адольф Больм и Павлова совершили ряд выездов за рубеж, в том числе на гастроли по Скандинавии, которые завершились в Берлине и повсюду имели оглушительный успех. Больм также стал партнером Лидии Кякшт в ее первом выступлении в Эмпайр Тиэтр в Лондоне в 1908 году, а Карсавина танцевала в столице Англии весной 1909 года, всего за несколько месяцев до парижского дебюта Дягилева. Другие танцовщики левого фланга труппы вскоре последовали за ними: Георгий Кякшт (брат Лидии), Людмила Шоллар и сестры Бекефи выступали в Лондоне в 1909–1910 годах, так же как и Ольга Преображенская, балерина со стажем, танцевавшая в Парижской опере в 1909 году. (Дабы не быть превзойденной, Матильда Кшесинская, первая из традиционалистов, организовала несколько выступлений в Опере, там же, где в 1908 году состоялся показ Дягилевым «Бориса Годунова».)
Зарубежные выступления были привлекательны с точки зрения гонорара, но еще сильнее в них притягивала редкая возможность работать вне условий бюрократии и художественного застоя Императорских театров. Больм писал:
В театрах Петербурга и Москвы много таких, как мы, тех, кто жаждет посвятить свое искусство иным, лучшим целям. Мы беспомощны, потому что руководство нашего театра крайне реакционно. Мы не осмеливаемся открыто критиковать его. Нам даже не позволено выступать с предложениями. Петипа умер. [Он скончался в 1910 году. ] Балетмейстеры по-прежнему используют то, что он создал, но они утратили его дух. После свободы гастролей такая атмосфера вызывает удушье[22].
В этих словах Больм выражает страсть к искусству и веру в его высокое предназначение, которыми были движимы молодые идеалисты Русского балета.
Как и все государственные учреждения, Мариинский театр представлял собой общество в миниатюре, где политика, общественные отношения и художественные задачи были неразрывно связаны. Революционный импульс породил отклик на все эти стороны существования танцовщиков. Он предопределил отношение к «старой классической технике», которую олицетворяли Кшесинская и главный режиссер Императорского балета Николай Сергеев, и к карьеризму, столь характерному для этих хранителей традиций. Он политизировал даже само стремление к новым творческим подходам в искусстве танца и обострил необходимость в групповых творческих усилиях, которая в будущем выразится в создании Фокиным актерского ансамбля. И он же усилил критический настрой по отношению к «приклеившимся к искусству», как Фокин назвал чиновников, которые осуществляли контроль над казной Императорских театров и тем самым вынуждали его самого и его коллег-единомышленников к тому, чтобы искать себе работу за пределами мира бюрократии[23]. Идеалы 1905 года не только изменили ход мысли и стиль поведения молодого поколения танцовщиков Мариинского театра, но и повлияли на образный мир ранней хореографии Фокина. В темах и структуре его первых балетов прослеживались устремления его бастовавших собратьев, слившиеся с утверждением либеральной идеологии.
Становление Михаила Фокина как хореографа совпало по времени с революцией 1905 года и выявило как общественные, так и художественные противоречия, породившие беспорядки в Мариинском. Как и прочие, кто возглавлял забастовки, Фокин был связан с Гребловской школой имени Гоголя, благотворительным учреждением, которое танцовщики основали и поддерживали и которое стало центром собраний левого крыла труппы[24]. Фокин явно противостоял Александру Крупенскому, консервативному главе петербургской конторы Императорских театров, и на шестичасовом митинге 15 октября 1905 года, где бастующие танцовщики и представители администрации вели язвительные дебаты, открыто назвал Сергеева «шпионом дирекции». Сергеев, который позднее, в 1920-х и 1930-х годах, завоевал прочную славу на Западе благодаря постановкам «Жизели», «Лебединого озера» и «Спящей красавицы», сыграл весьма неприглядную роль в событиях 1905 года. Карикатура того времени, озаглавленная «Плоды балетной забастовки», изображает его машущим петицией танцовщиков над поверженной Ольгой Преображенской, которую сечет розгами скелетообразный экзекутор на глазах у Крупенского и Теляковского[25].
Хотя Фокин не воздерживался от критики Императорского балета в художественном и административном отношении еще до революции, события именно того беспокойного времени побудили его к действиям. В период с февраля 1906 года по март 1909-го он поставил по меньшей мере две дюжины балетов и танцевальных номеров: такая плодотворность удивляет, особенно если учесть, что до этого времени на его счету было лишь три постановки. Практически все без исключения работы осуществлялись не для Мариинского театра, а в более свободной атмосфере выпускных концертов училища и благотворительных вечеров, немалую часть которых хореограф организовал сам. В этих случаях Фокин мог выбирать, с кем ему работать, и мог надеяться на то, что и получил, – «полное взаимопонимание и энтузиазм»[26]. Его первая значительная работа «Виноградная лоза» была создана по предложению коллег-танцовщиков и поставлена в рамках благотворительной акции для Гребловской школы в начале 1906 года. Подобранный Фокиным состав исполнителей состоял почти целиком из мятежников Мариинской труппы: так, вина в спектакле олицетворяли Павлова, Карсавина, Кякшт и жена хореографа Вера Фокина. С участием «представителей левого крыла» проходили все его послереволюционные спектакли, поставленные для профессиональных танцовщиков, – «Умирающий лебедь», «Эвника», «Шопениана» (в ее различных версиях), «Павильон Армиды», «Египетские ночи» и Bal poudré, – причем почти во всех постановках танцевали Павлова и Карсавина. В оригинальной версии «Карнавала», ставшей завершением цикла его собственных постановок, начавшегося с революцией, выступили не только Карсавина, но и трое из возглавлявших забастовку: Альфред Бекефи (также танцевавший в Bal poudré), Александр Ширяев и Василий Киселев.
Особенно близко в те годы Фокин общался с Петром Михайловым. В своих мемуарах хореограф описывает встречу у него дома в конце 1907 года, где собрались Бенуа и другие художники «Мира искусства» и где Михайлов по просьбе Фокина зачитывал бумагу «о необходимости слияния мира художников с балетом, о новом пути, на который вступил балет, о тех возможностях, которые открываются в обновленном балете для работы художников и музыкантов и т. д.». С изложенными взглядами, добавляет Фокин, он был «совершенно согласен»[27]. Существование такого вольнодумного сообщества говорит о безграничной преданности его участников новым идеям. С одной стороны, оно указывает на то, что происхождение фокинского художественного раскола сложным образом переплеталось с политическими событиями 1905 года, с другой – на то, что влиятельное содружество Дягилева уходит корнями в сообщество художников, сформированное этими событиями и появившееся на основе ранних начинаний Фокина. В этой «бодрящей» атмосфере «все чувствовали, – писал хореограф, – что создается новое дело, что рождается новый балет»[28].
Хотя Петипа пользовался огромным уважением в среде танцовщиков Императорского балета, поколение, достигшее зрелости в начале XX века, его художественные достижения уже относило к прошлому. «Постановки, создававшиеся после “Спящей красавицы”, становились все длиннее и длиннее», – вспоминает Карсавина, известнейшая исполнительница спектаклей Фокина, которая, однако, прекрасно владела и репертуаром Петипа:
Сюжет был только нитью, на которую нанизывались многочисленные баллабили. Хотя хореографическое мастерство никогда не изменяло Петипа… он терял из виду… внутреннюю мотивацию танцев… «Синяя Борода» [например] (1896)… содержала несколько танцевальных номеров, весьма слабо связанных с сюжетом. Они представляли собой картины сокровищниц Рауля Синей Бороды в то время, когда их посещала его седьмая жена Изора… В одной из них танцующие ножи, вилки, ложки и тарелки сами по себе оказывались поводом для танцевальной сцены… сводя классический танец к абсурду. На самом деле балет «Синяя Борода» имел все черты рождественской пантомимы или французского ревю…[29]
Сомнения Фокина по поводу художественных традиций Мариинского театра возникли у него еще в начале карьеры профессионального танцовщика:
Когда я играл мимическую роль, то имел вид, соответствующий изображаемой эпохе, но когда танцевал классику, то выглядел как первый танцовщик, то есть «вне времени и вне пространства» <…> я чувствовал, что это нелепо, но такова была традиция. <…> Чем более исторически были точны костюмы у мимистов… <…> тем глупее, мне казалось, выглядели среди них мы, «классики» <…> с розовыми ногами, в коротких юбочках, имеющих вид раскрытого зонтика[30].
В 1904 году, в самый канун революции, Фокин предложил Теляковскому либретто «Дафниса и Хлои». Черновому наброску сценария этого двухактного балета он предпослал вводную заметку, где объяснялись принципы, которые предполагались к соблюдению при постановке. Написанные в форме пожелания, эти принципы представляют собой самую раннюю из художественных деклараций Фокина. Он писал:
Пришло время осуществить эксперимент в постановке греческого балета в духе эллинского века. Балетмейстеры не должны совершать подобной ошибки: ставить танцы для русских крестьян в стиле Людовика XV или… сочинять танцы в манере русского трепака к французскому сюжету. Зачем повторять одну и ту же ошибку, ставя древнегреческие сюжеты: заставлять греков танцевать на французский манер?[31]
Фокинский призыв к аутентичности был как неотъемлемой частью его эстетики, так и средоточием большинства его недовольств, связанных с Императорскими театрами. С самого начала его идеалы представляли собой идеалы натуралиста: искусство должно воплощать расу, момент и среду – как в известном высказывании Тэна, – а не твердо следовать классическим установлениям:
Поскольку жизнь в разные эпохи различна и различны жесты людей, то танец, отображающий жизнь, должен варьироваться. Египтянин времен фараонов совершенно не похож на маркиза восемнадцатого столетия. Пламенный испанец и флегматичный житель Севера не только говорят на разных языках, но и используют различные жесты, которые никто не изобретал, но которые породила сама жизнь[32].
В наши дни натурализм утратил былую популярность, и зачастую мы говорим об этом наукообразном отпрыске реализма с пренебрежением. Однако в свое время натурализм являлся живительным течением, которое стремительно относило художника к реальному миру трущоб, шахт, публичных домов и бульварных театров, сообщая ему эмпирические методы ученого и внушая, что искусство есть средство социальных преобразований. Хотя Фокин остерегался заходить слишком глубоко, с ранних лет его пытливый ум вырывался далеко за пределы Театральной улицы. В каникулы он каждый день совершал походы в Эрмитаж и срисовывал статуи и картины из его богатейшей коллекции. В период кризиса, наступившего после его дебюта как танцовщика, он вдоль и поперек исходил Петербург, посещая уроки живописи, изучая анатомию, рисование углем и маслом, и проводил много времени, погрузившись в книги по искусству. «Мне надо было много учиться, чтобы попасть в Академию, – писал он позднее, – что отныне стало моей мечтой»[33].
Кроме живописи, его помыслами владели музыка и путешествия. Он ездил по разным уголкам России, удаленным от Петербурга, и за границу. В первую свою поездку, выехав из столицы в вагоне третьего класса, он посетил Москву, Нижний Новгород, увидел Волгу, Каспийское море и Кавказ; во второй раз побывал на землях Древней Руси – в Киеве, в Крыму; следующее путешествие привело его в Будапешт, Вену, в Италию. Увиденное там оживило истории, хранившиеся в его памяти. Казалось, что у могучей Волги стоит Стенька Разин, готовый бросить в волны свою возлюбленную персидскую княжну, а в Бахчисарае «фантастическое, царственное великолепие» «Тысячи и одной ночи» смешивалось с пушкинскими строками. Сокровищами Венеции, Флоренции, Рима, Помпеев Фокин «наслаждался, упивался и в то же время приходил в отчаяние», что его мозг «не успевает ни полностью воспринять, ни удержать в памяти все виденное»[34]. Везде, где бы он ни был, он встречал танцевальные образы. С Кавказа привез воспоминание о легкой, гордой походке черкесов; из Италии – множество открыток и репродукций картин, изображающих танец, которые положили начало его богатой коллекции ритуальных и фольклорных материалов.
Вернувшись домой, Фокин стал сотрудничать с музыкальными кружками, которые стремились удовлетворить возросший в обществе интерес к русской народной музыке. Он играл на мандоле с профессионалами из Мариинского театра и на балалайке на концертах для заводских рабочих, а также выступал вместе с ансамблями, исполнявшими русскую фольклорную музыку на народных инструментах. В ходе этого, как он выразился сам, «дилетантского музицирования» он научился обращаться с партитурами и даже сочинять – в степени, достаточной для того, чтобы оркестровать целые произведения для своих выступлений. Это не только научило Фокина глубже понимать музыку, но и хорошо дало понять, какое воздействие может оказывать музыка на слушателей. Когда изысканная публика была до слез растрогана песней волжских бурлаков «Эй, ухнем!», это поразило его силой, с какой живое искусство может воздействовать непосредственно на чувства. Он нашел в этом подтверждение тезиса Толстого о том, что сущностью всякого истинного искусства является «передача чувства, заражение им зрителя»[35]. До сих пор он представлял это лишь теоретически, но теперь этот тезис стал частью его художественного кредо, как, впрочем, и другое высказывание Толстого: искусство принадлежит широким массам, а не «узкому кругу балетоманов», которые посещают Мариинский театр. Это убеждение еще больше окрепло после чтения Фокиным политической литературы – Петра Кропоткина, Михаила Бакунина, Августа Бебеля и Фердинанда Лассаля, с трудами которых его познакомили сосланные из России социалисты, встреченные им в Швейцарии[36].
Все это наложило глубокий отпечаток на мировоззрение Фокина. С самого начала хореографической карьеры его работы были наполнены острым чувством истории. Он был убежден, что сюжет, период и стиль в балете должны соответствовать времени и месту сценического действия, что акту творчества должны сопутствовать эмпирические наблюдения и исследования, что выразительность рождается из соответствия изображения и реальности. Под эгидой истории Фокин и начал свое наступление на балетные условности.
Со времен романтизма реализму в балете принадлежало заслуженное место, однако он существовал скорее как дополнение к классическим традициям, в рамках двойственности, отличавшей все грани постромантического стиля. Двойственность эта выражалась в структуре изложения сюжета (мимические сцены – эпизоды чистого танца), в танцевальной манере («характерный» или народный танец – академический танец), в стилистике жестов (пантомимные – символические), в костюмах (исторически точные костюмы – балетные пачки), даже в обуви танцовщиков (сапоги и мягкая обувь – пуанты). Все эти проявления двойственности, впервые оформившиеся в систему в 1830-х годах, с течением века становились все более условными. Для Фокина они были проклятием.
Вместо двойственности Фокин добивался полного единства выразительных средств. Перед ним открывались две перспективы: либо обойтись без реализма, либо отойти от классики. Как показала практика, в большинстве случаев он выбирал второй путь. Но даже в работах, выполненных в классическом стиле – «Шопениане» с ее ранними версиями, «Прелюдах» и «Эросе», – он включал хореографический материал в исторический контекст. Как красноречиво выразился Андрей Левинсон, «обостренная чувствительность»[37] Фокина указывала ему на то, что классика состоит не в создании вневременных образов, но в воссоздании стиля, ассоциирующегося с романтической эпохой, раем первозданной чистоты для хореографа. Более поздние приобретения века – виртуозность, акробатика, игра на публику – виделись ему причиной художественного упадка в балете.
Если реализм выступил фундаментом здания фокинской поэтики, то этнография обеспечила его строительным материалом. В работах Петипа характерные танцы придавали хореографии живую плоть, наделяли ее историческими особенностями, а свойственная им телесная динамика и интенсивность эмоций были весьма созвучны представлениям Фокина. К концу столетия тем не менее стилизация стала подрывать как полнокровность народных танцев, так и их подлинную близость к фольклорным истокам. Александр Ширяев писал:
Будучи последователем классического балета, Петипа пришел к характерному танцу именно от него, а не от народных танцев. Сарацинский танец в Раймонде основан на классических движениях pas de basque и ballonnée, испанский панадерос в том же балете – также на pas de basque, индийский танец в Баядерке – на grand battement и так далее… Какими бы внешне блестящими и впечатляющими ни были характерные танцы Петипа, более справедливо рассматривать их как вариации классического танца на народные темы, а не как действительно народные танцы, даже в чисто театральном смысле[38].
Часто использовались пуанты и прыжковая техника классического танца (обычно это касалось китайского, японского и других «экзотических» стилей). Временами черты одного национального танца встречались в другом, особенно частым было смешивание испанских и итальянских форм. Несмотря на то что венгерские и польские танцы достигли «высокого сценического развития», отражая, в частности, наличие в Императорской труппе танцовщиков этих национальностей, другие, писал Фокин, «исказились до неузнаваемости»[39]. К рубежу веков характерный танец представлял собой лишь прикрытые нарядными одеждами национальные стереотипы.


