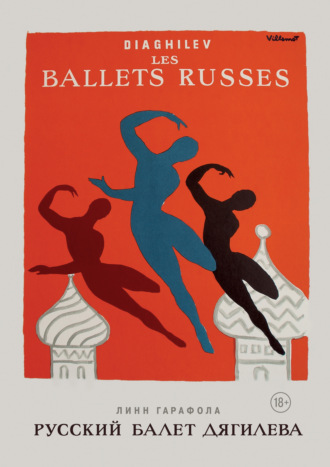
Линн Гарафола
Русский балет Дягилева
Футуристическое театральное представление расширяло границы традиционных форм необычным и часто шокирующим способом. Дягилев, как законченный прагматик, сторонился тактики групповой конфронтации, но мысль о том, что доставшееся в наследство должно быть изменено, преобразовано, переоформлено, скомбинировано с другим и использовано наряду с новым материалом, находил очень близкой по духу. Футуристы прославляли театр варьете потому, что он, как писал Маринетти, был «вскормлен стремительно развивающейся действительностью», ставил публику в тупик комическими эффектами, удивляя, пробуждал воображение, обогащал программами с кинематографической проницательностью и способностью погружать «в глубины нелепого» молниеносной сменой сцен благодаря использованию чудес современной техники[218]. Влияние подобных идей на Дягилева переоценить невозможно. Послевоенная тенденция, связанная со стремлением к карикатуре, пародии и алогичным композициям, которая, как и привлечение средств из арсенала развлекательной индустрии, впервые обозначилась в годы войны, напрямую уходила корнями в теорию и практику футуризма.
Лишь один-единственный результат сотрудничества Русского балета с футуризмом достиг сцены. Однако в период между концом 1914 и весной 1917 года Дягилевым намечалось более полудюжины проектов с привлечением художников-футуристов: концерт шумов, «Пьедигротта», «Литургия», «Печатный станок», «Фейерверк», «Песнь соловья», «Зоопарк» (The Zoo) – балет Франческо Канджулло, для которого Равель согласился написать партитуру, а Деперо – создать оформление[219]. Лишь по прихоти судьбы произведением, подводящим итог футуристическим экспериментам, стал «Парад». Здесь, как подчеркнула Марианна Мартин, «на сцене присутствовал не просто Кубизм» – вопреки часто цитируемой фразе Гертруды Стайн, – но «изысканно- и очаровательно-юмористическая конфронтация между кубизмом и футуризмом и соответствующими им идеалами»[220]. «Парад» вобрал в себя многие футуристические идеи: конкретные жесты и звуки, приемы варьете, алогичную композицию, механистичность движений, конструктивистские костюмы – идеи, просочившиеся через парижский авангард и неизбежно преобразованные благодаря контакту с кубизмом.
Если Дягилев и не преобразовал Русский балет на основе принципов футуризма, то его контакты с этим направлением определенно изменили облик труппы. Он навсегда распрощался с натурализмом, драматическим повествованием, психологической мотивировкой характеров, изгнал экзотичность Бакста (по выражению Прамполини, «ассирийско-персидско-египетско-нордического» плагиатора[221]) и пассеизм Бенуа, отбросив заодно и символистскую тематику «Мира искусства». С этого времени он станет убирать свою сцену завесами, подтверждающими признание революции, произведенной кубизмом. Через Мясина, его хореографическую Галатею, он будет вносить в балет динамизм и угловатость, прокламируемые и отстаиваемые футуризмом, наряду с деперсонифицированным стилем исполнения, прерывистым повествованием и нарочитыми несоответствиями, ставшими фирменными знаками Русского балета.
Дягилев, впрочем, никогда безоглядно не отрицал прошлого – даже в эти годы увлечения модернистскими экспериментами. Напротив, в подавляющем большинстве спектаклей, многие из которых задумывались во время Первой мировой войны, но смогли быть осуществлены лишь в послевоенные 1919–1921 годы, стилистическая новизна авангарда оказалась повенчанной с традиционными балетными темами и жанрами. Из этой амальгамы старого и нового возникли гибридные формы, ставшие главными проводниками балетного модернизма: неопримитивизм и то, что я называю первоначальным модернизмом. Отзвуки экзотичности и ретроспективизма довоенных лет, эти комбинации, объединяющие эксперименты и общепризнанный материал, заложили общеэстетическую основу преображенного дягилевского репертуара, чего не сделал «Парад».
В истории становления неопримитивизма не было другой пары художников, оказавшей столь значительное влияние на Дягилева, как Наталья Гончарова и Михаил Ларионов. Спутники в жизни, эти русские авангардисты находились рядом с ним большую часть периода войны и последовавшего за ней перемирия. Они жили и работали с ним, непосредственно участвуя в создании нового модернистского репертуара. В 1915 году, когда эта пара присоединилась к артистической колонии в Швейцарии, они были уже достаточно известны Дягилеву. Картины Ларионова висели в 1906 году на выставке «Мира искусства», последней значительной акции Дягилева в России, и в том же году – позже – на Выставке русского искусства, которая стала его первым свершением в Париже. Гончарова, в свою очередь, была личностью, высокочтимой Дягилевым: заказывая ей оформление к «Золотому петушку», ставшему самым значительным событием сезона 1914 года, он впервые обращался к художнику (причем женщине-художнику), который стоял вне традиций «Мира искусства». Ее приглашение, последовавшее сразу после музыкальных и хореографических прорывов «Весны священной», обнаруживает постепенное охлаждение Дягилева к предыдущей декорационной эстетике Русского балета.
К тому моменту, как поступил заказ от Дягилева, тридцатитрехлетняя Гончарова была уже признанным лидером московского авангарда, основательницей лучизма, тесно связанной с русскими футуристами. Ее живопись 1913–1914 годов отражает широкий диапазон предреволюционного авангарда в момент его взлета: полуабстрактные лучистские композиции, в которых пересечение в пространстве лучей, исходящих от объектов, использовалось для создания новых форм; работы кубофутуристов, совмещавших пристрастие футуристов к механизмам, скорости, освещению с трактовкой твердых тел кубистами; и тип неопримитивизма, основывающегося на исконно русском фольклоре, иконописи, традициях оформления средневековых рукописных книг и наивных народных рисунках. В августе 1913 года Гончарова поразила Москву выставкой из 768 своих работ, являвшихся итогом прошедшего десятилетия. Несомненно, что именно впечатление от этой выставки вскоре привело Дягилева в ее мастерскую с предложением стать одним из постановщиков «Золотого петушка»[222].
Гончарова не раз отмечала, что подлинные истоки ее творчества лежат в детстве, проведенном в русской деревне, где она узнала крестьянские обычаи и усвоила фольклорные традиции[223]. В интервью 1959 года она описывает и другие изыскания, предпринятые для постановки «Золотого петушка»: посещение археологических музеев, где она обнаружила богатое наследие образцов крестьянского костюма и «такие сокровища, как великолепные царские и боярские перстни», а также знакомство и беседы с народными умельцами[224]. Тем не менее ни Гончарова, ни Ларионов, возобновивший знакомство с Дягилевым в это время, не рассматривали буквальное подражание фольклору как главную задачу декорационного оформления. В совместной статье они писали:
Декорации балета не должны иметь единственным намерением установить, в соответствии с либретто, время и место действия; скрупулезная историческая реконструкция того или иного стиля не есть цель, предписанная ему. Декорация, кроме всего прочего, является независимым созданием, поддерживающим дух исполняемого произведения; это есть самостоятельная художественная форма со своими собственными проблемами и собственными законами… Если [театральная] форма… не базируется на экспериментальной основе, если она не повинуется этим, не формальным, но строго художественным законам, служащим подлинному таланту, она окажется нежизнеспособной и не выдержит испытания временем[225].
Разразившаяся Первая мировая война заставила Гончарову и Ларионова вернуться в Россию. Ларионов был отправлен на фронт и вскоре был ранен. Гончарова тем временем, после успеха в Русском балете заваленная заказами, рисовала эскизы декораций и костюмов для постановки Александром Таировым пьесы Карло Гольдони «Веер» и начала работу над оперой Римского-Корсакова «Град Китеж». Летом 1915 года по приглашению Дягилева оба художника присоединились к ядру новой труппы, которую он формировал на вилле Бель Рив в Уши, швейцарской штаб-квартире труппы с мая по декабрь 1915 года.
Несмотря на то что ни Ларионов, ни Гончарова не сопровождали Дягилева в Лондоне, их присутствие рядом с ним в первые месяцы 1914 года помогает объяснить поразительный поворот в его эстетических пристрастиях, произошедший осенью того же года, и восприятие им идей футуризма. Теперь, одновременно с вызреванием плана первых гастролей труппы в Америку, они обновили свои подходы к русскому народному искусству. Под влиянием художников трактовка фольклора коренным образом изменилась: он сбросил ориентальные одежды и отказался представать как экзотика. Между 1915 и 1917 годами Ларионов и Гончарова сочинили оформление и либретто к полудюжине балетов на русскую тему, происхождение которых (или существенной их части) связано с дягилевской странствующей студией. Эти работы, все без исключения, «выбрасывали за борт» еще живые ориентальные традиции фокинского genre nouveau. Перескочив через XIX столетие, они обратились к долитературным русским истокам: православным ритуалам в «Литургии», представлениям народных потешников, известных как скоморохи, в «Шуте» и «Лисе», драматизированным обрядам в «Свадебке» и к народным сказкам в «Полуночном солнце» и «Русских сказках»[226].
В отличие от «Весны священной» Нижинского, где мифическое прошлое и реальное настоящее соединялись в извечном человеческом страхе перед неведомым, неопримитивистские балеты Ларионова и Гончаровой представляли прошлое и настоящее как индивидуальные категории опыта. К первому принадлежал крестьянский мир сказок и легенд; ко второму – модернизм, который одел все это и тем самым объединил посредством унифицирующей стилизации. Фольклор, увиденный через призму художественных форм, извлеченных из реальности в том виде, как ее буквально воспринимает художник-натуралист, стал объектом пристального рассмотрения, остроумной и ироничной выдумкой художника-примитивиста. Во временных сопоставлениях, отчуждении с помощью иронии и в далеко простирающейся стилизации неопримитивизма можно усмотреть не только ключ к изменению отношения к этнографическому материалу в те годы, но и modus operandi[227] основного модернистского подхода Дягилева.
С приходом Ларионова и Гончаровой футуризм оплодотворил все стороны декорационного искусства в балете. Перспектива уступила место плоскому изображению, иллюзия – частичной абстракции. Дуги, треугольники и окружности – нарисованные, и иногда в форме аппликаций – создавали геометрические ландшафты и интерьеры, в то время как цвета – живые, насыщенные, чистые – разрабатывали символические эффекты за счет их интенсивности и сопоставления. Костюм претерпел изменения в равной степени. В «Полуночном солнце», «Русских сказках», «Шуте» и «Лисе» Ларионов одел танцовщиков в костюмы, конструктивные особенности которых (имитированная тяжеловесность, раздутость за счет толщинок, жесткость из-за картонных подкладок) шли от футуризма. Он не только маскировал тело, но и скрывал лица с помощью геометрического грима и антропоморфных полумасок, завершая все это причудливыми головными уборами. Костюмы постоянно повторяли мотивы и цвета декораций.
Теперь центр тяжести постановок сместился с музыки в сторону художественного оформления. Дягилев, писал Ларионов, пришел к пониманию, что декорации «должны считаться одной из органичных частей» балета в сочетании с музыкой и движением[228]. Мясин в 1919 году определял положение художника как еще более значимое. Он был убежден, что в новом балетном синтезе движения и формы, хореографии и скульптуры «оба существенных начала должны быть сбалансированы, с тенденцией предпочтения скульптурному началу»[229]. Начиная с 1915 года и на протяжении всех военных лет декорационное оформление не только поддерживало музыку как органичный элемент дягилевских постановок, но и изменило положение хореографии в ходе работы. Если прежде танец являлся равным участником постановки, теперь он оказался в подчинении у художника, и задача хореографа состояла в том, чтобы повысить цену изобретений автора декораций и костюмов. В своих записках 1921 года Сирил Бомонт подчеркнул превосходящий все прочее эффект, произведенный декорациями Ларионова к «Шуту»:
Лучшей частью постановки были декорации, все остальное на порядок слабее. Декорации Ларионова, как всегда, вдохновленные русским крестьянским искусством, интерпретированные в духе кубизма, были блестящей задумкой, но контраст красок, усиленный угловатыми формами в композиции рисунка, оказывался столь живым и столь сверкающим, что почти слепил при взгляде на сцену, и напряжение не ослабевало, когда на этом фоне начинали двигаться блестяще одетые фигуры. Я должен сказать, что воздействие на глаза было столь же раздражающим, сколь и восприятие светящихся и мерцающих красок, столь характерное для первых цветных кинофильмов[230].
Эта драматическая перемена в отношениях хореографии и изобразительного искусства совпала с годами ученичества Мясина и его художественного взросления как постановщика. В отличие от подавляющего большинства хореографов, создававших свои первые работы либо подражая хореографическим образцам, как моделям, либо противореча им, Мясин осваивал основы ремесла с помощью статичных образов живописи. Действительно, впервые осознанное желание сочинить балет возникло у него осенью 1914 года, во время одного из частых посещений галереи Уффици вместе с Дягилевым, когда он рассматривал «изысканные позировки» «Благовещения» Симоне Мартини[231]. По совету Дягилева он начал работу над «Литургией», серией картин в стиле византийских мозаик и работ итальянских примитивистов. Вдохновленный «Девой Марией» Чимабуэ, он придумал для начальной сцены, «Благовещения», «ряд угловатых жестов негнущимися руками с плоскими ладонями»[232]. Эскизы костюмов Гончаровой помогли ему в разработке «Вознесения». Здесь он пытался найти в движении подобие византийским изображениям рук, их угловатым, завернутым внутрь жестам, и воспроизвести позы, сходные с кубофутуристическим изображением Христа, созданным художницей под впечатлением от иконописи.
Концепция позы – повторяющихся вновь и вновь фиксированных положений человеческого тела – определяет само существо балета. За долгое время были выработаны четкие правила представления тела, охваченного движением, публике. В «Литургии», «Полуночном солнце» и «Русских сказках», трех ранних работах, поставленных Мясиным под водительством Ларионова, поза предлагает нечто совершенно отличное от прописных правил. Вместо того чтобы быть цепью связанных движений, здесь позы стали изолированными картинами, статичными двухплоскостными образами. И так же, как поза отражает живописную модель в противоположность модели кинетической, так и ее содержание исходит скорее из источников, увиденных в живописи, чем из источников танцевальных. В «Полуночном солнце» Ларионов подчеркивал важность «подлинно деревенского стиля», зародившего в Мясине интерес и пристрастие к подлинности этнографического материала – основы ряда его лучших работ. Но Ларионов настаивал и на том, чтобы «украсить» традиционные народные танцы в этом балете «простыми, житейскими жестами»[233], – иными словами, воспользоваться приемом, повторяющим в хореографическом варианте стилизацию исходного фольклорного материала неопримитивистской живописью. Такие добавления в лексику классического танца переоформляли и его синтаксис. Ларионов в роли редактора не только наблюдал, но и участвовал в процессе постановки. И в «Литургии», и в Бабе-яге, эпизоде из «Русских сказок», он сокращал танцевальные движения, чтобы добиться «естественной простоты»[234] – еще одной хореографической параллели его модернистской практике как художника.
Влияние неопримитивизма продлилось гораздо дольше послевоенного сотрудничества Мясина с Ларионовым и Гончаровой. Действительно, новшества в работах этого периода, распространенные на другие темы, сохраняли значение основ в его хореографии 1920-х годов. Угловатость, пожалуй, была наиболее существенным знаком модернистской революции в балете. Благодаря Мясину, писал в те годы французский критик Фернан Дивуар, «изобретением в позднем Русском балете на почве танца стала заостренность углов, угловатость более или менее деформирующая, более или менее комическая и карикатурная»[235]. Мясин, под руководством Ларионова, Гончаровой и футуристов, сделал более жесткими прежде мягкие и «красивые» балетные линии. Он перекрыл дорогу открытым движениям классического танца и заменил деформированными жестами закругленность рук традиционного пор-де-бра. «Все пластичное, грациозное, свободное от угловатости изгнано, – писал Валериан Светлов в одной из многих своих статей. – Времена “хореографического тенора” Михаила Фокина, по остроумной фразе Мясина, прошли навсегда. Все движения танцовщиков короткие, угловатые, механические»[236].
Не меньше обескураживали критиков и свойственные хореографии Мясина динамизм, совмещение одновременных действий и чистое движение. В своей автобиографии он приписывает откровения динамизма углубленному изучению учебников танца доромантической эпохи, предпринятому им осенью 1916 года (в период его интенсивных контактов с футуристами, хотя сам он предпочитал не упоминать об этом). Вот как он воспринял описания танцевальной техники у Рауля Фейе и Жана-Филиппа Рамо:
Я смог оценить значение каждой детали и даже каждого мелкого жеста. Я открыл для себя, что тело включает различные, более или менее независимые, самостоятельные структурные системы, и все их надо координировать, чтобы создать единое хореографическое целое. Поняв это, я придумал отрывистые, угловатые движения для верхней части тела, в то время как ноги двигаются в традиционном академическом стиле. Такая противоположность стилей, с моей точки зрения, возможна и создает интересный контраст. Работая над вариациями, я отталкивался от записей танца XVIII века, рисуя в своем воображении новые телодвижения, исходя из ритмических возможностей и варьируя, в соответствии с природой движения, ритм и темп для того, чтобы добиться наибольшей хореографической выразительности[237].
Начиная с «Женщин в хорошем настроении» (Les femmes de bonne humeur) и Бабы-яги, эпизода из «Русских сказок» (оба балета сочинены зимой 1916/17 года), одновременность действия и скорость стали преобладающими чертами мясинской хореографии. В поисках ответа на призыв футуристов к «синтетическому» театру он сжал пьесу Гольдони до одного акта, сбалансировав действие, происходившее одновременно по обе стороны сцены, сохранив при этом все сложные ходы сюжета. В то же время он ограничил танцевальное движение, концентрируя и ускоряя его воздействие; непрерывностью усиливая его динамизм; он искал соотношение танцевального ритма с музыкальным на «научной» основе, чтобы создать хореографический контрапункт музыкальному рисунку композитора[238]. Что он сделал на самом деле – так это заменил ритмом музыкальную фразу. Андрей Левинсон писал:
Стиль Мясина можно охарактеризовать как perpetuum mobile, движение падает на каждую ноту, жест – на каждую шестнадцатую, нескончаемая суетливость, которой мы обязаны запыхавшемуся и бойкому оживлению «Женщин в хорошем настроении», сейчас его беспокойный стиль, с его упорным сосредоточением на деформированных и рвущихся линиях есть предел императиву полиритмического музыкального развития или тиранической синкопации, которую Стравинский навязывает оркестру[239].
Еще одним последствием дягилевской революции военного времени в хореографии были ясно выраженные изменения исполнительского стиля. Как мы видели, футуристическая теория возвела на пьедестал деперсонализацию. То же сделала и футуристическая практика, особенно в 1918–1919 годах, когда автоматы и куклы размером в человеческий рост – дети Супермарионеток (Übermarionettes) Гордона Крэга – распространились на футуристической сцене. В фокинских балетах танцовщиков заставляли «играть», то есть интерпретировать свои роли и украшать характер персонажа арабесками своей индивидуальности. В таком обличье спектакль оказывался близок разговору: и тот и другой имели свой шарм, были полны нюансов и чувств. Триумф механической концепции движения, оформительское искусство и иной способ создания образов вызвали к жизни новый исполнительский стиль, передающий эмоцию через обобщение, концентрацию и проецирование ее вовне из-за маски, выражающей бесстрастие. Начиная с военной поры танцовщики были вынуждены сдерживать демонстрацию своей актерской игры, лишить себя вошедшего в историю искрометного блеска легендарных исполнителей и психологической тонкости, унаследованной от Московского Художественного театра – всего того, что отличало фокинский метод создания образов. Там их просили быть самими собой, не интерпретаторами, но живым воплощением своих ролей, они не должны были разрушать стену, разделяющую сцену и зрительный зал. Модернистский спектакль изобиловал сплошными аномалиями. Отстраненность тем не менее захватывала; бесстрастность тем не менее была выразительна; деперсонализация оказывалась переполненной эмоциями. Этими противоречиями объясняется наличие в Русском балете столь многих актерских дарований – включая самого Мясина – в то время, когда деперсоназализация стала торговым знаком труппы.
Наряду с работами, вдохновленными русским народным искусством, неопримитивизм дал в военные годы толчок развитию еще одной темы. Испания, лежащая на периферии Европы, на ее самом западном краю, была схожа с Россией не только в силу монархических традиций, но и благодаря жизненности фольклорных традиций в обеих странах. Встречи Дягилева с миром Испании в 1916 и 1917 годах положили начало новому циклу постановок, восходящему к тем же военным годам: «Менины» (Las Meninas) (1916), «Треуголка» (1919), «Квадро фламенко» (Cuadro Flamenco) (1919) и оставшиеся незавершенными проекты балетов «Испания» (España) и «Триана» (Triana).
Дягилев, как писал позже режиссер труппы Сергей Григорьев, «приходил в экстаз от красот Испании». «Нас завораживали испанские танцы, бои быков, и мы сочли, что испанцы разделяют любовь русских к зрелищам. Наша привязанность оказалась взаимной. Мы стали по-настоящему популярны в Мадриде»[240]. Король Альфонсо редко пропускал спектакли, которые значили для этого самозваного «крестного отца балета» столь же много, сколь и висящие в Прадо шедевры Веласкеса, которому Дягилев отдал дань в «Менинах», первом из серии испанских балетов. Но еще более вдохновляющим, чем золотой век, оказался испанский фольклор, происходивший, как и в России, из слияния европейских и «восточных» источников и доживший до современной поры почти нетронутым. В статье 1921 года Стравинский отмечал: «Между народной музыкой Испании… и русской народной музыкой я вижу глубинную связь, которая, без сомнения, обнаруживается в их общих ориентальных истоках». «Некоторые андалузские песни напоминают мне мелодии наших русских областей, – писал он, – и будят во мне атавистические воспоминания»[241]. Танец также пробуждал воспоминания о прошлом. Русские постоянно посещали кафе, где восхищались искусством танца фламенко, и в живописи Гончаровой испанские темы сменили славянские. Никто другой не был так увлечен испанскими танцами, как Мясин, и под руководством Феликса Фернандеса, великолепного исполнителя, выходца из цыганского квартала Гранады, хореограф настолько овладел техникой стиля фламенко, что не уступал местным танцорам. При трансформации исконных оригиналов в модернистские образные структуры в «Треуголке» он следовал тем же путем, что Ларионов и Гончарова при обработке русского фольклора.
Неизвестно точно, когда Мануэль де Фалья вошел в круг Дягилева. Но похоже, что план испанского балета разрабатывался еще осенью 1916 года. В октябре мы находим обоих в Мадриде, где композитор помог Дягилеву нанять в труппу нескольких испанских танцовщиков. Определенно, синтез классических и фольклорных источников у де Фальи импонировал Дягилеву. В равной степени привлекательным для него могло быть и предшествующее театральное начинание композитора, в котором участвовал Грегорио Мартинес Сьерра, известный поэт, драматург и продюсер. Речь идет о постановке балета «Любовь-волшебница» в апреле 1915 года, которая не только приведет их к совместной работе над «Треуголкой», но и предопределит сам метод работы. Партитура де Фальи и либретто Мартинеса Сьерра для «Любви-волшебницы» включали подлинную цыганскую музыку, а также истории и легенды, рассказанные им женщиной, главой цыганского клана, которая сама же и танцевала в этой постановке. Пример оказался заразительным для Дягилева. В 1921-м он взял в труппу не только Марию Дальбасин, представительницу третьего поколения клана, но и целую группу испанских танцоров, появлявшихся в его «Квадро фламенко»[242].
Как и Мартинес Сьерра, Дягилев был увлечен идеей постановки «Ночи в садах Испании» в виде балета. Но проект уступил место «Треуголке», и Дягилев подписал контракт с де Фальей и Мартинесом Сьерра как либреттистом. Понятно, что у Дягилева не было возможности осуществить постановку так быстро, как он надеялся изначально, и в 1917 году пантомимическая версия произведения была, с разрешения Дягилева, поставлена в театре Эслава[243].
Мартинес Сьерра построил свое либретто на новелле XIX века «Треугольная шляпа» Педро Антонио де Аларкона, переработавшего, в свою очередь, популярную народную сказку в стихах «Коррехидор и мельничиха». Оба, и композитор, и либреттист, использовали танцевальные ритмы и прямые музыкальные цитаты. Пантомимная версия де Фальи была очень близка к фольклорным источникам. Вспоминая свои впечатления от первоначальной версии партитуры, Мясин писал:
Партитура Фальи с ее пульсирующим ритмом, исполняемая одиннадцатью духовыми инструментами, показалась нам очень привлекательной. Соединение в ней силы и страсти было подобно музыке местных народных танцев… Когда мы говорили об этом с Фальей, он выразил готовность с нами сотрудничать, при этом решив исключить некоторые музыкальные попурри, предназначавшиеся для танца Коррехидора, и согласившись, по предложению Дягилева, сделать более полным и сильным финал. Однако он собирался еще некоторое время изучать местные танцы и музыку, чтобы успешно воссоздать хоту и фарруку современными средствами[244].
По мере того как летом 1917 года Дягилев, Мясин, де Фалья и Феликс Фернандес неторопливо путешествовали по Кастилии, Арагону и Андалузии, логика неопримитивизма давала себя знать. Мелодии, записанные в Гранаде, танцы, увиденные при лунном свете в Севилье, добавили в копилку как композитора, так и хореографа изрядный фольклорный материал. В то же время процесс стилизации шел не останавливаясь. Соединяя танцы отдельных областей в «общенациональные» образы, Мясин накладывал движения классического танца на формы и ритмы, изученные и усвоенные им, добавляя «собственные жесты»[245]. Намерение де Фальи сплавить в единое целое музыкальные формы различных частей Испании отражает сходный процесс абстрагирования с целью обобщения. Немногие намеренные цитаты, которые сохранились в партитуре, остались здесь для достижения комического эффекта; они скорее подчеркивают фарсовый характер действия, чем указывают на качественные особенности фольклора. Как и в «Весне священной», народный мелодический материал был включен в саму структуру музыкального произведения – другими словами, и здесь присутствует эволюция, сопровождавшая основную тенденцию неопримитивизма к абстрагированию форм.
Пребывание Дягилева в Италии связало Русский балет с футуристическим авангардом. При этом, одновременно с открытием им итальянского художественного настоящего, произошло второе важное событие: переоценка доромантического прошлого. Неопримитивизм перенес акцент с недавнего прошлого России во времена, недостижимые для истории, в мир легенд и народных традиций. Интерес Дягилева к классическому наследию западных стран, где он вынужден был обитать в годы войны (1915–1917), является, по сути, схожим переосмыслением культурного прошлого. Перепрыгнув через XIX столетие, он разглядел в утраченной музыке Доменико Чимарозы, Джованни Баттисты Перголези и Доменико Скарлатти, в забытой хореографии Рауля Фейе и Жана-Филиппа Рамо, в народном искусстве комедии дель арте выражение подлинной сущности романских традиций. В этих открытиях рождался эстетический подход, сохранявший свое влияние на воображение Дягилева до середины 1920-х годов. Первоначальный модернизм соединил ретроспективную тематику традиционного оперно-балетного театра со стилистикой и техникой авангарда.
На протяжении всей жизни Дягилева два человека противоборствовали в этой сложной и противоречивой натуре: барин, властный, избалованный, деспотичный – и экспериментатор, смелый, неистовый, неустанно ищущий. Война вывела на передний план второго. Авангард дал Дягилеву наряду с техническим арсеналом творческую неустрашимость, укрепил его решимость идти собственным путем в искусстве, скорее вести за собой, чем следовать по чьим-то стопам.
Репертуар периода первоначального модернизма оказался беспрецедентным по результативности дягилевской изобретательности. Истоки представленных в нем жанров брали начало в библиотеках, на аукционных торгах и в частных коллекциях, были плодами его личных разысканий; их переработка и финальный облик – работой его воображения. В гораздо большей степени, чем Стравинский, «Пульчинелла» которого рассматривается музыковедами как поворотный пункт в переоткрытии прошлого музыкальным модернизмом, или Мясин, ставивший в 1917–1920 годах свои балеты-«пастиччо», движение в сторону интригующего слияния традиции и эксперимента определял Дягилев.
Его музыкальная библиотека, сокровищница, ставшая известной только в 1984 году, когда она была выставлена на аукционные торги[246], обнаружила всю основательность исследований, которые стояли за изобретением модернизма того периода. Среди ее богатств находятся и те, что проливают свет на генезис «Пульчинеллы», «ремейка» музыки XVIII столетия, осуществленного в 1920 году Стравинским:
Музыкальная библиотека Дягилева содержит около двадцати фрагментов музыки Перголези, большей частью – рукописные копии камерной музыки и арий из разных библиотек, в том числе из Британского музея, французской Национальной библиотеки и библиотеки Консерватории в Неаполе. Почти все они сопровождаются пометками и комментариями Дягилева, в большинстве случаев они подписаны инициалами с указанием даты и места обнаружения; некоторые из них содержат изложение мыслей… для музыки «Пульчинеллы», а также для планировавшейся постановки «Служанки-госпожи». Среди рукописей есть копии вариаций на тему гавота, использованных в «Пульчинелле»… и отрывки из «Фламинио», написанные, возможно, рукой Дягилева… Другие фрагменты опер, включая отпечатанные копии «Лизетты и Траколло» и издание «Служанки-госпожи», основательно исписаны его пометками. В добавление к этому, здесь есть обстоятельно прокомментированный Дягилевым экземпляр работы Б[енедетто] Кроче «Очерки об итальянской литературе XVII века», где главу о Пульчинелле Дягилев выделил карандашом, и книга «Неаполитанская опера-буффа» М[икеле] Скерильо, где рассматривается не только сюжет, связанный с «Пульчинеллой», но и произведения Перголези и Паизиелло; в этих последних отмечены места, и не связанные с «Пульчинеллой»[247].
Теперь Дягилев отбирал лучшие из своих находок, делая их компонентами замысла. Только после этого он обращался к композиторам-профессионалам, которые должны были скомпоновать и оркестровать их, чтобы представить публике. В книге Expositions and Developments Стравинский объяснял:


