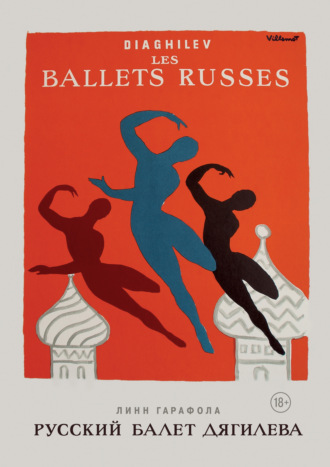
Линн Гарафола
Русский балет Дягилева
Фокин восстановил жизнеспособность различных «диалектов» танца, которые, казалось, зачахли. Основываясь на живых образцах, он создал то, что получило наименование genre nouveau[40], форму, независимую от академической традиции и связанную исключительно с национальными и этническими стилями танца[41]. В период между 1906 и 1918-м – годом, когда он покинул Мариинский и окончательно обосновался на Западе, – Фокин также часто обращался к этому неиссякающему источнику. В «Виноградной лозе» Мария Петипа, чтобы показать дух венгерского вина, танцевала жгучий чардаш. В 1906 году появились также две постановки в испанском стиле – «Севильяна» и «Испанский танец», премьера которых прошла вместе с «Виноградной лозой». В 1907 году он впервые использовал в работе материалы, собранные в поездках. Хотя «Эвника» была поставлена в античном стиле, винный мех из овечьей шкуры, вдохновивший Фокина на идею танца с бурдюками, представлял собой предмет домашнего быта на Кавказе. В том же году он поставил первую версию «Шопенианы», grand ballet в миниатюре, в котором две классические композиции – Ноктюрн и Вальс – шли в обрамлении сцен характерного танца. Балет открывался блестящим Полонезом, бальным танцем, созданным, как писал Фокин, «в период расцвета польской шляхты»[42]. Третья картина – Мазурка Шопена – представляла собой свадьбу в польской деревне. Пятой и завершающей сценой была Тарантелла, где Фокин стремился «передать подлинный характер народных плясок», которые он «изучил особенно на острове Капри»[43]. Хотя Тарантелла была (как и другие характерные танцы) исключена год спустя из последующей, классической версии балета, ее постановка ознаменовала собой новый этап фокинского подхода к фольклорному материалу. Впервые он экспериментировал, «оглядываясь на танцы народа среди природы»[44], определяя свой идеал как симфонию, созданную из живых форм. Вновь и вновь Фокин совершенствовал свой метод. При постановке «Тамары» для Русского балета в 1912 году он создавал неистовые, бурные танцы для этой грузинской легенды на основе своих кавказских воспоминаний. Балет «Стенька Разин», премьера которого состоялась на благотворительном концерте в Мариинском театре в 1915 году, начинался картиной на берегах Волги, напоминавшей о первом путешествии Фокина по Центральной России. На следующий год все в том же Мариинском театре он представил публике «Арагонскую хоту», сюиту из испанских танцев, на которую его вдохновила поездка в Андалузию в 1914 году. В этой постановке он приложил все усилия не только к тому, чтобы воспроизвести ритм, па и характерные черты иберийских танцев, но и к тому, чтобы передать «веселье и радость, так свойственные подлинной народной пляске»[45].
Над этими балетами Фокин работал прежде всего как этнограф, применяя натуралистические методы для изучения ныне живущих народов. Имея дело с прошлым, он вел точно такие же исследования, тщательно разыскивая в библиотеках и музеях следы ушедших цивилизаций. Замысел «Дафниса и Хлои» возник из античного романа Лонга, замысел «Эвники» – из либретто, написанного по роману Генрика Сенкевича «Камо грядеши?»; «Шопениана» и «Карнавал» были вдохновлены эпизодами из жизни композиторов, их написавших[46]. Однако литература была лишь отправной точкой: в Танце трех египтянок из «Эвники» Фокин старался скопировать профильные положения и угловатость линий с древних фресок и барельефов. Он одел трио в облегающие туники и парики, соответствующие эпохе, велел покрыть тело темной краской и с помощью грима удлинить глаза для сходства с египетскими изображениями. Этот танец стал предшественником балета «Египетские ночи», поставленного в 1908 году и включенного под названием «Клеопатра» в парижский репертуар Русского балета год спустя. Профильные положения и плоские ладони сохранялись теперь на протяжении всего балета, а эффект угловатости пластики стал преобладать в расположении групп. В ходе постановки Фокин погрузился в изучение Древнего Египта и в свободное время забегал в Эрмитаж, где окружал себя посвященными Египту книгами. На постановку Танца со змеей, который он создал для Павловой, его вдохновила репродукция, найденная во время блужданий по музею. Для балета «Синий бог», поставленного для Русского балета в 1912 году, он занимался схожими исследованиями. В угловатых положениях рук и ног, ладонях, обращенных кверху, и согнутых пальцах танцовщиков отразилось влияние на Фокина индусской скульптуры.
Временами, однако, воображение заменяло в его методе «археологию». «Шехеразада», которая потрясла Париж в 1910-м, была полностью ориентальной фантазией. «Танцовщица с босыми ногами, – писал он позже, – танцующая главным образом руками и корпусом… как это было далеко от балетного Востока того времени!»[47] В равной степени созданными воображением были и «Половецкие пляски», поставленные для оперы Бородина «Князь Игорь» и показанные Дягилевым в 1909 году. При их подготовке Фокин оказался в затруднении. Его исследования ни к чему не привели: о древнем племени половцев достоверно ничего не было известно. После долгих размышлений и сомнений он начал сочинять: «Я верил, что если половцы танцевали и не так, то под оркестр Бородина они должны танцевать именно так»[48]. Фокин несколько преувеличил вклад своего воображения: его «Половецкие пляски» имели значительное сходство с созданным ранее дивертисментом в хореографии Льва Иванова, долгое время работавшего ассистентом балетмейстера у Петипа. (Николай Рерих, создававший оформление для постановки, в свою очередь столкнулся с проблемой поиска необычного стиля одежды: в его эскизах смешивались характерные черты якутских и киргизских национальных костюмов.)
Genre nouveau отличался от характерных танцев как верностью историческим источникам, так и яркой эмоциональностью. Но не только это отделяло его от предшественников. Неотъемлемым от фокинского этнографического метода было признание разнообразия народов и многоликости их культур – вера в то, что плюрализм будет править в лучшем из возможных миров. В противоположность этому, русский балет XIX столетия обладал одновременно имперским и империалистическим видением. В нем нашли законченное театральное выражение идея обширной и разрастающейся Российской империи и поддерживавшая ее идеология панславизма. Одной из постановок, которую Александр Бенуа в детстве смотрел «с неостывающим интересом», была «Роксана, краса Черногории». Впервые исполненная в 1878 году – лишь месяцы спустя после того, как русская армия освободила Черногорию от ненавистных турок, – она была «ознаменованием увлечения русского общества идеей освобождения славян на Балканах»[49]. Другой популярный балет, «Конек-Горбунок», противопоставлял русского крестьянина, ставшего царем, омерзительному распутному хану. Поставленный в 1864 году, когда генерал Черняев начал наступление на ханство в Туркестане, балет заканчивался грандиозным националистическим финалом. «В глубине сцены, – вспоминал Бенуа, – появлялся новгородский памятник тысячелетия России, а перед ним на сцене дефилировал марш из народностей, составляющих население Российского государства и пришедших поклониться Дураку, ставшему их властелином. Тут были и казаки, и карелы, и персы, и татары, и малороссы, и самоеды»[50]. Фокинский genre nouveau содержал собственный политический подтекст: это становится ясным из той яростной критики, которая появилась в 1911 году в реакционной газете «Новое время». Статья М. О. Меньшикова обличала Фокина как еврея (кем он в действительности не был) – а следовательно, как художника, которому чужда исконная российская культура. В качестве свидетельства автор привел постановку «Половецких плясок», где прославлялись варварские половцы, а не русские христианские воины[51].
До встречи с Александром Бенуа в 1907 году Фокин редко общался со своими будущими сотрудниками. Несмотря на это, родство между их произведениями было заметным. Хотя «краеугольным камнем “Мира искусства”» стал в общих чертах оформившийся символизм[52], художники, собравшиеся вокруг журнала, в своей программе провозглашали выход за пределы чистого эстетизма. Действительно, пусть даже они отрицали утилитаризм художников-реалистов, известных как передвижники, в творчестве дягилевских художников довоенной поры обнаруживалось влияние прежней школы: оно проявлялось в их очарованности национальными мотивами и в стремлении изображать сюжеты в их детальном соответствии месту и времени.
Как и Фокин, многие художники вступили в пору зрелости во время подъема неонационалистских настроений, охвативших Россию в конце столетия. Практически всех затронуло стремление оживить исконные формы искусства, а многие участвовали в объединениях художников, основанных Саввой Мамонтовым в Абрамцеве и княгиней Марией Тенишевой в Талашкине. Там возникли мастерские прикладных искусств в духе британского движения Arts and Crafts (Искусства и ремесла), где производились мебель, вышивка, игрушки и другие изделия русских народных промыслов, продававшиеся в Москве и Санкт-Петербурге. Обоим объединениям принадлежали обширные коллекции народного и древнеславянского искусства, уникальные собрания, вдохновлявшие художников на изучение легендарного и исторического прошлого. И в обоих сообществах художники, не удовлетворенные ограниченностью академического искусства, нашли себе конгениальное окружение, общество равновеликих единомышленников, совместно с которыми они могли вести исследования и творить.
Княгиня Тенишева, представительница Петербурга, ранее других установила отношения с будущими художниками дягилевского круга. В 1895–1899 годах Бенуа служил в качестве куратора ее коллекции живописи и графики, в то время как Иван Билибин начиная с 1898 года обучался в ее художественной студии под руководством Ильи Репина, величайшего из живущих представителей русского реализма. После 1893 года, когда она приобрела в собственность Талашкино, поместье стало местом летних встреч различных групп художников и интеллектуалов: среди тех, кто посещал Талашкино в 1890-е годы, были Федор Шаляпин, Александр Головин, Константин Коровин, Николай Рерих и Дмитрий Стеллецкий – все они впоследствии принимали участие в дягилевской театральной антрепризе. Более того, в 1898 и 1899 годах княгиня оказывала финансовую поддержку изданию «Мира искусства».
Вклад Тенишевой в предысторию Русского балета был значительным, но деятельность Мамонтова в этом смысле оказалась гораздо важнее: в оперной труппе, выросшей из любительских постановок в Абрамцеве в 1870-х и начале 1880-х, исследователи усматривают музыкальный и художественный прообраз первоначальных Русских сезонов Дягилева. В 1896–1899 годах Московская частная русская опера (так Мамонтов переименовал «Русскую частную оперу Кроткова», основанную им в 1885 году) стала центром провозглашения национализма в оперном искусстве: за этот недолгий период здесь были поставлены не менее одиннадцати произведений русских композиторов. Репертуар включал в себя оперы «Орлеанская дева» Чайковского, «Жизнь за царя» Глинки, «Юдифь» Александра Серова, «Аскольдова могила» Алексея Верстовского, однако в большинстве своем он состоял из произведений руководителя объединения «Могучая кучка»[53]. Николай Римский-Корсаков действительно занимал главенствующее положение в мамонтовской труппе – не только в Москве, где дирекция труппы располагалась в театре Солодовникова, как раз напротив Большого театра (один из примеров того, как географическое расположение оказывается символом положения художественного), но и в Санкт-Петербурге, куда труппа часто наносила визиты. В эти годы было представлено пять работ Римского-Корсакова: «Иван Грозный» («Псковитянка»), «Садко», «Снегурочка», «Майская ночь», «Моцарт и Сальери», – а также его редакции опер Мусоргского «Борис Годунов» и «Хованщина». Все оперы, за исключением «Снегурочки» и «Моцарта и Сальери», были впоследствии показаны Дягилевым, так же как и отдельные сцены из «Юдифи»[54]. Даже расширяя репертуар, Дягилев придерживался направления, заданного Мамонтовым. Так, наряду с «Русланом и Людмилой» Глинки, «отца русской оперы», был поставлен и «Князь Игорь» Бородина, также принадлежавшего к «Могучей кучке». Представляя публике Стравинского с его первым балетом «Жар-птица», написанным в 1910 году, Дягилев видел его в роли наследника неонационалистской короны Римского-Корсакова.
Музыка, однако, не была единственной сферой, в которой политика Мамонтова оказалась своеобразным прецедентом для Русского балета. Художники собирались в Абрамцеве на протяжении более двадцати лет, и с самого начала Мамонтов ориентировал их таланты на театральное дело. Цикл опер, поставленный его труппой в конце 1890-х годов, представлял целую плеяду художников из числа будущих сотрудников Дягилева. Крупнейшими из них были Константин Коровин, главный театральный художник Мамонтова, Александр Головин, Валентин Серов[55]. Подобно передвижникам, они избрали предметом своего искусства темы русской жизни и российского прошлого. Но, в отличие от предшественников-реалистов, они окружили этот материал аурой красоты, столь чуждой утилитаристскому духу прошлого поколения. Открытые западным веяниям, они использовали новые приемы, наполняли композиции движением и воплощали сюжеты с виртуозной техникой живописи и богатством цвета. В период с 1896 и до 1899 года, когда Мамонтов оказался под следствием по обвинению в растрате, его студия создала декорации и костюмы для более десятка опер. Несмотря на то что работы числились за отдельными художниками – Коровин был автором «Садко», Серов – «Юдифи», Михаил Врубель – «Моцарта и Сальери», – в действительности они были плодом совместного творчества. Речь идет не только об интенсивном взаимном обмене идеями: часто некоторые художники выступали как в качестве авторов эскизов (к примеру, Врубель создал костюм морской царевны для «Садко»), так и в роли мастеров, писавших декорации: позднее их стали отдельно обозначать в афишах. Такой метод совместной работы, как и практику использования художников-станковистов вместо профессиональных декораторов, Дягилев стал применять с первых дней.
Кроме того что работа Коровина, Головина и Серова предопределила подход Дягилева к технической стороне постановки, она также привнесла в его антрепризу русский дух. В 1908–1910 годах эти трое подготовили декорации, а в некоторых случаях и костюмы, для спектаклей «Борис Годунов» (Головин), «Пир» (Коровин), «Юдифь» (Серов), «Иван Грозный» (Головин), «Руслан и Людмила» (Коровин), «Ориенталии» (Коровин) и «Жар-птица» (Головин). В 1911 году Серов также создал просцениумный занавес в духе персидских миниатюр, который сопровождал увертюру Римского-Корсакова к «Шехеразаде», а двумя годами позже Головин оформил возобновление «Ивана Грозного». Все эти усилия были логическим продолжением неонационалистских настроений, шедших из Абрамцева, и стали точкой сближения со сходно мыслящими художниками из Петербурга – Билибиным, Стеллецким, Рерихом, Бакстом и Бенуа, – также участвовавшими в некоторых из постановок. Тем не менее «русскость» с самого начала не поддавалась строгому определению: она имела оттенок ориентализма, который был общим знаменателем для России и Востока в понимании Парижа. Даже в Абрамцеве между национальным материалом и экзотикой проходила очень тонкая грань. Действительно, для самых разных художников России конца XIX века Россия и Восток представлялись в воображении чем-то сходным. Для империи, через которую тянулась Транссибирская железная дорога и на чьей земле были Бухара, среднеазиатский священный город мусульман, Бахчисарай и Одесса, «иным» в культурном отношении был скорее не Восток, а Запад. Формирование представления о России как исторически и этнически незападной стране, ставшее ключевым элементом в идеологии довоенной дягилевской антрепризы, было еще одним из проявлений наследия Мамонтова[56].
Для Льва Бакста и Александра Бенуа, ведущих творческих фигур у Дягилева в предвоенный период, приверженность русской национальной тематике не была первостепенной. Они отвергали славянское наполнение неонационализма, сохраняя присущий ему эмпирический и исторический метод.
В случае с Бакстом его связь с передвижниками очевидна. Она возникла в середине 1880-х годов, когда, будучи студентом Петербургской академии художеств, он познакомился с Михаилом Нестеровым, Виктором Васнецовым и Валентином Серовым, художниками круга Абрамцева. Серов, который некоторое время учился в академии у Репина, стал близким другом Бакста. Работы последнего, выполненные в конце 1880-х – начале 1890-х, с такими названиями, как «Пьяный факельщик» («Бредущий с похорон»), «Отчаяние» («Самоубийца»), «Супруги» («Мезальянс»), продолжали передвижническую традицию верности социальной правде, совмещая в себе реалистическое изображение действительности с интересом к наиболее мрачным ее сторонам. В 1890-е годы Бакст постепенно отходил от этой эстетики. В этом, в частности, проявилось его знание новых тенденций в живописи, приобретенное в Париже, куда он часто ездил и где периодически жил до 1899 года. Не меньшее значение имел его возросший интерес к природе. Как Фокин несколько позднее, Бакст в это переходное для него десятилетие покинул студию, рисуя пейзажи с натуры, делая наброски сцен деревенской жизни или запечатлевая изменяющиеся картины неба, а также написал первые из целой серии замечательных портретов. В 1897 году, застав свою возлюбленную в объятиях другого, он уехал в Северную Африку, и это путешествие обозначило для него начало увлечения Ближним Востоком, колыбелью ориентализма, столь ярко представленного в его работах для Русского балета. Поездка десять лет спустя в Грецию и знакомство с греческой, арабской и тюркской культурами произвели на него столь же неизгладимое впечатление.
Тем не менее, как и у Фокина, в основе бакстовского воображения лежал интеллектуальный акт – историческая реконструкция времени и места. Задолго до того как он получил свой первый заказ у Дягилева, он применил свои энциклопедические знания об искусстве прошлого при создании более чем полудюжины постановок, главным образом в Императорских театрах. Работая над «Сердцем маркизы» (1902), своим первым театральным опытом, и «Феей кукол» (1903), он вдохновлялся европейскими стилями XIX века, в частности немецким стилем бидермейер, к которому обратился также в «Карнавале» (1910), «Видении Розы» (1911) и «Бабочках» (1914). При постановке «Ипполита» (1902), «Эдипа в Колоне» (1904) и «Антигоны» (1904), аттических трагедий или пьес на их основе, он не стал дополнять современные костюмы греческими деталями, что было тогда распространено в театральной практике, а вместо этого предложил реконструировать классические древнегреческие костюмы, как делал и позже – в балетах «Нарцисс» (1911), «Дафнис и Хлоя» (1912), «Послеполуденный отдых фавна» (1912). Его костюмы для «Саломеи» (1908) в исполнении Иды Рубинштейн были созданы в восточном духе, предвосхищая экзотику «Клеопатры» (1909), «Шехеразады» (1910), «Тамары» (1912) и «Легенды об Иосифе (1914). Как отмечал Чарльз Майер, в основе всех этих постановок лежали глубокие знания из разных сфер художественной культуры, обогащенные и личными наблюдениями – как те, которые художник приобрел в 1912 году за несколько недель пребывания на Кавказе, когда готовился к постановке «Тамары»[57]. Такое углубленное погружение в историю диктовалось не теоретическими устремлениями. Для Бакста, как и для Фокина, изображение реальности в свете вновь обретенного знания, а не в духе общепринятых условностей было актом нововведения и освобождения. Натурализм, очищенный от его прогрессистской идеологии, был шагом вперед, способом увидеть нечто радикально новое. Как и другие художники с периферии Европы, Бакст открыл для себя подлинную реальность намного позже, чем представители парижского центра.
Что касается Александра Бенуа, то он руководствовался в творчестве сходными убеждениями. Однако истоки стремления Бенуа, сына Петербурга и внука Парижа, к аутентичности лежали в более глубоком прошлом. В центре его одержимости прошлым были три исторических момента: grand siècle[58] Версаля, воплощение французской цивилизации эпохи классицизма; Петербург времен Петра, истинно римская экспансия на болотистые северные земли, осуществленная актом колоссальной воли; и готическая Центральная Европа, выписанная в сказках Гофмана. Для Бенуа искусство представляло собой акт, посредством которого настоящее осознает необходимость оживления прошлого. Он с маниакальным усердием рисовал Версаль и Петербург, словно мог, воссоздавая их памятники, воскресить породившие их цивилизации – но понимал, что картины, выражающие тоску по этим цивилизациям, лишь свидетельствуют об их гибели. Уже в самых первых театральных работах Бенуа прослеживается влияние его серьезных увлечений. В «Мести Купидона», поставленной в Эрмитажном театре одноактной опере, где Бенуа дебютировал в качестве театрального художника, он опирался на свое убедительное знание XVIII века. В показанной в 1903 году Мариинским театром «Гибели богов» он обращался к средневековому космосу вагнеровской древнегерманской мифологии. А когда в 1907 году Николай Дризен и Николай Евреинов выразили желание воссоздать театральные формы Средневековья и испанского золотого века, именно Бенуа выступал в качестве художественного и исторического консультанта их Старинного театра. В его трудах – как научных, так и публицистических, – равно как и в томах его выдающихся воспоминаний, память выступает объектом глубокого поклонения. Обрисованные в деталях события прошлого отправляют читателя в путешествие назад во времени. Весьма типично то, что журнал, который Бенуа издавал в 1907–1916 годах, носил почти прустовское название – «Старые годы»[59].
Бенуа, будучи пассеистом, нашел в лице романтика Фокина идеального товарища по работе. Хореограф писал об их первой встрече осенью 1907 года, которая привела в итоге к созданию «Павильона Армиды»:
Мы говорили о том, что нас обоих волнует, увлекает. Ушли в волшебный мир, в сады очаровательной Армиды. С первой встречи обозначилось то взаимопонимание, которое привело к стольким художественным радостям, к стольким победам.
Бенуа повел меня на мост под самый потолок. Голова кружилась и от высоты, и от радости. Под ногами у меня расстилалась декорация – роскошный павильон Армиды. Счастливый момент![60]
«Павильон Армиды» с оформлением в стиле рококо был по сердцу художнику. Он бесконечно суетился над костюмами а-ля Людовик XIV, подолгу подбирая цвета для тесьмы или кружевные вставки: успех работы в его понимании был неразрывно связан с воссозданием исторического колорита. Менее чем через четыре месяца Фокин и Бенуа работали вместе над постановкой Bal poudré, пантомимой в стиле арлекинады XVII века. За «Шопенианой» 1909 года, вызвавшей у них равный эмоциональный подъем, в 1911-м последовал «Петрушка», их четвертая совместная работа – и вторая постановка на тему комедии дель арте. Наполненные прустовскими деталями, оба балета в поисках утраченной чистоты взывали к прошлому: первый – посредством романтических литографий, второй – через призму воспоминаний. Как и Бакст, Бенуа видел в верности образам эпохи способ передачи эмоциональной и поэтической правды.
Защита Фокиным сценического реализма оказалась глубоко созвучной историческим устремлениям художников круга «Мира искусства». Более того, она, безусловно, ставила его работу в один ряд с новаторскими начинаниями в драматическом театре, и прежде всего с реформами Константина Станиславского в Московском Художественном театре. В «Русском театре от Империи до Советов» Марк Слоним говорит об «археологически-историческом реализме», ставшем известным благодаря прославленной труппе Станиславского, «одной из наиболее важных тенденций» из тех, что способствовали изменениям в русской театральной жизни начала XX столетия:
Станиславский применял один и тот же метод исследования и реконструкции во всех исторических пьесах, будь то «Венецианский купец» или «Юлий Цезарь». При постановке последней он поехал вместе с актерами в Рим и позже воссоздал на московской сцене узкие улочки, Форум и живописную южную толпу города Цезаря. Такое же путешествие труппа совершила на Кипр, когда готовилась к постановке «Отелло». Чтобы публика могла осознать, насколько серьезной была подготовительная работа, показ новых спектаклей сопровождался соответствующими выставками. Так, зрители, пришедшие на «Юлия Цезаря», могли ознакомиться в фойе с русскими переводами Шекспира и увидеть подлинные предметы римской эпохи – монеты, оружие, а также картины и гравюры[61].
Как и Фокин, Станиславский рассматривал стиль как создание исторической иллюзии, основанной на прямом наблюдении реальности, совмещенном с исторической реконструкцией.
Первый петербургский сезон Московского Художественного театра, основанного в 1898 году, состоялся тремя годами позже. Фокин был среди публики[62]. Таким образом, он открыл для себя ранние постановки Станиславского именно в ту пору, когда происходило его художественное становление и когда ему нужно было, по его собственному убеждению, искать новые способы творческой самореализации. Семья Фокина также была связана с театром. Его брат Владимир стал известным актером; другой брат, Александр, организовал Троицкий театр миниатюр (в котором его жена, солистка Мариинского театра Александра Федорова, появлялась как прима-балерина)[63]. Хотя Фокин не упоминает об этом, эпохальные постановки Станиславским пьес Ибсена и Чехова определенно оставили след в его юношеском воображении. Свойственные им артистизм и убедительное воспроизведение времени и места, должно быть, внушили ему представление о будущих возможностях, о той силе воздействия, которой может обладать искусство в его высшей форме. Эти постановки продемонстрировали образцы стилистического единства, построения драматического действия и психологической достоверности, нашедших отражение в раннем творчестве Фокина.
Между труппой Дягилева и Московским Художественным театром существовало множество связей, о которых редко упоминают в исследованиях по истории Русского балета.
Бенуа «любил наш театр, знал его», – писал Владимир Немирович-Данченко, вместе со Станиславским основавший знаменитую труппу. В 1909 году, на высшей точке сотрудничества с Дягилевым, Бенуа вступил в тесный союз со Станиславским, став художником и сорежиссером его театра. Он сыграл заметную роль в полемике, которая разразилась в 1910 году вокруг постановки «Братьев Карамазовых» Немировича-Данченко, и, по распоряжению Станиславского, участвовал в составлении открытого ответного письма наиболее суровому критику пьесы – Максиму Горькому. Два года спустя Бенуа присоединился к труппе не только в качестве художника, но и – в ряде случаев – сопостановщика[64].
Другой фигурой на пересечении интересов этих двух трупп был Александр Санин, покинувший Художественный театр в 1902 году. Санин был штатным режиссером Александринского театра и стал одним из первых, кто в Императорских театрах признал талант Фокина. В 1905 году, увидев балет «Ацис и Галатея», он попросил хореографа поставить танец шутов для драмы Алексея Константиновича Толстого «Смерть Иоанна Грозного», но эта просьба была отклонена Александром Крупенским: тот сказал Санину, что «не имеет права помимо конторы выбирать себе сотрудников»[65]. Санин в гневе покинул Александринский театр. Тем не менее в 1908 году Дягилев пригласил его руководить постановкой «Бориса Годунова», а еще через год – ставить для Парижа оперы «Иван Грозный», «Руслан и Людмила», «Юдифь», «Князь Игорь». В 1913 и 1914 годах, вновь обратившись к постановке опер, Дягилев снова позвал Санина, который подготовил спектакли «Борис Годунов», «Хованщина» и «Соловей» (последний вместе с Бенуа)[66].
Еще одним человеком на пересечении был Савва Мамонтов, чья жажда деятельности после возвращения из долговой тюрьмы – в отличие от его состояния – нисколько не уменьшилась. В 1905 году он объединил свои силы со Станиславским, став содиректором Театра-Студии, экспериментальной труппы, существовавшей при Московском Художественном театре. Под руководством Мамонтова к сотрудничеству с театром были привлечены художники, приверженные новым направлениям, – в частности, Николай Сапунов и Сергей Судейкин, ученики Коровина и Серова, присоединившихся к кругу мирискусников. В 1906 году Дягилев пригласил Судейкина в Париж в связи с организованной им в Осеннем салоне выставкой русской живописи. Через семь лет Судейкин оформил спектакль «Трагедия Саломеи» для Русского балета. Еще одним художником, близким к кругу мирискусников, который работал для труппы Дягилева после сотрудничества со Станиславским, был Мстислав Добужинский. В 1906 году он оформил «Горе от ума» для Художественного театра, а тремя годами позднее в постановке «Месяц в деревне» обратился к стилю бидермейер, который столь успешно будет использован Бакстом год спустя в постановке «Карнавала». (Влияние это не было полностью односторонним: так, Станиславский перенес действие пьесы Герхарта Гауптмана «Шлюк и Яу», поставленной в Театре-Студии в 1905 году, из средневековой Силезии во времена париков Людовика XIV – после того как посетил великолепную выставку портретов XVIII века, организованную Дягилевым в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге[67].)
Воздействие Художественного театра распространилось и на балет. В Большом театре влияние Станиславского имело значительные последствия, и началось оно почти одновременно с созданием Художественного театра в 1898 году – в тот год, когда из Мариинского театра пришел характерный танцовщик и подающий надежды хореограф Александр Горский. Возобновление им «Дон Кихота» в 1900 году было «не менее чем революционной реформой в балете», как писала историк балета Наталья Рославлева:
Влияние Художественного театра было особенно заметным в первом акте старого балета Минкуса. Вместо застывших линий кордебалета там появилась живая толпа людей, которые двигались и смеялись, продавая свои товары на базарной площади. Вместо традиционно-условных костюмов появились настоящие испанские платья[68].
Горский сформировал целое созвездие танцовщиков-актеров: Михаил Мордкин, Федор Козлов, Александр Волинин, Лаврентий Новиков, – все они впоследствии танцевали у Дягилева. Его открытием стала Софья Федорова, непревзойденная в главной роли половецкой девушки у Фокина. Станиславский, в свою очередь, приглашал Мордкина, чтобы тот обучал его актеров выразительной пластике.


