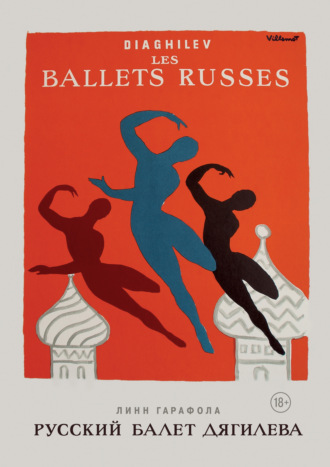
Линн Гарафола
Русский балет Дягилева
Как и в «Фавне», хореография была полностью оставлена Нижинскому. В конце сентября к нему присоединилась сестра, и вместе с другой танцовщицей, Александрой Василевской, они приступили к первым репетициям в Монте-Карло. Подобно «Фавну», «Игры» были экспериментом в области ритмизованного движения. Но если ранний балет использовал его как средство для достижения «очистительного» минимализма, то его последователь сделал ритмизованное движение стартовым моментом для построения изощренной конструкции. На этот раз двухплоскостные фризы открывали путь для скульптурных, трехмерных тел, от искусства Греции – к искусству Матисса, Сезанна, Гогена, Модильяни и Родена: альбомами с репродукциями их картин был буквально завален гостиничный номер Нижинского.
«Игры», как написала Нижинская, «предвосхищали рождение неоклассического балета»[158]. Многие па пришли из академического лексикона. При этом характерно, что они исполнялись скорее с параллельной работой стоп, чем через выворотные позиции, с руками, согнутыми в полукруг, со слегка сжатыми в кулак пальцами и загнутыми запястьями: Нижинская описывала это как новые движения и положения тела, свободные от правил классического танца. Другим истоком влияния был спорт. Grands jetés, которыми брат и сестра пересекают сцену, были исполнены с силой, по-спортивному, в то время как типичное движение этого балета – скользящие по телу взмахи рук в стороны и вверх – происходило как из гольфа, так и из тенниса. Последний стал навязчивой идеей Нижинского, и он часто отменял репетиции, чтобы посетить ближайший теннисный корт, где изучал не только пластику игроков, но и положения рук и кистей, держащих ракетки, – возможный источник согнутых локтей и собранных пальцев, которые можно увидеть на немногих сохранившихся фотографиях[159].
И еще одно влияние проникло в хореографию этого балета. Теории Эмиля Жак-Далькроза наверняка не были неизвестны Нижинскому, бесспорно посещавшему демонстрационные выступления учеников Далькроза в Петербурге начала 1911 года. В ноябре 1912 года вместе с Дягилевым он нанес первый из двух визитов в Институт Далькроза в Хеллерау. До этого времени, замечает Нижинская, ее брат «не передавал “графическим” движением каждую ноту и не считал вслух, как делал позднее, репетируя со всей труппой, когда он подпал под влияние системы Далькроза»[160]. Сам Далькроз никогда не претендовал на то, что эвритмия играет значительную роль в хореографии; он говорил, что его упражнения направлены только на развитие способностей, связанных с ритмом и координацией. Дягилев, всегда особо чувствительный к новому, в конце 1912 года, сомневаясь в том, что Нижинский справится с ритмическими сложностями «Весны священной», пригласил Мари Рамбер, преподавательницу Института Далькроза, присоединиться к труппе в качестве ассистентки Нижинского. Рамбер тесно сотрудничала с хореографом на протяжении 1913 года и, в отличие от Нижинской, находилась с ним в заключительный период репетиций «Игр», когда многое уже было сделано и когда, вероятнее всего, были добавлены ритмические причуды, вызвавшие раздражение Дебюсси после премьеры. Перси Инхем писал:
В системе Далькроза время показано движениями рук, а временные величины, т. е. длительность нот, движениями стоп и тела. На ранних этапах подготовки этот принцип ясно просматривается. Позже это может варьироваться различными способами, например, теми, которые известны как пластический контрапункт, где звучание нот представлено движениями рук, тогда как контрапункт в четвертях, восьмых и шестнадцатых дан при помощи стоп[161].
Дебюсси, увидев балет, в письме Роберу Годе резко отверг далькрозианскую «математику». Имея в виду Нижинского, композитор писал:
Этот парень складывал тридцать вторые своими ногами, подтверждая результат своими руками, и вдруг, как ударенный параличом, замирает и неодобрительно вслушивается в музыку. Это, как оказалось, называется «стилизация жестов». Как это ужасно! На самом деле – это далькрозовщина, и должен вам сказать, что я считаю мсье Далькроза одним из злейших врагов музыки! Можете себе представить, причиной какого разрушения в душе юного дикаря Нижинского стал его метод![162]
Подробности описания Дебюсси делают ясным силу воздействия – и далеко не всегда конструктивного – далькрозовских идей на хореографический метод Нижинского.
В «Играх» Нижинский продемонстрировал весь свой пыл авангардиста. Если замысел балета отдавал дань современному французскому искусству, то использованный в нем материал восходил к современным видам времяпрепровождения представителей высшего класса, предвосхищавшим основные тенденции 1920-х годов. То же произошло и с использованием материала классического танца – предвестника неоклассического возрождения следующего десятилетия. «Игры» также устремлены к les années folles[163]: как и во многих балетах 1920-х, их тема откровенно эротична.
В своем «Дневнике» Нижинский писал:
По сюжету в балете действуют трое молодых людей, которые любят друг друга. Дягилев, который любит похвалу и славу, охотно рассказывает, что этот балет – его произведение. Пусть он приписывает себе заслуги создания «Фавна» и «Игр», мне это все равно, я создавал эти два балета под влиянием «моей жизни» с Дягилевым. Фавн – это я, в то время как «Игры» показывают жизнь, о которой мечтал Дягилев: он хотел иметь двух возлюбленных мальчиков, заниматься с ними любовью и, в свою очередь, чтобы они это делали с ним. В моем балете две девушки заменяют мальчиков, а роль Дягилева исполняет молодой человек. Любовь между тремя мужчинами не может быть показана на сцене, и надо было поменять персонажей. Я бы хотел дать почувствовать всем отвращение, которое я испытывал к противоестественной любви, но не сумел завершить этот балет[164].
Публика была озадачена «Играми», но отвращения не испытала. Декорация Бакста в сочных зеленых, синих и пурпуровых тонах представляла парк по соседству с теннисной лужайкой в пору вечерних сумерек. Свет электрических фонарей пробивался сквозь летнюю листву. Потерянный мяч прокатывался по сцене. Появлялся молодой человек, ищущий этот мяч, к нему присоединялись две девушки в белых костюмах для игры в теннис:
Мяч забыт, юноша сначала флиртует с одной из девушек, потом с другой. Первая ревнует. Пока молодой человек колеблется, за кем продолжать ухаживать, девушки начинают утешать друг друга ласками. Герой решает – чем терять одну из подруг, лучше ухаживать за обеими сразу. Откуда-то в сад бросают второй теннисный мяч, и, испугавшись, девушки весело убегают. В эмоциональном плане Нижинский сделал несомненный шаг вперед[165].
Как и «Фавн», «Игры» основывались на фантазиях, связанных с соблазном. Исполнители на сцене флиртовали, заключали друг друга в объятия, разбивались на пары, менялись партнерами, танцевали для других, пристально наблюдали друг за другом, ласкали самих себя. Нижинский говорил Дебюсси, что «он представлял себе случай из современной жизни, спорт и дух современной молодежи – “les jeux de sport, les jeux de l’amour”[166]»[167]. Но «Игры» воплощают в себе нечто значительно большее, чем повествование о любовных играх или даже о любви как спортивном состязании. Мимолетный, неустойчивый выбор партнеров, подглядывание за ласками, предваряющими эротические сцены, и навязчивая самопоглощенность делают этот балет историей о всеподавляющем желании и уклонении от проблем, сопровождающих сексуальные отношения.
В центре постановки находится Юноша, вокруг которого, как мотыльки, слетевшиеся к световому пятну (один из образов, вдохновивший на сочинение балета), кружат по символическим орбитам юные девушки. Как время (сумерки), так и место (укромный уголок сада) усиливают эротические ожидания протагониста. И все-таки для героя он выглядит странно неуверенным в себе, так как все, что происходит, никогда не оказывается результатом его собственных усилий, его действия инициируются самыми разными объектами: мячом, который привел его в сад; вторым мячом, положившим конец его играм; женщинами, которые следовали за ним, привлекали его и настаивали на отношениях с ним.
На протяжении всего балета объединение сменяется разъединением, привязанность – отчуждением, каждая короткая встреча неизбежно ведет к своей противоположности – замкнутости самоуединения. Действие вновь и вновь возвращается к страстно жаждущей самости индивида, стоящего поодаль и наблюдающего за другой парой, прикасаясь при этом к той или иной интимной части своего тела – груди, талии, промежности, шеи. Даже когда они в парах – смешанных или одного пола – или свиты в тройном объятии, их взгляды отведены друг от друга, как если бы секс был разведен не только с чувствами, но и вообще с пониманием присутствия другого человеческого существа, и под пристальным взглядом это была бы просто форма самоудовлетворения. Конечно, в «Фавне» финальный жест являл это с дерзновенной прямотой. Но там женщины были, по существу, лишь проекцией эротических фантазий Фавна, в «Играх» же они предстали зеркальным отражением сложной сексуальной сущности протагониста. Можно допустить и логическое завершение этой мысли: если его неуверенность обрядила мужское начало в женские одежды, то их сила и энергия обрядили женственность в мужские одежды. Но эти женщины оказываются «мужчинами» в совершенно особом смысле: сексуальное уравнивание представляет их как сапфических женщин или мужчин «третьего пола». Их заигрывания интригуют Юношу (на одной из пастелей Валентины Гюго он изображен стоящим в стороне и внимательно наблюдающим за ними), и в то же время это возбуждает в нем ревность, и единственное решительное действие, которое он решается предпринять в балете, – положить всему этому конец. Если в начале он колебался в выборе одной из маскулинизированных женщин, то сейчас, в облике феминизированного мужчины, он предпочел их обеих. Но это решение приводит к еще большему напряжению, и, как в «Фавне», когда приближается завершающий момент, Нижинский использует объект, чтобы отвратить природу от естественного хода вещей. На этот раз его deus ex machina[168] стал случайно залетевший мяч. Испугав партнерш Юноши по игре, он спасает его желание, воскрешая в воображении замещающий объект – индивидуальные фантазии. «Игры», вторая глава эротической автобиографии Нижинского, обнаруживает – и не менее убедительно, чем «Фавн», – силу желания, двойственность сексуальной сущности и его отвращение к самим половым сношениям.
С постановкой «Весны священной» период взросления в творчестве Нижинского закончился. Он больше не использовал собственную личность в качестве субъекта своих постановок, а индивидуальные фантазии – в качестве темы для них. Пожертвовав личным, он выдвинул в центр внимания социальное – то, что отсутствовало в его прежних балетах: «Весна священная» представляла собой огромное человеческое полотно, изображение первобытного человека и его первобытного племени – и человеческого жертвоприношения, необходимого для непрерывности их существования. «Весна священная» врезалась в сознание общества своего времени сильнее, чем все прочие постановки Дягилева. Она была показана всего девять раз (включая répétition générale[169]), но эти показы сразу же сделали балет легендой. Его премьера 29 мая 1913 года стала поводом для шумной демонстрации, которая могла бы напомнить о скандале вековой давности с «Эрнани» Виктора Гюго и о том, как публика приняла вагнеровского «Тангейзера» в 1861 году. Одна изящная леди дала пощечину своему свистевшему соседу; другая назвала Равеля «грязным жидом»; отовсюду доносился свист; один композитор кричал «девкам» из шестнадцатого округа, где проживало большинство владельцев лож, посещавших спектакли Дягилева, чтобы они «заткнулись»[170]. Как своей музыкой, так и хореографией «Весна священная» порывала с Belle Époque. Не многие из представителей светской публики того времени были готовы сделать то же самое.
По иронии судьбы, произведение, вошедшее в историю искусства как символ модернизма, было порождением одного из художественных порывов XIX века – неорусского восхищения мифологическим прошлым России. Идея этого балета пришла Стравинскому весной 1910 года, когда он заканчивал работу над «Жар-птицей». «Я мечтал о картине языческого ритуала, в которой избранная для жертвоприношения дева затанцевала бы себя до смерти». Почти сразу же его мысли обратились к художнику, который в итоге создал декорации для балета. «Я хотел сочинить либретто вместе с Н[иколаем] Рерихом, – писал он в 1912 году редактору “Русской газеты” Николаю Финдейзену, – ибо кто еще смог бы мне помочь, кто лучше его знает тайну трепетного отношения наших предков к земле?»[171] В 1909 году Рерих оформил для Дягилева «Половецкие пляски» и «Ивана Грозного». Но еще задолго до этого он проявлял неподдельный интерес к этнографии и сравнительной мифологии. С начала 1890-х годов он принимал участие в археологических экспедициях в старинные русские города и вел научное исследование на тему искусства и религиозных ритуалов древних славян. Знания, не вошедшие в научные работы, нашли свое выражение в его живописи – в цикле «Начало Руси», представленном на выставке «Мира искусства» 1902 года в Москве, и созданных в конце того же десятилетия пейзажах старого Пскова, воссоздававших прошлое в духе магического реализма. В начале 1900-го он вошел в круг художников в Талашкине, где по его эскизам изготовлялась мебель в крестьянском стиле для ремесленной мастерской княгини Тенишевой, а стены в ее церкви были расписаны его фресками. В Талашкине была богатая коллекция крестьянских предметов быта и народных костюмов, а также вышивальная мастерская; и можно представить, как, встретившись в поместье в июле 1911 года, Стравинский и Рерих тщательно изучили их, чтобы составить «план действия и придумать названия танцев» для балета, который первоначально назывался «Великое жертвоприношение». Поездка пробудила воображение Стравинского. 26 сентября он писал Рериху из Швейцарии:
Я уже начал сочинять и, будучи в пылу и возбуждении, набросал вступление для дудок и «Гадания с прутьями». Музыка получается очень свежая и новая. У меня из головы не выходит картинка старухи в беличьих шкурках. Она все время стоит перед глазами, когда я пишу «Гадание с прутьями». Я вижу, как она бежит впереди группы, временами останавливая ее и прерывая ритмический поток. Я убежден, что действие должно быть протанцовано, а не показано пантомимой, поэтому я соединил «Танец девушек» и «Гадание с прутьями» – получилась гладкая связка, которой я очень доволен[172].
Для Стравинского, не меньше чем для Рериха, этнография была путем к творчеству. «Совершенно необходимо, чтобы мы свиделись, – писал он художнику накануне их встречи в Талашкине, – и договорились о каждой детали: особенно это касается постановки – нашего детища»[173]. Либретто, набросанное в ходе этого визита, облачило мечты композитора в богатые одеяния славянских мифов. Действие, как он писал Финдейзену, приобрело приблизительно такой вид:
Первая часть. «Поцелуй Земли». Эта часть содержит древние славянские танцы. «Радость весны». Оркестровое вступление – множество весенних дудок.
После этого, когда занавес поднимается, гадания, танцевальные игры, игра в похищение, танцевальная игра города на город – все это прерывается процессией «Старейшего-Мудрейшего», старца, который целует землю. Первая часть оканчивается тем, что люди, опьяненные весной, предаются диким пляскам на земле.
Вторая часть. Тайные ночные игры молодых девушек на священном холме. Одна из них жребием выбирается для жертвоприношения. Она входит в каменный лабиринт, а остальные девушки прославляют ее в диком и воинственном танце. Приходят старцы, и один, избранный, остается с ними и танцует с девушкой ее последний Священный Танец, «Великое Жертвоприношение» – это название Второй части. Старцы наблюдают за ее последним танцем, который заканчивается смертью приговоренной[174].
Этнография послужила основой для создания не только либретто, но и – не в меньшей мере – для написания музыки. Хотя Стравинский неоднократно отрицал это, «Весна священная» была «собрана, – как писал музыковед Ричард Тарускин, – из множества народных мелодий»[175]. Весенние гадания, Ритуал умыкания невест и весенние хороводы, как и вступление к первой части, заимствовали свой материал из огромной антологии литовских народных песен, собранной польским священником Антоном Юшкевичем. Другие мелодии происходили из «100 русских песен» Римского-Корсакова – собрания, опубликованного в 1877 году. Какие-то из мелодий, видимо, были зафиксированы самим Стравинским или в Талашкине, где он записал несколько народных песен со слов певца и гусляра С. П. Колосова, или в Устилуге, семейном имении на Украине, где композитор проводил каждое лето до 1914 года. Большинство из этих мелодий, замечает Тарускин, принадлежит к типу, который этнографы обозначают как «песни обрядные», то есть культовые или ритуальные. Связанные с христианскими праздниками и проводимыми в них ритуалами, они восходили к языческим временам и древним обрядам солярного культа. Так, хоровод «Ну-ка, кумушка, мы покумимся» из книги Римского-Корсакова ассоциировался с народным праздником «семик», который отмечали в четверг седьмой недели после первого весеннего полнолуния. «Обычаи и обряды Зеленой недели связаны с древним культом урожая и культом предков», – писала Татьяна Попова, которая устанавливает связь между мелодией и гаданиями, мелодией и хороводом. Тарускин отмечает: «Точное соответствие всего этого сценарию первой части “Весны священной”, и в особенности “Весенних хороводов”, очевидно»[176].
Стравинский конечно же был не первым из русских композиторов, кто использовал в творчестве фольклорный материал. Но, в отличие от Чайковского и Римского-Корсакова, которые обрабатывали свои заимствования в стиле европейской музыки, Стравинский «искал в народных песнях что-то более фундаментальное для своего музыкального языка и техники, используя их как часть собственного освобождения от той основной художественной тенденции – и даже, как оказалось, от ее полного ниспровержения»[177]. В «Весне священной» композитор абстрагировал фольклорный материал до такой степени, что его источник перестал быть различимым. Тарусин писал:
Открытия, которые я сделал по записной книжке Стравинского, особенно интересны, потому что обнаруживают лежащее в основе музыки присутствие народных мелодий, которые… не «отображены» в конечном продукте, но вплетены Стравинским в музыкальную ткань в такой мере, что, не заглядывая в его записные книжки, их присутствие невозможно было бы заподозрить. Иными словами, чтение записных книжек впервые позволяет нам быть свидетелями… обобщения стилистических элементов народной музыки, которое стало таким ярким поворотным моментом в развитии Стравинского как композитора[178].
Радикальный подход Стравинского к фольклорному материалу не отразился на декорациях Рериха. В них соблюдались принципы сценического натурализма, которые, как правило, вдохновляли сотрудников Дягилева в довоенные годы, вызывая к жизни изначальный мир через осколки древних цивилизаций и сохранившиеся предметы крестьянских ремесел. Костюмы представляли собой праздничные крестьянские одеяния – просторные рубахи из грубой шерсти, с узорами, напоминавшими традиционную вышивку. Подчеркнуто декоративные, эти узоры содержали множество эзотерических аллюзий, которые, принимая во внимание тему балета и вечный интерес Рериха к иконографии и системам ритуальных обозначений, трудно назвать неожиданными. Верховное божество «Весны священной» – Ярило, древнеславянский бог солнца. Ему в конце приносится в жертву Избранница, и к его культу очевидно относятся многие из мотивов, встречающихся в узорах на костюмах. Костюм Александра Гаврилова, писала Миллисент Ходсон, «был примечателен символами, расположенными на кайме: они похожи на лесенки, по которым катятся колеса, и все это может обозначать деревянные колеса, обвитые сухими прутьями, помещенные поверх лестниц или шестов, – их поджигают, чтобы восславить возвращение солнца»[179]. Подобранные Рерихом цвета – оранжевый для лесенки и колеса, темный аквамарин для промежутков между ступенями, – подтверждают трактовку этих символов как огненных колес. Те же цвета, отмечает исследовательница, появляются на рукаве силуэта, который может изображать Ярило. Наряду с символами огненного колеса по краям Рерих разместил на костюмах концентрические круги с расходящимися от них дугами и незамкнутыми окружностями. Этот мотив, по наблюдениям Ходсон, был перенесен и в хореографию: во втором акте девушка, избранная для жертвоприношения, стоит посреди круга молодых женщин, вокруг которого начинают сходиться старцы. Исследования Ходсон выявили и многие другие соответствия между костюмами и партерным рисунком, заставившие ее предположить, что Нижинский, который, по всей видимости, ждал появления декораций и костюмов Рериха, прежде чем начать постановку ансамблевых номеров, стремился сохранить целостность символики, характерной для ритуального искусства.
Хотя, как признает Ходсон, «вряд ли возможно доказать какую-либо связь между костюмами танцовщиков и их пластикой»[180], живопись Рериха все же внесла свой вклад в создание балета – если и не собственно хореографии, то духа, который в ней был. Нижинский объяснял сестре, для которой ставил роль Избранницы:
Теперь, когда я работаю над «Весной священной», искусство Рериха вдохновляет меня не менее, чем мощная музыка Стравинского – его картины «Идолы», «Дочери земли» и особенно картина, кажется, названная «Зов солнца». Помнишь ее, Броня?.. Предрассветный мрак, окутывающий пустынный пейзаж в фиолетовых и пурпурных тонах, одинокий луч солнца, освещающий группу людей, собравшихся на верху холма в ожидании прихода весны. Рерих много рассказывал мне о цикле картин, где он показывает пробуждение души первобытного человека. В «Весне священной» я тоже хочу воскресить дух древних славян[181].
Две декорации, подготовленные Рерихом для балета, – первая в виде холмистого пейзажа с озером и березами под облачным небом, вторая в виде вершины холма, – выполнены в том же духе магического реализма, что и упомянутый цикл его картин. Гора, возвышающаяся на заднике в первой картине, устанавливает визуальный мотив: полусферу, округлая форма которой повторяется в изображениях кустарников, скал и небольших возвышенностей, окружающих «священный холм». В его основании лежит полукруглое озеро: именно там племя собирается, чтобы проводить весенние обряды. Эта картина несет в себе – в повторах и плавности холмов – магическое воздействие, соединенное с точностью деталей, предстающих во всей их символической простоте: здесь есть и священный камень (красноватая скала), и священные березы (белые стволы под темными кронами), и священная гора. Декорации ко второй картине еще больше сужают перспективу: теперь под широким славянским небом видны лишь «заклятые камни» и магический жертвенный холм[182]. Ни насилие, ни иные черты современного мира не нарушают этот первобытный рай. Здесь царят чистота и гармония: в мире с богами, племенем, природой и самим собой, посредством воссозданного ритуала человек возвращается к духовной целостности. Этого конечно же не было в партитуре Стравинского – не было этого и в хореографии Нижинского. Роджер Фрай, английский художественный критик, был среди тех, кого поразило «расхождение» между «крайне оригинальным и формализованным стилем танца в «Весне священной» и сильно устаревшим романтизмом декораций Рериха». Было очевидно, писал он, «что и хореография, и музыка были на шаг впереди театральных художников, что они пришли к идее формального единства, которая требовала чего-то более логически продуманного, чем обычный декоративно-изобразительный подход к декорациям»[183]. В «Весне священной» неонациональное видение Рериха в полной мере было превзойдено примитивизмом, который использовали двое его соавторов.
Рерих поместил свою картину первобытного мира в воссозданное прошлое. Для Стравинского же, как и для Нижинского, это прошлое было лишь метафорой, средством для того, чтобы передать трагедию современного бытия. «Весна священная» раскрывала дикость человеческой жизни: жестокость природы, дикие нравы племени, безжалостность души. Она представляла сообщество людей как дамоклов меч, нависший над индивидуальностью, а судьбу – могущественную, атавистическую, отчужденную – как двигатель безбожной вселенной. Ко всему прочему, она показывала образ общества, где правит инстинкт, грубый инстинкт Эроса в его фрейдистском обличье – неразрывно соединенный с Танатосом. Это трагическое видение, выставляющее напоказ тьму души, привело композитора и хореографа к освоению неизведанных художественных пространств. Нижинский писал Стравинскому 25 января 1913 года:
Я очень рад тому, как все обернулось. Если работа пойдет так и дальше, Игорь, то получится нечто необыкновенное. Я знаю, какой будет «Весна священная», если все выйдет так, как мы оба хотим: это будет новое, и – для обычного зрителя – потрясающее впечатление и эмоциональный опыт. Для кого-то она откроет новые горизонты, залитые необыкновенными лучами солнца. Люди увидят новые, особенные цвета и линии. Все необычное, новое и прекрасное[184].
В руках Нижинского этнография превратилась в сырье для грандиозного модернистского замысла. Как и Стравинский, он собирал обрядовый и фольклорный материал и строил из него последовательность ниспровергающих традиционную эстетику образов. Танцовщики дрожали, тряслись, трепетали, топали ногами; резко и свирепо прыгали, кружили по сцене в диких хороводах. Временами движение переходило в непроизвольное состояние транса. «В первой картине, – писала Лидия Соколова, танцевавшая в этом балете, – была группа старцев с длинными бородами и волосами, которые жались друг к другу, дрожа и трепеща, словно они умирали от страха». В другие моменты «стихийное человеческое движение» наводняло сцену, где торжествовала анархия[185]. «Весна священная» довершила начатый Фокиным разрыв с классицизмом; она разрушила баланс, существовавший между его группами и тем, что Линкольн Керстин назвал «магией элегантной акробатики в самозарождающемся движении»[186]. Вместо этого Нижинский смоделировал биологический порядок, в котором человеческое тело становилось одновременно и орудием, и жертвой массового угнетения.
Так же как в «Играх» и «Фавне», Нижинский по-новому представил тело человека. В «Весне священной» позиции и жесты направлены вовнутрь. «Движение, – писал Жак Ривьер в “Нувель ревю франсез”, – замыкается вокруг эмоции; оно сковывает и содержит ее… Тело больше не выступает средством побега для души; наоборот, оно собирается вокруг нее, сдерживает ее выход вовне – и самим своим сопротивлением, оказываемым душе, тело становится полностью пропитанным ею…» Романтическое больше не преобладает в этой заключенной душе: прикованный к телу, дух становится чистой материей. В «Весне священной» Нижинский изгнал из балета идеализм, а вместе с ним – индивидуализм, связанный с романтической идеологией. «Он берет своих танцовщиков, – писал Ривьер, – переделывает их руки, скручивая их; он сломал бы их, если бы мог; он безжалостно и грубо колотит их тела, будто это безжизненные предметы; он требует от них невозможных движений и поз, в которых они кажутся искалеченными»[187]. В руках Нижинского замысел приобрел тоталитарную окраску. Фокинское сообщество превратилось теперь в общество, состоящее из масс, а его множество индивидуальностей – в коллектив запрограммированных особей. С самого начала Стравинский отклонил возможность использования пантомимы. Нижинский, в свою очередь, свел характеры к нескольким кратко обрисованным фигурам – старцам, девам, шаманам, отрокам, лишенным конкретных исторических черт. Примечательно, что только Избранница танцевала одна. Все остальные, как говорил Керстин, выстраивались в «кинетические блоки, сцементированные интервалами длящегося действия». В конце первой картины, вспоминала Ромола Нижинская, женщины в алых одеждах неслись в диком беге большими кругами, в то время как движущиеся массы внутри их бесконечно разбивались на небольшие группы, вращавшиеся вокруг своих собственных осей. Вторая картина, жертвоприношение Избранницы, вновь затрагивала темы социальной массы и разрушенного порядка. В начале этой сцены, писала Соколова:
Все танцовщицы стояли широким кругом, лицами наружу, а Избранница находилась внутри круга, у всех нас были носки вовнутрь, правый локоть опирался на левый кулак, а правый кулак поддерживал голову, наклоненную набок. Когда круг начинал вращаться, на определенные доли все поднимались на полупальцы, опуская правые руки и резко склоняя головы налево. Когда один круг по сцене завершался, одна из девушек, каждый раз другая, выпрыгивала из круга, а затем возвращалась обратно[188].
По мнению Ривьера, обезличенная толпа Нижинского была ключом к пониманию примитивизма «Весны священной»:
Мы присутствовали при движениях человека в то время, когда он еще не существовал как индивидуальность. Живые существа по-прежнему держатся друг за друга; они существуют в группах, колониях, в толпах; теряются в ужасном безразличии общества… Их лица лишены всякой индивидуальности. Ни разу за все время танца Избранница не показывает своего личного страха, который, должно быть, наполняет в это время ее душу. Она исполняет ритуал; она поглощена общественной функцией, и, не выказывая ни одного знака понимания происходящего, движется, будто ведомая желаниями и импульсами некоего существа, большего, чем она сама[189].
Этой первобытной вселенной руководит Молох, вернувшийся из «глубины веков», чтобы пожрать своих детей, – божество низменное, лишенное духа, это след, как и сама «Весна священная», человека на «самом его примитивном этапе», еще до зарождения мысли и сознания. Но насколько этот балет обращался в прошлое, к истокам человеческой жизни, настолько же – и этот шаг не был сделан Ривьером в исследованиях – он смотрел и в будущее: предрекал войну, в которой высвободилось зло, накопившееся в душах людей, и общество, где правит государственная машина. В этом смысле «Весна священная» оказалась предвестницей современности, ее конвейеров и масс, военных машин и уничтоженных городов вместе с невинными жителями. Если не учитывать костюмы, массы Нижинского олицетворяли одновременно и деятелей, и жертвы варварства XX века.


