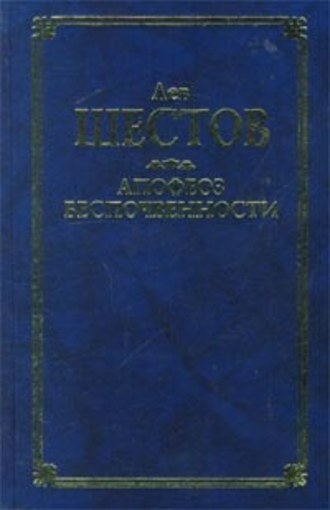
Лев Исаакович Шестов
Киргегард и экзистенциальная философия
IX. Знание как падение
Если мне дозволено высказать свое пожелание, я бы пожелал, чтоб никто из читателей не вздумал проявлять свое глубокомыслие, предлагая вопрос: что было бы, если бы Адам не согрешил.
Киргегард
Чтоб простить грех, нужна власть, так же, как нужна власть, чтоб вернуть силы расслабленному. Естественный разум говорит, что и то и другое равно невозможно, невозможно не только для человека, но и для высшего существа: Зевс, опять напомню, сам открыл эту тайну Хризиппу – или, вернее, и Хризипп, и Зевс получили откровение об этой последней тайне бытия из одного вечного, неиссякаемого источника всех истин. Говоря словами Бонавентуры, истина Хризиппа и Зевса находится не в худшем положении, чем все другие истины: если бы кто вздумал нападать на нее, ссылаясь на разум, то ее можно, ссылаясь на разум, и отстоять. Не так обстоит дело с истиной, на которую в Евангелии претендует Иисус: все разумные доводы – против нее, а за нее не приведешь ни одного. Она про себя, как Киргегард про себя, принуждена сказать, что она лишена покровительства законов. Или, переводя на простой язык: ни у Иисуса из Назарета и вообще ни у кого в мире нет власти прощать грех, как тоже нет власти возвращать силы расслабленному. Разум ргоprio motu, ни у кого не справляясь и ни у кого не запрашивая, провозгласил эту истину, – ни у кого, еще раз повторяю и настаиваю, не спрашивая: ни у людей, ни у богов, хотят они этой истины или не хотят. Он и сам эту истину провозгласил не потому, что он ее хотел, чтоб он ее ценил или она ему была нужна. Просто провозгласил не допускающим возражения тоном, и эта истина стала хозяйничать в жизни, и все живые существа с тайным вздохом (сам Зевс вздыхал, исповедуясь Хризиппу в своей беспомощности) покорились ей.
Почему покорились? Откуда у разума власть навязывать бытию свои истины – ему самому ни на что не нужные и для бытия ненавистные, порой совершенно невыносимые? Такого вопроса никто не ставит – ни люди, ни боги, по крайней мере боги просвещенного язычества, равно как и Бог просвещенного христианства. Это ведь было бы тяжким оскорблением разума, величия разума, тем læsio majestatis, от которого нас предостерегал глубокомысленный Спиноза. Пелагианцы отчаянно отстаивали мораль, чтоб осуществить свой идеал homo, emancipatus a Deo.[96] Умозрительная философия не менее страстно рвется и к ratio, emancipata a Deo, и для нее только та истина есть истина, которой удалось освободиться от Бога. Когда Лейбниц с таким торжеством возвещал, что вечные истины живут в разумении Бога независимо от Его воли, он только открыто подтверждал то, чем питалась средневековая философия и что средневековая философия унаследовала от греков: все усилия человеческого ума всегда направлялись к тому, чтоб добыть себе veritates emancipatæ a Deo. Разум диктует законы, какие ему вздумается диктовать или, вернее, какие он в силу своей природы диктовать принужден. У него ведь тоже нет свободы в выборе, он ведь тоже, если бы и захотел, не мог отдать людям мир не в подержание, а в полную собственность. Но он и сам не спрашивает, зачем и для чего он диктует законы, и другим спрашивать не дает об этом. Так есть, так было, так всегда будет. Судьбы человеческие, судьбы вселенной предрешены in sæcula sæculorum, и ничто в извечно предрешенном не может и не должно быть изменено. Бытие заворожено какой-то безличной и безразличной властью, и стряхнуть с себя колдовские чары ему не дано. Философия же, всегда гордо утверждавшая, что она ищет начал, источников, корней всего – ριζώματα πάντων, и не допытывается, что это за сила, которой удалось заворожить мир, и «просто» признает ее и радуется тому, что ей удается «обличить невидимое». Даже «Критика чистого разума» останавливается у этой черты, вполне, очевидно, разделяя мудрое прозрение Аристотеля, что неумение вовремя прекратить свои вопрошания свидетельствует о человеческой невоспитанности.
Только в Библии есть указание, что с разумом и приносимыми им вечными истинами не все обстоит благополучно. Бог предупреждал человека против познания: смертию умрешь. Но разве – это есть возражение против знания? Разве так можно оспаривать знание? Бонавентуры в Эдеме не было, не было тогда еще и умозрительной философии. По-видимому, для первого человека слова Бога действительно являлись возражением и, по своему почину, по своей воле он не простер бы руки к запретному дереву. Для неведения «законом» были слова, впоследствии возвещенные пророком и повторенные апостолом: justus ex fide vivit. Вера ведет к дереву жизни, от дерева же жизни идет не знание, не умозрительная философия, а философия экзистенциальная. Потребовалось, по Книге Бытия, вмешательство змея, чтоб первый человек сделал роковой шаг: обессиленный таинственными чарами, он отдался во власть истин разума, veritates emancipatæ a Deo и променял плоды с дерева жизни на плоды с дерева познания.
Киргегард не решается принять рассказ Книги Бытия о падении первого человека без оговорок и поправок. Он отводит библейского змея, он не может допустить, что неведение первого человека открывало ему истину и что знание добра и зла заключает в себе грех. Но ведь тот же Киргегард говорил нам, что грех есть обморок свободы, что противоположное понятие греху есть не добродетель, а свобода (или – он и это говорит – противоположное понятие греху и есть вера), и что свобода не есть, как обычно думают, возможность выбора между добром и злом – а возможность и, наконец: Бог значит, что все возможно. Как же вышло, что человек все же променял свободу на грех, отказался от безграничных возможностей, предоставленных ему Богом, и принял те ограниченные возможности, которые ему предложил разум? На этот вопрос Киргегард не отвечает – но он ставит его, хотя совсем в иной форме. «Если мне дозволено высказать свое пожелание, я бы пожелал, чтоб никто из читателей не вздумал проявлять свое глубокомыслие, предлагая вопрос: что было бы, если бы Адам не согрешил? В тот момент, как полагается, действительность, возможность отходит в сторону как некое ничто, и это соблазняет всех не любящих думать людей. И почему такая наука (пожалуй, лучше было сказать знание!) не может решиться держать людей в узде и понять, что ей самой положены пределы! Но когда вам предлагают глупый вопрос – берегитесь отвечать на него: станете таким же глупцом, как и вопрошающий. Нелепость этого вопроса не столько в нем самом, сколько в том, что его обращают к науке». Спорить не приходится: к науке с таким вопросом обращаться нельзя. Для науки действительность кладет навсегда конец возможности. Но следует ли из этого, что его вообще не полагается ставить? И что сам Киргегард не поставил его – если не explicite, то implicite? Когда он предлагал нам забыть о змее-искусителе, не ответил ли он этим на вопрос, который он теперь возбраняет ставить? И ответил от имени науки, которая естественно в библейском повествовании о змее принуждена признать ни на что не нужную и притом чисто внешнюю, ребяческую фантастику. Отклоняя змея, Киргегард, очевидно, поколебался пред лицом каких-то разумных, эмансипировавшихся от Бога – а то и даже несотворенных, вечных истин. А меж тем тут, именно тут больше чем когда-нибудь следовало бы ему вспомнить загадочные слова: «блажен, кто не соблазнится обо мне», о которых он так часто сам нам напоминает. И в самом деле, какой соблазн для разумного мышления представляет из себя библейский змей! Но ведь не меньше соблазна и во всем повествовании Библии о первородном грехе. Падение первого человека, как оно изображено в Св. Писании, совершенно несовместимо с нашими представлениями о возможном и должном, ничуть не меньше, чем разговаривающий с человеком и искушающий его змей. Сколько бы нас ни убеждали в истинности библейского повествования – все убеждения должны разбиться о логику здравого смысла. Если все-таки в этом рассказе заключается «истина», то бесспорно ее никак не защитить такими доводами, какими ее подорвать можно. Так что если истина веры, как и истина знания, держится только возможностью разумной защиты, то та глава Книги Бытия, в которой рассказывается о падении первого человека, должна быть стерта со страниц Св. Писания. Не то что глупо спрашивать, что было бы, если бы Адам и Ева не поддались искушению змея и не сорвали бы запретных плодов, можно с уверенностью утверждать, что прародители наши никогда не поддавались искушению, что змей их никогда не искушал, и даже того больше – что плоды с дерева познания не вреднее и опаснее, а скорей были полезнее и нужнее, чем плоды от других деревьев Эдема. Словом, если полагаться на собственную догадливость и проницательность, то, придется принять, что грех начался с чего-то, что вовсе и не похоже на то, что нам об Адаме и Еве рассказывали, что он начался даже не с Адама, а, скажем, с Каина, убившего своего брата. Тут мы своими собственными глазами – oculis mentis – усматриваем и наличность греха, и наличность вины, и нет никакой надобности прибегать к таким совершенно недопустимым в философии фантастическим deus ex machina, как змей-соблазнитель и предатель. Соответственно этому и идея греха теряет тот фантастический характер, который ей придало библейское повествование, и вполне заслуживает почетное звание истины, ибо ее можно защищать такого же рода соображениями, какими на нее нападать можно.
Очевидно, Киргегард не уберегся: библейское сказание о падении человека соблазнило его. Да кто может уберечься тут, кто может преодолеть соблазн? Все «духовное» существо наше вопиет из нас: откуда угодно пришел грех, только не от дерева познания добра и зла. Не меньше возмущает нас мысль о том, что змею дано было парализовать или усыпить волю человека. Нужно поэтому во что бы то ни стало подыскать какое-нибудь другое, более приемлемое, объяснение греху. Но всякое «объяснение» – и в особенности стремление «все объяснить», которое и сам Киргегард высмеивал, – не свидетельствует ли уже об «обмороке свободы»? Пока человек свободен, пока свобода человека не парализована, пока человек волен делать все, что ему вздумается, всё, что ему нужно, – он не объясняет. Объясняет тот, у кого нет сил делать по-своему, кто покорился чуждой ему власти. Тот же, кто свободен, не только не ищет объяснений, но в самой возможности объяснений верным чувством отгадывает величайшую угрозу своей свободе.
Стало быть, не только можно, но и должно спросить, что было бы; если бы Адам не согрешил? И если точно человеку суждено когда-либо проснуться от обморока и стряхнуть с себя навеянное змеем наваждение, он, может быть, осмелится и так спросить: да есть ли рассказ о падении Адама «вечная истина»? и не наступит ли момент, когда ему вернется его исконная, подлинная свобода, которую он разделял в райском бытии с Богом, и он, несмотря на все запреты разума, «вдруг» увидит, что истина о грехопадении, как и все, что нам приносит опыт, имела начало и по воле Того, кто творит все истины, может иметь и конец? Конечно, разум станет на дыбы: такое допущение есть конец его царству, которому, по его убеждению, конца не может и не должно быть, ибо ему не было и начала. Но ведь Киргегард написал столько вдохновенных страниц об Абсурде! Неужели протесты и негодование разума испугают или разжалобят его? и экзистенциальная философия в решительный момент дрогнет и отступит пред остервеневшим противником?
Тут нужно подчеркнуть, что экзистенциальная философия имеет у Киргегарда двойной смысл, точнее, ставит себе две задачи, и притом задачи, на первый взгляд противоположные, даже совершенно исключающие одна другую. И это у него не случайно, это у него не «невольное противоречие» – это у него находится в теснейшей, органической связи с его методом «непрямого высказывания», о котором у нас уже не раз шла речь и который для торопливого читателя делает и без того сложные и запутанные размышления Киргегарда совершенно иной раз недоступными.
Мы встречаем у Киргегарда почти на каждом шагу всем привычное и потому никого не оскорбляющее, даже ласкающее слух выражение «религиозно-этическое». Без всякой натяжки, ссылаясь на многочисленные места из его сочинений, можно сказать, что экзистенциальная философия поставляет себе религиозно-этические цели. Правда, мы слышали от него же, что отцу веры, Аврааму, – в страшный и ответственный момент его жизни, в момент, когда решалась его судьба, когда роковой вопрос «быть или не быть» предстал пред ним не как теоретическая отвлеченная проблема, а как то, с чем связано его существование, – пришлось «отстранить этическое», которое заградило ему путь к Богу. «Если этическое – есть вечное, Авраам погиб»: Киргегард ясно давал себе в этом отчет. И ведь правда: если этическое было бы высшей и последней инстанцией, если оно предвечно, не сотворено, не от Бога или если оно есть veritas a Deo emancipata – Аврааму нет спасения. И сам Киргегард является обличителем такого этического (в новейшей философии оно называется автономным, самозаконным): когда Авраам заносил нож над Исааком, он верил, что Исаак ему будет возвращен. На суде религиозном – это решительнейший «аргумент» в пользу Авраама, но на суде разума и этики, у которых есть собственные законы (опять напомню – и разум, и этика автономны), вера Авраама компрометирует его, отнимает у его поступка всякую цену. Разум твердо заявляет, что никакая сила не может вернуть убитого Исаака к жизни, а этика с не меньшей твердостью требует, чтобы Авраам заколол своего сына без всякой надежды, без всякого «расчета» на то, что он ему когда-либо будет возвращен. Только при соблюдении этого условия она согласится видеть в его поступке жертву, и только ценой такой жертвы можно купить ее похвалу и одобрение. Шекспировский Фальстаф спрашивает: может ли этика вернуть человеку оторванную руку? Не может. Стало быть, этика есть одно воображение. Но ведь Авраам у Киргегарда повторяет Фальстафа. Может «этическое» вернуть ему убитого Исаака? Если не может, то этическое нужно «устранить». Авраам решился занести нож над сыном только потому, что Бог – не этика, которая ничего не может, а Бог может ему сына вернуть, что Бог ему сына вернет; какая же разница между «отцом веры» и комическим персонажем шекспировской пьесы? Вера, которая имеет такую исключительную, ни с чем не сравнимую ценность в сфере религиозного существования («все, что не от веры, есть грех»), оказывается дефектом, и огромным дефектом, в плоскости разумного мышления. «Этическое», которое имеет своим назначением прикрывать собой и защищать разумные истины, – хотя оно и бессильно вернуть человеку оторванную руку и вообще бессильно дать человеку что-либо, кроме похвал своих и порицаний, все порицания свои, все громы, все анафемы должно направить равно и против Авраама, и против Фальстафа.
И еще нужно прибавить: Фальстаф высмеивает угрозы этики. Если она не может вернуть человеку руку или ногу, значит, у нее нет власти, она бессильна, она только призрак или воображение – и громы ее тоже призрачны. Ибо по какому праву тот, кому не дано благословлять, присваивает себе власть проклинать? Мы не забыли, как, по Киргегарду, этическое расправляется с теми, кто дерзает ослушаться его. Sine effusione sanguinis,[97] конечно, как и полагается его благочестивой отвлеченности – но хуже, чем самые безжалостные палачи и самые остервенелые убийцы. И вот, говорю, загадочная «двойственность» у Киргегарда: пред лицом Авраама этика утихает. И пред Иовом – правда, после долгого и отчаянного сопротивления – она должна устраниться. Если бы сам Сократ пришел к Иову, ни его ирония, ни его диалектика не привели бы ни к чему. Иов от этики апеллирует к иному «началу» – к Богу, к Богу, для которого нет ничего невозможного, который может вернуть оторванную руку, который может воскресить Аврааму убитого Исаака, который может отдать бедному юноше царскую дочь, самому Киргегарду – Регину Ольсен. Он опрокидывает спинозовский завет – завет спекулятивной философии: non ridere, non lugere, neque detestari, sed intelligere. «Пониманием» человек жив не будет. «Понимание» – есть страшная bellua, qua non occisa homo non potest vivere. В слезах и проклятиях человека рождается новая сила, которая рано или поздно поможет ему восторжествовать над ненавистным врагом. Говоря словами псалмопевца: de profundis ad te. Domine, clamavi. И это Киргегард называет экзистенциальной философией: «безумной борьбой веры за возможность». Умозрительное мышление протекает в плоскости, в двух измерениях. Экзистенциальное мышление знает третье измерение, для умозрения не существующее: веру…
Но стоит только Киргегарду отойти от Иова и Авраама и соприкоснуться с обыденностью – и им овладевает непреодолимый страх, страх, что с устранением разумного и этического Фальстафы станут господами бытия. И тогда он бежит обратно к этическому. Этическое не может ему вернуть Регину Ольсен, оно вообще бессильно дать что-либо человеку. Но оно может отнимать, оно может калечить и уродовать жизнь непокорных ему: оно ведь союзник и соратник необходимости, находящейся под высочайшей защитой разума. Сколько бы Фальстаф ни храбрился и ни бахвалился, оно его, в конце концов, доймет. Оно обернется в бесконечность, в вечность, оно приведет с собою уничтожение и смерть. Самый легкомысленный и беспечный человек придет в отчаяние пред арсеналом ужасов, находящихся в распоряжении этического, – и сдастся. И вот, когда Киргегард чувствует, что ему, как он выражается, «не дано сделать последнее движение веры», он поворачивается к этическому с его грозным «ты должен». И тогда экзистенциальная философия получает у него как будто совсем иной смысл. Это уже не безумная борьба о невозможном, а рассчитанная (когда лучше, когда хуже) борьба о возможном торжестве над инакомыслящими. Вместо страшного врага «необходимости» он набрасывается на тоже, конечно, страшных, но все же только по-человечески вооруженных себе подобных. Страх сделал свое губительное дело: он парализовал в Киргегарде свободу, или, говоря его собственным языком, привел ее в обморочное состояние. На место откровений Св. Писания становятся самоочевидные истины разума.
X. Жестокое христианство
Не от меня моя суровость. Если бы я знал смягчающее слово, я бы охотно утешил и ободрил человека. И все же! Возможно, что страждущему нужно иное: еще более жестокие страдания. Кто так свиреп, что дерзает сказать это? Друг мой, это делает христианство, учение, которое нам подают в виде самого кроткого утешения.
Киргегард
О этой двойственности киргегардовской экзистенциальной философии скрываются все трудности для понимания не только поставляемой ей себе задачи, но и всей проблематики, возникающей при столкновении откровений Св. Писания с истинами, естественно добываемыми нашим разумом. Мы всем существом своим и всеми помыслами своими стремимся засыпать пропасть, отделяющую откровение от истины, мы вперед убеждены, вместе с Гегелем и со всеми философами, в школах которых сформировалось учение Гегеля, что откровение не может и не должно противоречить разуму и разумному пониманию, что, наоборот, оно должно находиться под охраной и защитой их. Правда, и пророки, и апостолы постоянно твердят нам о безумии веры. Правда, и сам Киргегард со страхом и трепетом не устает повторять свои заклинания: чтоб обрести веру, нужно потерять разум. Но ни громовые речи пророков и апостолов, ни страстные заклинания Киргегарда не производят никакого или почти никакого действия и не могут разбудить от обморочного сна нашу свободу. «Страх», что не проверенная и не оправданная разумом свобода приведет, не может не привести к неисчислимым бедам, так врос в наши души, что, по-видимому, нет никаких способов выкорчевать его. Мы глухи даже к грому, мы отводим все заклинания.
Откуда пришел этот страх? Откуда уверенность, что разум даст человеку больше, чем свобода? Платон учил, что возненавидеть разум – величайшее несчастье, но мы так и не допытались у него, где он добыл эту истину свою. Того больше: мы имели случай убедиться, что нередко разум всеми силами своими оборачивается против человека. Скажут, это не есть «возражение» против законности притязаний разума – и, стало быть, таким способом человеку все же не удастся освободиться от власти и чар разумных истин. Пусть Платон и ошибался, пусть разум, в последнем счете, окажется врагом или даже палачом человека, все же царствию его нет и не предвидится конца. И затем, как можно противопоставлять разуму свободу? Свобода ведь потому и есть свобода – что вперед и знать нельзя, что она принесет с собой: может быть, хорошее, а может быть, дурное, очень дурное. Даже Богу нельзя предоставить ничем не ограниченную свободу: мы вперед не «знаем», что нам может принести Бог. Неизбывный страх постоянно нашептывает нам этот тревожный вопрос: а что, если Бог принесет нам дурное? Отсюда, от этого страха и пошел обычай соединять религиозное с этическим и говорить о религиозно-этическом. Человек точно перестраховывается от религиозного в этическом. Религиозное – это что-то новое, неведомое, далекое, этическое – все же есть что-то известное, близкое, привычное. Об этическом и Киргегард и мы все за ним можем с уверенностью сказать, что если оно и не достаточно могущественно, чтоб вернуть человеку руку или ногу, то власть его уродовать и пытать человеческую душу лежит вне всяких сомнений. Это знали древние – еще до Сократа: в распоряжении этического всегда были полчища разъяренных фурий, беспощадно преследовавших всякое отступление от его законов. Это – всем известно, и такое знание отнюдь не предполагает веры. Но ведь сам Киргегард постоянно повторяет ап. Павла: все, что не от веры, – грех. Этическое же с его фуриями – никак не от веры. Это – знание, знание о действительном, и «неверующие» язычники умели рассказать о нем не хуже, чем Киргегард. Оно не может вернуть человеку оторванной руки – но ведь не только оно, никто в мире этого сделать не может. «Религиозное» здесь так же беспомощно, как и «этическое»: сам Зевс засвидетельствовал нам, что боги могли дать людям мир только на подержание, а не в собственность. Правда, Киргегард не говорил, а исступленно кричал: для Бога нет ничего невозможного. Бог значит, что все возможно. Он может вернуть оторванную руку или ногу, может воскресить убитых детей Иова, может воскресить Исаака, и не только того, которого заклал Авраам, но и всякого закланного Необходимостью Исаака, и притом, как вдохновенно, словно в порыве самозабвения и отчаяния, уверял нас Киргегард, Бог предоставляет каждому человеку по-своему решать, что для него такое и где находится его Исаак, предоставляет ту неограниченную свободу, при которой такой «ничтожный», «жалкий», «скучный», даже «комический» на оценку разума случай, как случай Киргегарда, превращается, по слову самого Киргегарда, во всемирно-историческое событие, имеющее несравненно большее значение, чем походы Александра Македонского и великое переселение народов. «Кто недостаточно созрел, – внушает нам Киргегард, – чтобы понять, что даже бессмертная слава в бесчисленных поколениях есть только определение временности; кто не понимает, что стремление к такому бессмертию есть нечто жалкое в сравнении с бессмертием, которое ждет каждого человека и которое справедливо вызвало бы всеобщую зависть, если бы было уготовано только одному человеку: тот недалеко уйдет в понимании того, что такое дух и что такое бессмертие».[98]
Кто дал право Киргегарду делать такие утверждения? Личное бессмертие первого попавшегося человека значит больше, чем слава в бесчисленных поколениях Александра Македонского? Справлялся он у этического? Явно, что забыл или пренебрег; ибо если бы справился, то ему пришлось бы охладить свой пыл. Личное бессмертие – его ли самого или кого другого – не только ничего не стоит сравнительно со славой в потомстве Александра Македонского, оно не выдержит сравнения со славами и много более скромными – какого-нибудь Муция Сцеволы или Регула. Даже Герострат был в своей оценке значения славы в потомстве более близок к истине, чем Киргегард. Он все же не позволял себе судить произвольно, как ему на ум придет, а ждал суда истории. Всякие ценности, какие существуют в мире, лишь постольку являются истинными ценностями, поскольку они находят себе место в категориях, объективно установленных не произволом и капризом человека, а высшими законами, стоящими вне и над всеми произволами и капризами. Притязание Киргегарда на бессмертие так же мало обосновано, как и его притязание превратить свою встречу с Региной Ольсен в событие всемирно-исторического значения. И это не тайна для Киргегарда. В порыве откровенности, как всегда, правда, не в прямой форме, а от имени третьего лица, он признает, что не доверяет «этическому», прячется от него, хотя и знает, что оно очень обидчиво, требует от человека, чтобы он выкладывал пред ним, как на духу, все сокровеннейшие желания и помыслы свои.[99] В жизни Киргегарда не только этическое не связано неразрывно с религиозным, но постоянно враждует с ним. Как раз в тот момент, когда этическое, озираясь, как ему по его природе полагается, на разумное, произносит свой окончательный и последний приговор, когда все «возможности» для этического кончаются, «религиозное» начинается. Религиозное живет вне и над сферой «общего». Оно не охранено никакими законами, оно не считается с тем, что наше мышление находит возможным и невозможным, равно как и с тем, что этика провозглашает дозволенным и обязательным. Для религиозного человека его «личное бессмертие» дороже самой громкой славы в потомстве, для него те дары, которые он получает от Творца, ценнее всех похвал и отличий, которыми нас прельщает «этическое». Все, что рассказывает нам Киргегард и в книгах своих, и в дневниках, – свидетельствует, что он упования свои связывает не с возможностями, открываемыми разумом (он их презрительно называет вероятностями), и не с наградами, сулимыми этикой (он их называет ложными утешениями). Отсюда его ненависть к разуму и его пламенное прославление Абсурда. Немного можно указать во всемирной литературе писателей, которые так страстно и безудержно рвались к вере, как Киргегард.
Но недаром он так часто вспоминает слова: «Блажен, кто не соблазнится обо мне». Веру всегда и везде подстерегает соблазн. Между ними есть какая-то непонятная для нас, но, по-видимому, неразрывная связь: кто не знал соблазна, тот не узнает и веры. Только нужно прибавить, что соблазн начинается раньше, чем это допускает сам Киргегард. По мнению Киргегарда – самое невероятное и потому самое соблазнительное – это воплощение Христа. Как мог Бог унизиться до того, чтобы принять человеческий образ, да притом еще образ последнего человека? Киргегард не жалеет красок, чтоб изобразить унижения, которым подвергался Христос в своей земной жизни. Бедный, гонимый, презираемый не только чужими, но и близкими, отвергнутый отцом своим, заподозрившим Марию,[100] и т. д., и т. д., – как такой мог оказаться Богом? Что и говорить, большой соблазн. Но источник и начало соблазна все же не в том, что Бог решился принять зрак раба. Соблазн начинается для человеческого разума – раньше: в самом допущении, что есть Бог, для которого все возможно, возможно принять зрак раба, но возможно принять зрак царя и господина. И надо сказать, что вторая возможность для разума много неприемлемее первой и что сам Киргегард этого никогда из виду не упускал, и менее всего в те моменты, когда он с отличающим его мрачным пафосом рассказывает об ужасах земного существования Христа. Нам легче допустить – держась в пределах нашего опыта и нашего разумения, что если и есть существа высшие, чем люди, которых мы потому называем богами, то все же они не столько могущественны, чтобы прорваться сквозь все невозможности, открываемые разумом, и преодолеть все недозволенное, воздвигнутое моралью, и потому, при неблагоприятно сложившихся обстоятельствах, обрекаются на всякого рода трудности, чем признать существо, для которого «все возможно». Разуму, как мы видели, доподлинно известно, что и Бог есть порождение πόρος’а и πενία и что, стало быть, ему более приличествует зрак раба, чем образ неограниченного господина и властителя. И это относится не только к языческим философам. Во всех попытках дать ответ на вопрос: cur Deus homo, мы неизбежно наталкиваемся на момент «необходимости», свидетельствующий о существовании каких-то предвечных начал бытия, над которыми даже Бог не властен: чтобы спасти человека. Бог принужден был сам стать человеком, пострадать, принять смерть и т. д. И чем глубокомысленнее объяснение, тем оно настойчивее подчеркивает, с одной стороны, невозможность для Бога иным путем достигнуть своей цели, а с другой стороны. Его возвышенность, выразившуюся в Его готовности, ради спасения человеческого рода, принять тяжкие условия, поставленные ему Необходимостью. Совсем так, как и в делах человеческих: разум выявляет Богу пределы возможности, этика приносит Богу свои похвалы за то, что он добросовестно выполнил все обусловленные невозможностями «ты должен». Тут и скрывается величайший и последний соблазн, который Киргегард чувствовал всегда и с которым он всегда отчаянно боролся, но который преодолеть до конца ему никогда не удавалось, который не удалось преодолеть ни одному смертному и который, по всем видимостям, смертным своими силами преодолеть не дано: мы не можем отречься от плодов дерева добра и зла. Иначе говоря: наш разум и наша мораль эмансипировались от Бога. Бог все сотворил, но мораль и разум были до всего, до Бога, были всегда. Они не сотворены – они – предвечны.
Оттого всегда попытки экзистенциальной философии имели тенденцию сбиваться к тому, чему учил, по Платону, Сократ: μέγιστον αγαθòν τω ανθρώπω εκάστης ημέρας περι αρετην λόγους ποιεισθαι («Высшее благо для человека каждодневно беседовать с добродетелью»). Когда религиозное соединяется с этическим, оно в нем растворяется без остатка: дерево познания высасывает все соки из дерева жизни. Экзистенциальная философия, видевшая свою задачу в борьбе, хотя и безумной, «за возможность», превращается в назидание, оно же, по существу своему, сводится к готовности примириться с теми ограниченными возможностями, которые находятся в распоряжении «разумного» и «этического». Человек не смеет или не имеет сил мыслить в категориях, в которых он живет, и принужден жить в тех категориях, в которых он мыслит. И притом даже не подозревает, что в этом – его величайшее падение, что здесь – первородный грех. Он весь во власти внушенного ему змеем eritis sicut dei. Это, надо думать, и имел в виду Киргегард, когда он говорил о себе, что не может сделать последнего движения веры. И это было действительной причиной его безудержных нападок на духовенство и церковь, на «христианство, которое отменило Христа», равно как и той почти беспримерной жестокости и суровости, которыми напоены его проповеди, или, как он сам предпочитает называть их, его назидательные речи. Самые горячие поклонники Киргегарда не решаются идти с ним до конца в этом направлении и делают всяческие попытки путем «истолкований» приспособить их к обычному пониманию. Но это только отдаляет нас и от Киргегарда, и от его проблематики, всегда выдвигающей все таящиеся в бытии, неумолимые «entwederoder». Если бы Киргегарду дано было «смягчать», он сам смягчил бы и не поручал бы этого дела никому другому. В 1851 году, в той же книге, в которой он так неистово провозглашал, что христианство отменило Христа, он пишет: «Не от меня моя суровость. Если бы я знал смягчающее слово, я бы охотно утешил и ободрил человека. И все же! И все же! Возможно, что страждущему нужно иное: еще более жестокие страдания. Еще более жестокие! Кто так свиреп, что дерзает сказать это? Друг мой: это делает христианство, учение, которое нам подают под именем самого кроткого утешения».[101] Тут же он вновь возвращается к жертве Авраама, о которой он столько нам говорил в своих первых произведениях: «Уничтожить собственными руками то, чего так страстно желал, дать отнять у себя то, чем уже владеешь, – это подрезывает в самом корне естественного человека. А этого требовал Бог от Авраама. Авраам должен был сам – страшно сказать! – должен был своей рукой – ужас и безумие! – закласть Исаака – дар Бога, которого он так долго и с такой тоской ждал, за которого он всю жизнь благодарил Бога и не мог достаточно возблагодарить, Исаака – свое единственное дитя, дитя обетования! Думаете, что смерть может так ужалить? Я этого не думаю». Бесспорно, жизнь жалит сильнее, чем смерть, – и, с другой стороны – так же бесспорно, что суровость Киргегарда не от него пришла. Не он требовал от Авраама страшной жертвы, не он же виновник тех ужасов, которыми полна человеческая жизнь. Они до него были, они после него продолжаются и, может быть, растут и множатся. Он только рупор, через который доносятся до нас слова и речи, ему не принадлежащие. Он только видит и слышит то, чего до времени другие люди еще не слышат. Но «смысл» речей, но «значение виденного и слышанного – он принужден разгадывать сам. И тут мы являемся свидетелями неслыханной внутренней борьбы, которая разрывала в клочья его и без того истерзанную душу, но от которой он не мог отказаться, так как в этой борьбе экзистенциальная философия освобождается от ставших для человека невыносимых самоочевидностей философии умозрительной. В „Страхе и трепете“ Киргегард мог еще по поводу жертвы Авраама говорить об „искушении“. И в дальнейших своих сочинениях он каждый раз об „искушении“ вспоминает и постоянно твердит, что никакая наука не может выявить и объяснить того, что таится под библейским выражением „искушение“. Но он отверг „змея“ – а без змея много ли от искушения остается? Или лучше сказать – не было это уже уступкой современной просвещенности, приемлющей лишь то, что ей дано постигнуть и объяснить? Киргегард, конечно, не допускал и мысли о том, что его готовность очистить сказание о грехопадении от элементов, не вмещающихся в наше разумение, может иметь, если не непосредственно, то посредственно, столь роковые для нашего мышления последствия. Но ведь вмешательство змея с его eritis sicut dei (будете как боги) есть ничто иное, как призыв к lumen naturale, к естественному свету: плоды с дерева познания превращают человека в Бога, и этим самым все неестественное, все сверхъестественное кончается, превращается в фантастику, в призрак, в Ничто. В этом подлинное искусство, начало всех возможных искушений, тем более грозное и опасное, что оно менее всего на искушение похоже. Кто может заподозрить, что знание, что умение отличать добро от зла таит в себе какую бы то ни было опасность? Совершенно очевидно, что, наоборот, все опасности имеют своим источником неведение и неуменье отличать добро от зла. Мы помним, как беспечно автор „Теологии немецкой прошел мимо рассказа Писания о дереве познания. Мы помним, что сам Киргегард в неведении невинного человека видел сон духа. Человек где угодно готов искать и находить источник греха, только не там, где он ему указывается Св. Писанием. Больше того, «естественное“ мышление наше убеждает нас, что величайший грех, самое страшное падение человека, его духовная смерть в нежелании причаститься ведению о том, что такое добро и что такое зло. Киргегард, видевший в Библии боговдохновенную Книгу, не может вырвать из души этого убеждения. Он не сомневается, что если этическое, т. е. плоды с дерева познания, есть высшее, то Авраам, его любимый герой, отец веры – погиб. Он знает, что если вера Авраама будет посрамлена знанием, – то все люди погибли. Но этическое не отпускает его и твердо держит в своих цепких лапах.







