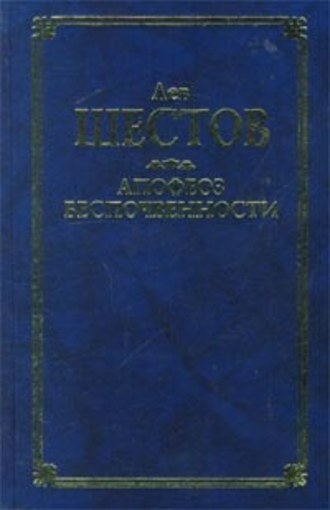
Лев Исаакович Шестов
Киргегард и экзистенциальная философия
XX. Бог и принуждающая истина
Для Бога все возможно – эта мысль есть мой лозунг в глубочайшем смысле этого слова, и она приобрела для меня значение, большее, чем я мог сам когда-нибудь думать.
Киргегард
У Дунса Скота мы встречаем следующее, в своем роде необычайное по откровенности, признание: Isti qui negant aliquod ens contingens exponendi sunt tormentis quousque concedant, quod possibile est eos non torqueri («Те, что отрицают за чем-нибудь сущим случайность, должны быть подвержены пыткам до тех пор, пока не признают, что возможно их и не пытать»). Сама по себе его мысль не оригинальна: она выразила открыто то, что все думали, о чем многие говорили. Поражает только, как Дунс Скот, которого уже его современники называли – и недаром – doctor subtilissimus, – не почувствовал, что, защищая таким образом свое положение, он компрометировал всю систему философских доказательств. Он, конечно, прав: если подвергнуть пыткам человека и сказать ему, что пытка будет продолжаться до тех пор, пока он не признает, что возможно его и не пытать, он почти наверно сделает требуемое от него признание. Но все же только почти наверное. Если окажется, что он обладает твердостью и мужеством Сократа или Эпиктета, пыткой вы от него, пожалуй, ничего не добьетесь. То же, если придется иметь дело с Регулом или Муцием Сцеволой. Есть люди, над которыми пытка не имеет власти. Как быть тогда? Сохранит ли аргумент doctor’а subtilissimus’а свою доказательную силу?
С другой стороны люди, не обладающие достаточной твердостью, признают на пытке что угодно за истину, только бы их перестали мучить. Потребуют, чтоб они признали, что их можно не мучить, – они признают, что их можно не мучить, потребуют, чтоб они признали, что их невозможно не мучить, они и это признают – только бы их отпустили. Ап. Петр три раза отрекся от учителя, хотя до пытки не доходило: налицо только была угроза более или менее суровой расправы. И затем, случай Дунса Скота фантастический, выдуманный. Надо полагать, что за все время существования мира никого никогда не подвергали пытке, чтоб добиться от него признания aliquod ens contingens.[169] Зато обратное происходит на наших глазах постоянно: жизнь мучает людей и продолжает их мучить на все лады и уже давно исторгла из них признание, что то, что есть, не только есть такое, как оно есть, но иным и быть не может.
Однако и не в этом еще самое главное. Как мог doctor subtilissimus, для которого и воля, и интеллект были чисто духовными свойствами человека, допустить, что пытка, обращающаяся к его чувственности, играет столь решающее значение там, где речь идет об истине! Когда мы такого рода размышления встречаем у Эпиктета, мы спокойно проходим мимо, относя их на счет его недостаточной философской прозорливости. Но Дунс Скот – не Эпиктет: Дунс Скот один из самых тонких и сильных умов не только средневековья, но и всего мыслящего человечества. И он говорит о пытке, о чисто физических средствах принуждения, как об ultima ratio истины. Тут есть над чем задуматься, в особенности в связи с тем, что мы слышали от Киргегарда об ужасах человеческого существования. Может быть, кстати будет припомнить и свидетельство Ницше. И Ницше говорил о «великой боли», которой «истина» пользуется, когда ей нужно покорить человека, и о том, что истина точно ножом врезывается в нас. К таким свидетельствам теория знания не может и не должна оставаться глухой. Хочет она того или не хочет, ей придется признать, что чисто духовные способы убеждения, которые она представляет в распоряжение истины для осуществления ее державных прав, не достигают своей цели. Ни «закон» достаточного основания, ни «закон» противоречия, ни интуиция со всеми ее очевидностями не обеспечивают истине повиновения человека: в последнем счете ей приходится обращаться к пытке, к насилию. Бог, нам говорил Киргегард, никогда не принуждает, но познание с его истинами, очевидно, на Бога не похоже и не хочет быть похоже: оно принуждает, оно только принуждением и держится, притом самым грубым, самым отвратительным принуждением и даже, как видно из примера Дунса Скота, не считает нужным прикрываться елейным sine effusione sanguinis. Теория познания, расчищающая пути умозрительной философии, просмотрела это, не захотела тут увидеть ничего достойного ее внимания. Не только наивный Эпиктет, но и тончайшие мыслители, как Дунс Скот и Ницше, когда они случайно наталкиваются на те приемы, к которым прибегает истина, когда человек не соглашается ей добровольно покориться, нисколько не смущаются, как будто бы этому так и быть полагается. Сам Аристотель с почти ангельской невозмутимостью рассказывает нам о великих философах αναγκαζόμενοι υπ’ αυης της αληθείας («принуждаемых самой истиной»). Правда, он не говорил о пытке, правильно рассудивши, что есть вещи, о которых полезнее молчать, и что наглядность в иных случаях больше вредит, чем помогает. Но об ανάγκη (необходимости), которую он отождествляет с насилием – βία, и ее власти над человеческой мыслью он достаточно распространяется. Платон тоже не упоминает о пытках, которым нас подвергают истины, ограничиваясь лишь указанием на то, что в мире властвует необходимость, которую не могут преодолеть и боги. Homo superbit et somniat, se sapere, se sanctum et justum esse – человеку кажется, что если только закрыть глаза на ανάγκη (необходимость), если позволить знанию овладеть какой бы то ни было ценой жизнью, то святость и праведность придут сами собой. Он не может забыть древнего внушения: eritis sicut dei, и вместо того, чтоб бороться со своим бессилием, прячется от него в гордыню. Оттого Паскаль и говорил по поводу Эпиктета: superbe diabolique. Гордыня не есть уверенность в своей силе, как мы обычно склонны думать, – гордыня есть загнанное в глубь души сознание своего бессилия. Но невидимое, оно много страшнее, чем видимое. Такое бессилие человек ценит, любит, культивирует в себе. Киргегарду нужно было дойти до чудовищного сознания, что любовь Бога во власти его неизменяемости, что Бог связан и не может пошевелиться, что и Богу, как нам, дано «жало в плоть», т. е. что и для Него уготовлены все те пытки, которым истина подвергает человека, – для того, чтобы он отважился противопоставить умозрительной философии – экзистенциальную, чтоб он позволил себе спросить, как могла истина захватить власть над Богом, и увидеть в этом чудовищном измышлении разума то, о чем оно и в самом деле свидетельствовало: падение человека и первородный грех. Даже благочестивый, всегда говорящий от имени христианства, Лейбниц был глубоко убежден, что «les vérites eternelles sont dans l'entendement de Dieu indépendamment de sa volonté».[170] И, опять-таки, эта мысль даже не его собственная, оригинальная мысль, как и мысль о доказующей силе пыток у Дунса Скота: так думало и средневековье, так думали и греки. Сам Лейбниц, в этом же параграфе своей «Теодицеи» ссылается на Платона, утверждавшего – читатель это помнит, – что в мире наряду с разумом господствует и необходимость, но он мог бы сослаться с таким же правом и на схоластиков, как об этом свидетельствуют приводимые им общие соображения об источнике зла. Может быть, потому будет для нас небесполезно остановиться внимательнее на его размышлениях: «On demande d'où vient le mal. Les anciens attribuaient la cause du mal a la matiére, qu'ils croyaient incrée et indépendante de Dieu… Mais nous qui dérivons tout être de Dieu, où trouvons-nous la source du mal? La réponse est qu'elle doit être cherchée dans la nature idéale de la créature autant que cette créature est renfermée dans les vérites idéelles qui sont dans l'entendement de Dieu indépendamment de sa volonté. Car il faut considérer qu'il y a une imperfection originelle dans la créature avant le péche, parce que la créature est limitée essentiellement, d'où vient qu'elle ne saurait tout savoir et qu'elle peut se tromper et faire des fautes».[171] Лейбницу представляется, что допустить существование материи, несотворенной и не зависящей от Бога, может только язычник, далекий от откровенной истины. Но поставить рядом с Богом и над Богом идеальные истины, принять, что идеальные истины не сотворены, а вечны, по его мнению, значит «возвысить» Бога, вознести Его, оказать Ему честь. Правда, он сам признается, что все зло в мире произошло от того, что несотворенные истины, не справляясь с волей Бога, каким-то образом пробрались в его разумение – казалось бы, это должно было его встревожить. Но – ничуть не бывало: вся теодицея, т. е. «оправдание Бога», держится на том, что Богу не дано преодолеть не им сотворенные истины. Таким образом, теодицея не столько оправдывает Бога, сколько оправдывает зло. Разум, жадно стремящийся понять существующее, как такое, которое не может быть иным, чем оно есть, добился своего. «Опыт» его уже не раздражает, а удовлетворяет, и он считает, что задача философии окончена. Пусть пытками – но и человек, и Бог приведены к повиновению. Мир должен быть несовершенным, зло истребить невозможно. Конечно, если бы было иначе: если бы истины были не вечные истины, а сотворенные, человек же был не сотворенным, а вечным, то в зле бы и надобности не было. Или, если бы истинам не удалось пробраться в разумение Бога, не испросивши его соизволения, то злу тоже не нашлось бы места в мироздании. Но Лейбницу, вернее, умозрительной философии, до этого дела нет. Ей главное охранить истины, – а как будет с человеком, как будет с Богом, до этого ей нет заботы. Или того хуже: сущность умозрительной философии в том именно и состоит, чтоб раз навсегда отказаться от мысли в каком-либо смысле ограничить власть истины. Оттуда такое непоколебимое убеждение у Лейбница, что самый акт творения предполагает уже несовершенство и что человек до грехопадения, т. е. такой человек, каким он вышел из рук Творца. был столь же слабым и ничтожным, как и все последующие поколения Адама. Зло пришло не через грехопадение, как рассказано в Библии, и не от грехопадения, а оттого, что человек был сотворен Богом. И если мы вкусим от плодов запретного дерева и, таким образом, дадим возможность несотворенным истинам пройти в наше разумение, – мы будем, как боги, знающие добро и зло, и мироздание такое, какое оно есть, будет оправдано.
Мы снова видим, что библейский змей, казавшийся без всякой нужды пристегнутым к повествованию Книги Бытия, оказывается духовным вождем лучших представителей мыслящего человечества. Лейбниц, по примеру схоластических философов, в акте творения видит источник зла, не давая себе даже отчета в том, что таким образом он увековечивает зло. Еще меньше подозревает он, что, опорочивая акт творения, он отрекается от Св. Писания. В Писании ведь, наоборот, сказано, что все сотворенное было valde bonum («добро зело»). И было именно оттого valde bonum, что оно сотворено Богом. Так что если бы в самом деле Лейбниц хотел следовать Св. Писанию, то он мог и должен был бы в несотворенных Богом истинах, именно ввиду того, что они не сотворены Богом, увидеть или хоть по крайней мере постараться разглядеть ущербность, дефектность, непричастность к тому valde bonum, которое по слову Творца сообщалось всему, что им было вызвано к бытию. И ведь в самом деле, несмотря на всю идеальность их, вечные истины так же бездушны, так же безвольны, так же пусты и призрачны, как и несотворенная материя греков. Они пришли от Ничто и рано или поздно вернутся в него. Лейбниц еще в юные годы, почти подростком, читал лютеровскую книгу «О порабощенной воле», как и «Diatribæ de libero arbitrio» Эразма Ротердамского, против которых она была написана, и, по-видимому, несмотря на свою молодость, превосходно разобрался в аргументации спорящих сторон. Но лютеровского «homo non potest vivere» он не расслышал, хотя Лютер не говорил, а гремел. Гремел именно против истин, прошедших, вернее, мнящих, что они прошли, в волю Творца, не испросив его согласия, и против людей, которые, как Эразм, не чувствуют, что эти вечные истины, проникнувшие в их разумение, поработили и парализовали его волю. Для юного Лейбница, как и для Лейбница-старика, лютеровское «homo non potest vivere» не было «аргументом» и никоим образом не могло быть противопоставлено «очевидностям», на которые вечные истины опираются и благодаря которым они претендуют на независимость даже от Бога. И еще меньше, конечно, мог допустить он, что наша приверженность к истинам, прошедшим в разумение Бога независимо от его воли, и есть результат того падения человека, о котором рассказано в Писании, что на самоочевидностях лежит проклятье греха и что разумная или спекулятивная философия так же безблагодатна (т. е. не освящена божественным valde bonum), как и плоды с дерева познания добра и зла. Первородный грех для Лейбница, как и для умозрительной философии, был мифом, точнее – вымыслом, с которым, из уважения ко всеми признаваемой Священной Книге, спорить не следует, но с которым считаться серьезно нельзя. Сколько бы ни гремел Лютер, сколько бы ни гремели пророки и апостолы, философ знает, что громы вечных истин разума не раздробят. И если даже окажется, как это Лейбниц и сам признавал, что все зло в мире произошло от вечных истин, – это не поколеблет ни вечных истин, ни благоговения, которое к вечным истинам питает философия. Истина, по самой своей сущности, не допускает колебаний и не терпит колебаний в людях, на нее глядящих: для колеблющихся у нее изготовлены пытки. Она грозно требует, чтобы ее принимали такой, какая она есть, и от всяких вопрошаний, от всякой критики гордо и уверенно защищается ссылкой на свою несотворенность и независимость от воли какого бы то ни было существа, даже всемогущего Бога. И тут, очевидно, мы попадаем в заколдованный круг, из которого вырваться человеку не дано обычными способами. Все «аргументы» на стороне несотворенной истины. С ней спорить нельзя, с ней нужно бороться, ее нужно сбросить с себя, как некое наваждение, как кошмарное видение. Но «разум» никогда по своему почину не начнет борьбы. Разум «жадно стремится» к несотворенным истинам, даже отдаленно не предчувствуя, что в несотворенности их укрылись смерть и гибель и что при всей своей «идеальности» они таят в себе не менее угрозы всему живущему, чем «материя» древних. Для разума божественное или библейское fiat («да будет») величайший соблазн, для разума и жизнь сама величайший соблазн, и именно потому соблазн, что она свидетельствует о творческом fiat, которое разум на своем языке переводит ненавистным ему словом «произвол». Разум потому так строго возбраняет человеку lugere et detestari и так повелительно требует от него intelligere. Intelligere значит принять и благословить несотворенные истины, удивляться им и прославлять их. Все же проклятия человека направлены как раз на то, что разум приемлет и благословляет, и прежде всего на истины, которые, возомнивши, что их несотворенность есть их преимущество, проникли не в разумение Бога, как уверяет нас Лейбниц, а в разумение падшего человека. И только проклятиями оттуда их можно изгнать, только непримиримая, на все готовая ненависть к плодам дерева познания может открыть доступ человеку к дереву жизни. Разуму с его удивлением пред несотворенными истинами нужно противопоставить Абсурд с его отчаянием по поводу тех опустошений, которые не зависящие от воли Божией истины внесли в мироздание. Несотворенные истины сами не живут и несут смерть всему живущему. От них пошел грех – спасение же от греха не в познании неизбежности всего происходящего и не в добродетели, которая, сознавши неизбежность, «добровольно» ей покоряется, а в вере в Бога, для которого все возможно, который все сотворил по своей воле и пред лицом которого всякое несотворенное есть только жалкое и пустое Ничто. В этом и заключается Абсурд, к которому зовет нас Киргегард, и отсюда берет начало экзистенциальная философия, которая, в противоположность философии умозрительной, есть философия библейского откровения.
Нужна была вся диалектическая неустрашимость Киргегард а и его безудержная «суровость» для того, чтоб пред нами обнаружилась подлинная сущность умозрительной философии. Умозрительная философия родилась из безотчетного, безмерного страха пред Ничто. Страх пред Ничто заставляет человека искать прибежища и защиты в знании, т. е. у несотворенных, ни от кого не зависящих, всеобщих и необходимых истин, которые, как нам представляется, могут оберечь нас от случайностей произвола, разлитых в бытии. Когда Кант говорит, что разум жадно стремится ко всеобщим и необходимым истинам, и оспаривает права метафизики, ссылаясь на то, что ей в этом отношении не дано удовлетворить разум, – он говорит правду: метафизика не имеет в своем распоряжении всеобщих и необходимых истин. Но Кант не спрашивает, что всеобщие и необходимые истины уготовили человеку и отчего разум так жадно к ним стремится. Он считает себя добрым христианином, он читал Св. Писание, знает, что пророк Аввакум возвестил, а апостол Павел повторил за ним: justus ex fide vivit («праведник живет верой»). Знает тоже и слова апостола Павла: все, что не от веры, есть грех. Отсюда как-будто рукой подать к тому, чтоб догадаться или хотя бы заподозрить в «жадном стремлении» разума ту concupiscentia invincibilis, в которой пророк и апостолы видели и учили нас видеть самое страшное последствие падения первого человека. Кант хвалился тем, что устранил знание, чтоб открыть путь к вере, но какая это вера, если человек стремится ко всеобщим и необходимым истинам? Критика чистого разума заботливо оберегла все необходимые истины, которые в критике практического разума превратились, как полагается, в императивы, в «ты должен». Критическая философия только лишний раз показала, что разум никакой критики не выносит и не допускает: выросший из нее немецкий идеализм вернулся к Спинозе и его завету: quam aram parabit sibi qui majestatem rationis lædit («Какой алтарь уготовит себе человек, оскорбивший величество разума»). Усилия Лютера преодолеть Аристотеля оказались безрезультатными: история их не признала. Даже среди сколько-нибудь влиятельных протестантских философов и богословов мы не найдем никого, кто бы признал в жадных стремлениях кантовского разума concupiscentia invincibilis, приведшую первого человека к падению, и видел в них ту bellua qua non occisa homo non potest vivere. Наоборот: страх пред возвещенной Писанием свободой и ничем не связанным божественным fiat так велик у человека, что он готов подчиниться какому угодно началу, отдаться в рабство какой угодно силе – только бы не остаться без прочного руководительства. Бог никого не принуждает – эта мысль нам кажется невыносимой. И совсем уже представляется безумием мысль, что Бог ничем, абсолютно ничем не связан. Когда Киргегард подходил к порогу той Святая Святых, где обитает Божественная Свобода, его покидало его обычное мужество и он прибегал к непрямому высказыванию: если над Богом есть какая-нибудь власть, есть какое бы то ни было начало, все равно материальное или идеальное, – то все ужасы бытия, открывающиеся нам в нашем опыте, не минуют и Бога. Хуже: Бог знает ужасы, сравнительно с которыми все трудности, выпадающие на долю смертных, представляются детской забавой. И точно: если не Бог источник истины и обусловленных ею возможностей и невозможностей, если истина стоит над Богом, как и над человеком, равно и к Богу, и к человеку равнодушная, то Бог так же беззащитен, как и смертные. Его любовь и милосердие беспомощны и бессильны. Когда Бог глядит на истину, и Он окаменевает. Он не может пошевелиться, не может подать голоса, не может ответить распинаемому Сыну, взывающему к Нему о помощи. Я столько раз повторял эти слова Киргегарда потому, что в них получила в особенно яркой, по своей конкретности и наглядности, форме основная мысль экзистенциальной философии: для Бога все возможно. Таков же смысл и его яростных выпадов против церкви. Церковь, христианство, живущие в добром мире и согласии с разумом, отменяют Христа, отменяют Бога. «Жить» с разумом невозможно. Justus ex fide vivit: человек жив будет только верой, и все, что не от веры, – есть грех, есть смерть. То, что вера с собой приносит, она приносит, с разумом не справляясь, с разумом не считаясь. Вера отменяет разум. Вера дана человеку не затем, чтоб поддерживать притязание разума на господство во вселенной, а затем, чтобы человек сам стал господином в созданном для него Творцом мире. Вера ведет нас через то, что разум отвергает как Абсурд, к тому, что тот же разум отождествляет с несуществующим. Разум учит человека повиноваться, вера дает ему власть повелевать. Умозрительная философия обрекает нас на рабство, экзистенциальная философия стремится прорваться через воздвигнутые разумом очевидности к свободе, при которой невозможное становится действительным. Как написано: ουδεν αδυνατησει υμιν («Не будет для вас ничего невозможного»).







