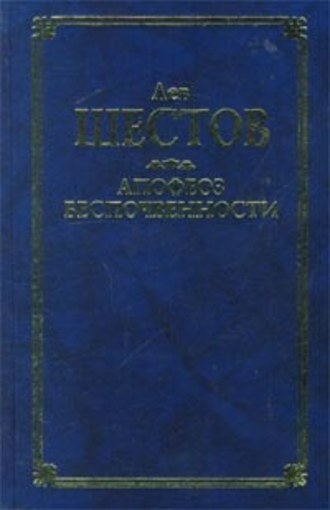
Лев Исаакович Шестов
Киргегард и экзистенциальная философия
II. Жало в плоть
Что касается меня, то с юных дет мне было ниспослано жало в плоть. Не будь этого, я бы уже давно жил обыкновенной жизнью.
Киргегард
Киргегард променял Гегеля и греческий симпозион на неистовые речи Иова. Но нужно тут же сделать очень важную оговорку: Гегеля Киргегард точно возненавидел и даже научился – хотя после долгой и трудной внутренней борьбы – презирать его; но от греческого симпозиона и от того, кто был душой греческого симпозиона, т. е. от Сократа, он никогда не мог решительно отвернуться – даже в тот период неслыханного напряжения всех его душевных сил, когда писались названные выше книги его – «Furcht und Zittern», «Wiederholung», «Begriff der Angst».[17] Он даже и Спинозы не задевал и, по-видимому, относился к нему (может быть, под влиянием Шлейермахера) с величайшим уважением, граничившим с благоговением. Словно он считал нужным держать Спинозу, как и Сократа, про запас, на случай, если Авраам и Иов и Книга, в которой он прочел об Иове и Аврааме, не оправдают возлагавшихся на них ожиданий. И может ли быть иначе? Дано ли современному человеку отказаться от Сократа и ждать истины от Авраама и Иова? Обычно такого вопроса и не ставят. Предпочитают спрашивать: как «примирить» истины Сократа и греческого симпозиона с истинами Авраама и Иова. Задолго до того, как Библия стала проникать к европейским народам, этот вопрос был так поставлен Филоном Александрийским. И был им разрешен в том смысле, что Библия не только не находится в противоречии с греческой философией, но что все, чему греки учили, было ими почерпнуто из Св. Писания. Платон и Аристотель – только выученики Авраама, Иова, псалмопевцев и пророков (апостолов тогда еще не было).
Сам по себе Филон не был ни крупным философом, ни вообще очень выдающимся человеком. Он был образованным, культурным, благочестивым и очень преданным вере отцов своих иудеем. Но история, когда ей нужно, умеет использовать посредственных и даже ничтожных людей для выполнения самых грандиозных замыслов своих. Идее Филона об отношении Библии к греческой мудрости суждено было сыграть огромную историческую роль. После Филона никто уже не решался принимать Библию такой, какой она была на самом деле; все стремились видеть в ней своеобразное выражение греческой мудрости. У Гегеля в «Философии религии» мы читаем: «В философии религия получает свое оправдание от мыслящего сознания. Мышление есть абсолютный судья, пред которым содержание (религии) должно оправдать и объяснить себя». Так именно уже думал, за две тысячи лет до Гегеля, Филон. Он не «мирил» Св. Писания с греческой мыслью, – он его оправдывал пред ней. И, конечно, не мог этого сделать иначе, как предварительно «истолковав» Библию так, как это нужно было, чтоб добыть искомые оправдания и объяснения. Тот же Гегель, описывая в своей «Логике» сущность мышления, заявляет: «Когда я мыслю, я отрекаюсь от всех своих субъективных особенностей, углубляюсь в самое вещь и дурно мыслю, если я прибавляю хоть что-нибудь от себя». Когда Филон толковал Библию под руководством греческих философов, – он тогда стремился заставить авторов библейских повествований и даже Того, от имени которого эти повествования велись, отречься от всех субъективных особенностей. В этом смысле Филон стоял уже вполне на уровне образованности Гегеля. Филон воспитался на греческих философах и твердо усвоил себе мысль, что не только языческие боги, но и Бог Св. Писания стоит под истиной, которая только тогда открывается мыслящему существу, если оно всецело отречется от себя и погрузится в вещь. После Сократа уже никто иначе не мог, не должен был думать. Миссия, возложенная историей на Филона, состояла в том, чтобы доказать людям, что Библия не противоречит и не вправе противоречить нашему естественному мышлению.
Киргегард ни в своих книгах, ни в дневниках о Филоне не вспоминает. По надо думать, что, если бы ему пришлось вспомнить о Филоне, он его назвал бы Иудой до Иуды. Тут уже было первое предательство, не менее потрясающее, чем предательство Иуды: все было, полностью – вплоть до лобызания уст. Филон превозносил до небес Св. Писание, но, превознося, отдавал его под руку греческой философии – т. е. естественному мышлению, умозрению, умному зрению. Киргегард о Филоне молчит. Свои громы он направляет против Гегеля и именно потому, что Гегель был провозвестником (для нового времени) «объективного» мышления, которое, отрекаясь от того, что является «субъективной» особенностью живого существа, видит истину и ищет ее в «вещи». Но Сократа он все же бережет, щадит – словно, скажу еще раз, бессознательно перестраховывая себя на случай, если Авраам и Иов не выручат. Даже в те минуты, когда он обращается со своим грозным «Entweder-Oder» к благополучным мирянам и женатым пасторам (или, пожалуй, в такие минуты в особенности), он укрывает Сократа в какой-то и ему самому невидимой складке души своей. Он призывает к Абсурду, к Парадоксу, но все же Сократа от себя не отпускает.
И это, быть может, не покажется уже так «недозволенным», если мы вспомним, с какой нуждой он пошел к Аврааму и Иову. В дневниках своих он много раз повторяет, что никогда не назовет конкретным словом того, что с ним произошло, и даже торжественно запрещает всем допытываться об этом. Но в своих сочинениях он не мог об этом не рассказывать, в своих сочинениях он только об этом и рассказывает – правда, не от своего имени, а от имени разных вымышленных лиц, – но все же рассказывает. В конце «Повторения»[18] он заявляет, что для него превратилось в событие мирового значения то, что, случись это с другим, разрешилось бы пустяками. В «Этапах жизненного пути» он пишет: «Мое страдание – скучно: я сам это знаю». И через страницу повторяет: «Не только он мучается несказанно, но его страдание скучно. Если бы не так скучно было, может быть, кто-нибудь принял бы в нем участие». И еще: «Он так ужасно страдал из-за пустяков».[19] В чем было это скучное страдание? На это он даст определенный ответ: «Он чувствует, что не способен к тому, к чему способны все – быть супругом».[20] И еще, в той же книге он признается: «Девяти месяцев, проведенных в утробе матери, достаточно было, чтоб сделать из меня старика».[21] Такие признания рассыпаны у него по всем книгам и дневникам – можно было бы без конца выписывать. Я приведу только одно место из его дневника за 1846, в котором он, вопреки данному им обету, все же называет «конкретным» словом то, что с ним произошло. «Я в настоящем смысле этого слова – несчастнейший человек, человек, с ранних лет пригвожденный всегда к какому-либо доводящему до безумия страданию, связанному с какойто ненормальностью в отношении моей души к моему телу… я говорил по этому поводу с врачом моим и спросил его, полагает ли он, что эта ненормальность может быть излечена так, чтобы я мог осуществлять общее. Он выразил сомнение. Тогда я опять спросил его, не думает ли он, что дух человека может своей волей что-нибудь изменить или исправить тут. Он и в этом усомнился. Он не советовал даже мне пытаться напрячь всю силу моей воли – которая, он знал, может все вместе взорвать. С этой минуты выбор мой был сделан. Эту печальную ненормальность (которая большинство людей, способных понять мучительность такого ужаса, без сомнения, привела бы к самоубийству) я воспринял как ниспосланное мне жало в плоть, как мой предел, мой крест, как огромную цену, за которую Отец небесный продал мне силу духа, не знающую себе равной меж современниками. И еще раз: „Что меня касается, то с юных лет мне было ниспослано жало в плоть. Не будь этого, я бы уже давно жил обыкновенной светской жизнью“.[22] Одна из замечательнейших по глубине и потрясающей силе изложения речь Киргегарда называется «Жало в плоть», и смысл ее может стать понятным только в свете признаний, сделанных в приведенных сейчас отрывках из его дневника, как тоже может стать понятным только после этих признаний утверждение Киргегарда, что грех есть «обморок свободы» и что понятие, противоположное греху, есть не добродетель, а вера. Обморок свободы так изображается в «Повторении»: «Я не могу обнять девушку, как обнимают действительно существующего человека, я могу только ощупью прикасаться к ней, подходить к ней, как подходят к тени».[23] Не только Регина Ольсен – весь мир обратился для Киргегарда в тень, в призрак. Сделать же «движение веры», которое вернуло бы миру и Регине Ольсен реальность, как он сам не раз и не два повторяется в своих книгах и дневниках, ему не дано. Дано ли это другим людям? Киргегард не спрашивает об этом. Большая часть рассказа «Wiederholung» и той части «Этапов жизненного пути», которая называется «Виноват – невиноват», ведется как будто в совсем иной тональности. История неосуществленной любви излагается там не так «просто» и не так «скучно». И Киргегард прав, конечно: если бы он рассказывал только то, что с ним действительно было, кто «принял бы в нем участие», кто заинтересовался бы им? Поэтому признания, вроде мной приведенных, хотя их немало, только вкраплены в повествование – общая же тема как будто сводится к тому, что герой должен был покинуть свою невесту потому, что она для него была не «возлюбленной мужчины, а музой поэта». Это, конечно, не так скучно и не так смешно. Но Киргегард предпочитает, чтоб и его невеста, и все люди считали его развратником и негодяем, чем чтобы они узнали его тайну. И все же в нем жила неудержимая потребность оставить в писаниях след действительных своих переживаний. «Я жду бури и повторения. О, если бы пришла буря! Что должна принести буря? Она должна меня сделать способным быть мужчиной».[24]
За этим он пошел к Иову, к Аврааму, за этим он пошел к Св. Писанию. Гегеля, как и всю умозрительную философию, он возненавидел потому, что в философских системах для его вопроса не находилось места. Когда он говорил, что скрывал от всех свой позор и свое несчастье по поводу того, что ему не дано было понять великого человека, т. е. Гегеля, это менее всего значило, что он не мог справиться с отвлеченной сложностью гегелевских философских построений. Этих трудностей Киргегард не боялся: он с молодости приучился читать философских авторов, изучал в оригинале Платона и Аристотеля и легко разбирался в тонких и сложных аргументациях. В его устах «не понимал» значило совсем иное: почти что «слишком хорошо понимал» – слишком хорошо понимал, что гегелевская философия принципиально сводит его вопрос к нулю. Она может «объяснить» случай Киргегарда, как она «объясняла» случай Сократа, Тридцатилетнюю войну или какое угодно большое или малое историческое событие, и затем требует, чтобы ее объяснениями человек удовлетворился и прекратил свои вопрошания. Это-то требование и было тем, чего «не понимал» в Гегеле (т. е. в умозрительной философии) Киргегард. Не понимал, так как полагал, что, по существу дела, ему следует этому требованию покориться и что сам Гегель на его месте вполне бы удовлетворился тем, что ему могла предложить умозрительная философия, но что он, Киргегард, так ничтожен и беден духом, что не способен подняться на ту высоту, где парит мысль Гегеля. Оттого он о своем непонимании Гегеля говорит как о позоре и несчастье. Он мог бы вспомнить о μισόλογος’e (ненавистнике разума) Платона и сказать себе, что на нем осуществилась угроза божественного философа: тот, кто не довольствуется светом разумных объяснений – ведь и есть μισόλογος, а μισόλογος обречен на величайшие беды. Но о платоновском завете Киргегард почти никогда не вспоминает, точно старается забыть, что первый, открывший людям смысл и цену умозрения, был не Гегель, а Платон. Он даже и Аристотеля оставляет в покое. И Платон, и Аристотель еще слишком тесно связаны с Сократом, а Сократа надо беречь. Наверное, не раз спрашивал себя Киргегард, как бы поступил на его месте мудрейший из людей: Сократ ведь не мог идти за помощью к Иову или Аврааму. Да если бы и мог – пожалуй, не пошел бы… Эпиктет, не колеблясь, заявил нам, что даже печали Эдипа и Приама Сократа не застали бы врасплох. Он не стал бы ни жаловаться, ни плакать, ни проклинать, а сказал бы то, что сказал в тюрьме Критону: «О дорогой Критон, если богам угодно, пусть будет так». Умозрение Гегеля сводилось к тому же. Все его «объяснения» имели тот же смысл, что и размышления Эпиктета о Сократе и Эдипе: действительность разумна. А с разумом спорить нельзя и невозможно. Надо полагать – дальнейшее изложение подтвердит это предположение, что Киргегард не обрушился бы на Гегеля с таким негодованием и презрением, если бы действительность, которую пришлось Гегелю осуществить в своей жизни, была бы такой, какая выпала на долю Сократа: т. е. если бы Гегель жил в нужде, терпел всяческие преследования и под конец был отравлен за верность идее. Тогда он считал бы его философию не пустой болтовней, над которой потешаются олимпийские боги, а настоящим делом, тогда бы он называл ее экзистенциальной, а самого Гегеля признал бы «свидетелем истины». Но Гегель возвещал, что действительность разумна, т. е. что она такая, какой ей быть полагается, что ей вовсе и не нужно быть другой – единственно потому, что ему удалось благополучно обойти подводные камни, о которые разбиваются другие люди: чего стоит такая философия! Впоследствии – незадолго до смерти – Киргегард обрушился на епископа Мюнстера. Мюнстер, как и Гегель, мог искренне считать уготованную ему судьбой или созданную им самим себе действительность разумной. Он много лет подряд возглавлял датскую христианскую церковь – но это не мешало ему быть и богатым, и женатым, и всеми уважаемым и почитаемым. Его христианство не спорило с разумом. Оно было и «понятным», и «желательным»: ведь «действительность разумна» у Гегеля и значило, что действительность и понятна и в своей понятности приемлема как лучшее из всего возможного и даже невозможного. Мюнстер умер глубоким стариком в сознании, что прожил свою жизнь, как полагается благочестивому и верующему христианину… И над его могилой ученики его и друзья, тоже верующие христиане и просвещенные люди, торжественно провозгласили устами его зятя профессора философии Мартензена (убежденного гегелианца), что покойный был «свидетелем истины». Киргегард не задевал Мюнстера при его жизни. Мюнстер был духовником его отца, память которого Киргегард благоговейно чтил, носил на руках самого Киргегарда и считался в их семье образцом всех добродетелей. На проповедях Мюнстера Киргегард воспитался: он постоянно их слушал и перечитывал. Но в душе его накапливалось все больше и больше отвращение к благополучному христианству Мюнстера, и, когда Мюнстер так же спокойно умер, как и жил и перед смертью не только не раскаялся и не повинился пред Богом, но еще каким-то образом ухитрился заворожить всех знавших его и оставить по себе память человека, «свидетельствовавшего об истине», Киргегарда прорвало и он, со всей безудержностью, отличавшей его писания, еще над раскрытой могилой епископа в самой резкой форме заявил протест против речи Мартензена. Киргегарду и самому оставалось уже недолго жить – и он знал это. И все же, сам почти мертвый, он бешено набросился на совсем мертвого противника. Мог ли он иначе поступить?
В том же «Повторении», из которого мы уже привели целый ряд выписок, герой рассказа в таких словах говорит о постигшей его судьбе: «Что это за сила, которая хочет отнять у меня мою честь и мою гордость, да еще так бессмысленно? Неужели я вне покровительства законов?»[25] А в «Этапах жизненного пути», словно поясняя смысл этого вопроса, Киргегард пишет: «Что такое честь, спрашивает Фальстаф? Может она заменить ногу? Не может. Может заменить руку? Не может. Ergo[26] честь есть воображение, слово, размалеванная вывеска… Это ergo – ложно. Честь, правда, если ею обладаешь, ничего этого дать не может, но если ее потерять – она может сделать противоположное: она может отрубить руку, отрубить ногу, послать в изгнание, которое хуже Сибири. А раз она это может – стало быть, она уже не воображение. Пойди на поле сражения и взгляни на убитых, пойди в госпиталь и взгляни на раненых: никогда не найдешь ты там ни среди убитых, ни среди раненых человека, который бы был так изуродован, как тот, с которым расправилась честь».[27] Не может быть сомнения, что Киргегард «свидетельствует об истине», хотя и не в том, конечно, смысле, в каком, по словам Мартензена, свидетельствовал об истине Мюнстер. Иначе выражаясь: Киргегард рассказывает правду о себе. Он был лишен покровительства законов и, точно проказой, покрыт бесчестием. Недаром, в тех же «Этапах жизненного пути», он поместил свои потрясающие «Мемуары прокаженного». Может у него быть общий язык с Мартензеном или Мюнстером? Не очевидно ли, что на него надвинулось со всей неумолимостью и беспощадностью какое-то извечное и страшное «Entweder-Oder»? Либо Гегель, Мюнстер, Мартензен, благополучное христианство и те «законы», которые оберегают их действительность, либо новые «законы» (а может быть, даже и не законы, а что-то на законы совсем и не похожее), которые убьют законы старые, низвергнут мнимых свидетелей истины и восстановят в правах раздавленного Киргегарда. «Честь», правда, не властна вернуть человеку оторванную руку или ногу, но зато ей дано не только отрывать руки и ноги, но и сжигать души людей. У кого узнал Киргегард эту истину? Вне христианства, говорил он нам, не было человека, равного Сократу. Но не остается ли и в христианстве Сократ по-прежнему единственным источником истины?
III. Отстранение этического
Авраам переходит границу этического… Либо этическое не есть высшее, либо Авраам погиб.
Киргегард
«С ранней молодости, – рассказывает Киргегард, – я жил в постоянном противоречии: другим я казался необычайно одаренным, но в глубине души своей я знал, что не гожусь никуда».[28] Кто был прав – другие ли, считавшие Киргегарда необычайно одаренным, или он сам, знавший, что он ни на что не годен? Можно ли такой вопрос ставить по поводу Киргегарда? Он сам говорит: «Я могу только религиозно, перед Богом, понять самого себя. Но между мной и людьми стоит стена недоразумения. У меня нет с ними общего языка».[29] И точно, как согласовать запросы Киргегарда с тем, чего ищут «все»? «Все» считают его очень одаренным – он знает, что не годится никуда. Все полагают, что он страдает из-за пустяков, а для него его страдание – всемирно историческое событие. Уверенность в том, что «все» никогда не согласятся признать его «страдания» заслуживающими хотя бы какого-нибудь внимания» лишает его возможности поделиться с людьми своей тайной, и это доводит его мучения до крайности, делает их нестерпимыми. Где найти инстанцию, которая рассудит между Киргегардом и «всеми», между Киргегардом и «общим»? И есть ли такая инстанция? На первый взгляд – тут как будто и вопроса никакого нет: совершенно очевидно, что отдельный человек должен быть вперед готов покориться общему, как бы ему трудно ни было, и в этой согласованности с общим искать смысла своего существования. Затем – и это самое главное – какой удельный вес пред лицом истины имеют такие слова, как страдание, мучение, ужасы, – будут ли они произнесены Киргегардом, или Иовом, или Авраамом? Иов говорит: если бы мою скорбь и мои страдания положили на весы, то они были бы тяжелее песка морского. Даже Киргегард не решается повторить эти слова Иова. Что сказал бы Сократ, если бы ему довелось такое услышать? Может ли «мыслящий» человек так говорить? А между тем Киргегард единственно потому ушел к «частному мыслителю» Иову от знаменитого философа Гегеля, что Иов смел так говорить. Иов тоже, выражаясь языком Киргегарда, «выпал из общего», у него тоже не было общего языка с другими людьми. Иова выпавшие на его долю ужасы довели до безумия, а «человеческая трусость не может вынести того, что имеют рассказать о жизни смерть и безумие».[30] Киргегард постоянно повторяет, что большинство людей даже и не подозревает, какие ужасы таит в себе жизнь. Но «прав ли» Киргегард, прав ли Иов? Не есть ли это бесспорная и самоочевидная истина, что безумие и смерть – есть «просто» конец всего, подобно тому как тоже бесспорная и самоочевидная истина, что страдания и скорби Иова и даже всего человечества ни на каких весах не перевесят песка морского? Так что «все», т. е. те, которые не знают и не хотят знать, что такое ужасы жизни, находятся в более благоприятных условиях для постижения истины, чем те, которые эти ужасы испытали?
Мы стоим пред основным вопросом Киргегарда: на чьей стороне истина, на стороне «всех» и их «трусости» или тех, кто дерзнул взглянуть в глаза безумию и смерти? За этим, только за этим он, покинув Гегеля, пошел к Иову, и этим моментом определяется черта, отделяющая экзистенциальную философию от умозрительной. Уйти от Гегеля значило отречься от разума и броситься без оглядки к Абсурду. Но, как мы сейчас увидим, путь к Абсурду оказался загражденным «этикой»: пришлось не только разум, но и этическое отстранить. В дневниках своих Киргегард говорил, что тот, кто хочет понять экзистенциальную философию, должен понять смысл, кроющийся под словом «отстранение этического». Пока «этическое» стоит на пути, нельзя прорваться к Абсурду. Правда – и это нужно теперь же сказать: не сбросив с пути «этического», мы не можем пройти к Абсурду, но это не значит еще, что «этическое» есть единственное препятствие, которое приходится преодолеть экзистенциальной философии. Самое трудное остается впереди. Мы знаем уже, что этическое родилось вместе с разумным и от одних родителей, что необходимость есть родная сестра долженствования. Когда Зевс, принужденный Необходимостью ограничить права человека на его тело и мир, решил дать ему в возмещение потерянного нечто «лучшее от самих богов», это лучшее было «этическим»: от Необходимости боги и себя, и людей могли спасать только одним способом: долженствованием. Остранивши этическое и отказавшись от дара языческих богов, человек сталкивается грудь с грудью с Необходимостью. И тут уже нет выбора: надо вступить с нею в последнюю и отчаянную борьбу, от которой даже боги отказались и исход которой вперед никто предугадать не может. Или, точнее: поскольку мы захотим предугадывать, придется сказать, что тут двух мнений быть не может. С Необходимостью и боги не борются, перед Необходимостью отступили величайшие мудрецы: не только Платон и Аристотель, сам Сократ признавал, что борьбы тут быть не может и – так как борьба за невозможное бессмысленна, – то, стало быть, борьбы быть и не должно. Если кому до сих пор не было видно, то, быть может, теперь он увидит, где лежит место встречи между разумным и этическим: как только разум усматривает необходимость и провозглашает свое «невозможно», этическое уже тут как тут со своим «ты должен». Друзья Иова в речах, обращенных к валявшемуся на навозе замученному старцу, оказываются не менее просвещенными, чем греческие философы. Если формулировать кратко их длинные речи, все сведется к тому, что говорил обыкновенно Сократ, или, если довериться Эпиктету, что сказал Зевс Хризиппу: раз нельзя преодолеть, стало быть – и людям, и богам – должно принять. И, наоборот, если захотеть в коротких словах передать ответ Иова друзьям, – то получится, что на свете нет такой силы, которая принудила бы его «принять» то, что с ним произошло, как должное и как окончательное. Иначе говоря: не только «право», но и «власть» Необходимости ставится под вопрос. Точно ли в самом деле Необходимости дана власть распоряжаться судьбами людей и мира? Есть ли это «самоочевидная истина» или кошмарное наваждение? Как случилось, как могло случиться, что человек принял эту власть и покорился ей? И еще больше: как могло случиться, что «этическое», с которым люди связывают все, что есть самого значительного, нужного, ценного в жизни, пришло со своим «ты должен» на защиту бессмысленной, отвратительной, тупой, глупой и слепой Необходимости? Может ли человек жить в мире, пока в нем господствует Необходимость? Может ли человек не прийти в отчаяние, когда он убеждается, что Необходимость, не довольствуясь находящимися в ее распоряжении средствами внешнего принуждения, ухитрилась переманить на свою сторону его собственную «совесть» и заставить ее слагать гимны своим злодейским делам?
Это и погнало Киргегарда от Гегеля и умозрительной философии к «частному мыслителю» Иову. Иов доказал «ширину своего миросозерцания той непоколебимостью, которую он противопоставляет всем ухищрениям и нападкам этики»,[31] – пишет Киргегард. Пусть друзья Иова «лают» на него, сколько им вздумается, продолжает он, пусть не только друзья, пусть мудрейшие люди всех времен и народов лают вместе с друзьями, чтоб убедить его в правоте «этического», требующего от него радостной покорности постигшей его судьбе. Для Иова «ты должен» этического – пустой звук, и «метафизические утешения», которые пригоршнями бросают ему друзья, – только вздорная болтовня. И не потому, что его друзья недостаточно мудры и просвещенны. Нет, они постигли всю человеческую мудрость, и они могли бы украсить собой любой из эллинских симпозионов. Филон, цитируя эти речи, без труда мог бы доказать, что великие греки добыли свою мудрость из Библии – не пророков и псалмопевцев, правда, а из изречений друзей Иова: этика (долженствование) покрывает собой Необходимость – где человек не может, он не вправе и хотеть. И точно: если разум всевидящ и умеет точно определить, где кончается возможное и начинается невозможное, тогда этика, покрывающая его и на него опирающаяся, обеспечена in sæcula sæculorum[32] и мудрость друзей Иова, как и греческая мудрость, священна. Если?! Но тут-то является вопрос: что такое сама Необходимость? И чем держится ее власть? Отчего люди и боги, точно завороженные ею, не смеют или не умеют отказать ей в повиновении? Еще раз повторяю уже раньше поставленный вопрос: как случилось, что этика, придуманная лучшими из людей, защищает и благословляет эту власть? Пред судом этики прав не Иов, а его друзья: не может же в самом деле разумный человек рассчитывать и требовать, чтобы из-за него переделывались законы мироздания! И Иов именно так и поступает: он не хочет «рассчитывать», не хочет считать – и требует, и на все представления его друзей у него один ответ: скучные вы утешители. Киргегард же вторит ему, жертвует ради него Гегелем, отстраняет этику, отрекается от разума и всех великих завоеваний, которые, благодаря разуму, делало в течение своей тысячелетней истории человечество. На все, что ему до сих пор внушали его учителя, он, словно в забытьи, отвечает не словами, а – для нашего уха – почти уже нечленораздельными звуками – и даже не отвечает, а не своим голосом кричит: «Что это за власть, которая отняла у меня мою честь и гордость, да еще таким бессмысленным образом?» Кричит, точно бы в его криках была какая-то сила, точно он ждет, что от них, как от иерихонских труб, стены начнут валиться.
Где же «бессмыслица»: в той ли власти, которая отняла у Иова (точнее, у Киргегарда) его честь и его гордость, или в том, что Киргегард вообразил себе, что от его криков начнут стены валиться? С ним случилось, правда, нечто неслыханное, почти невероятное, непостижимое ни для него самого, ни для других: он, такой же человек, как и все, оказался вне покровительства законов. Вдруг, без всякой видимой причины, он при жизни был вышвырнут за пределы реальности: все, к чему он прикасался, превращалось в тень, как все, к чему прикасался мифический Мидас, превращалось в золото. За что? Почему? Друзья Иова, как и друзья Киргегарда, без особенного труда находили этому достаточные, более чем достаточные основания. Уже одного того обстоятельства, что и Иов, и Киргегард являются ничтожными звеньями бесконечной цепи бесконечно изменяющихся явлений мироздания, может считаться объяснением вполне удовлетворительным для «нормального» сознания. Даже сам Иов, вначале, когда стали приходить вести о первых бедах, с достойным и ясным спокойствием и в полном соответствии с требованиями этического, говорит, как и полагается мудрому человеку (совсем как, по словам Эпиктета, сказал бы Сократ, если бы он оказался в положении Приама или Эдипа): Бог дал, Бог взял. Но чем больше накопляются беды, тем он становится нетерпеливее и тем подозрительней делаются для него и его «знание» о неизбежном и неотвратимом, и его мораль, внушавшая ему готовность радостно нести выпавший на его долю жребий. «Не тогда, – говорит Киргегард, – проявляется величие Иова, когда он говорит: Бог дал, Бог взял, да будет благословенно имя Господне – так он говорил вначале и потом уже этого больше не повторял; значение Иова в том, что он довел борьбу до тех пределов, где начинается вера».[33] И еще раз: «Величие Иова в том, что пафос его свободы нельзя удушить лживыми посулами и обещаниями».[34] Это все – так. Но еще не в этом главное. Главное, и для самого Иова, и для Киргегарда, в другом – и менее всего в величии Иова. Разве Иов нуждается в похвалах и отличиях? Разве вообще он ждет одобрения от кого-нибудь или от чего-нибудь? И Киргегарду ли это нужно напоминать – Киргегарду, который потому и пошел к Иову, что Иов «отстранил» этическое? Вопрос тут не в том, великий или не великий, достойный или не достойный человек Иов: все эти вопросы остались уже далеко позади. Вопрос в том, можно ли с криками, жалобами и проклятиями, т. е., по-нашему, с голыми руками идти против предвечных законов и природы? Иов, может быть, и не знал, но Киргегард знал, что в новой философии вопрос этот раз навсегда решен: non ridere, non lugere, neque detestari – sed intelligere[35] – это положение Спинозы бесспорно. И если экзистенциальная философия «частного мыслителя» Иова хочет это положение обернуть и ждет истины не от понимания, а от своих воплей и проклятий, то вряд ли уместно переводить вопросы в плоскость субъективной оценки личности Иова. И все-таки Киргегард не случайно два раза говорит о величии Иова. Кстати, он не дает себе труда объяснить, почему такое – Иов был велик не тогда, когда говорил «Бог дал, Бог взял», а тогда, когда произносил неистовые слова о том, что его страдания тяжелее песка морского. Кто в таких случаях решает, где величие и где ничтожность? А что, если наоборот: Иов был велик, пока с душевной ясностью принимал свои беды, а когда он утратил ясность и спокойствие, он стал жалким, ничтожным и смешным. Кому решать этот вопрос? До сих пор он целиком подлежал компетенции этики. У нас есть даже для этого готовая формула, давно вычеканенная греками. Цицерон и Сенека перевели ее словами: fata volentem ducunt, nolentem trahunt.[36] He тот велик, кого судьба тащит, точно пьяного в участок, а тот, кто сам «свободно» идет, куда судьба ему идти предназначила. Эдип кричал, плакал и проклинал, но Сократ, как нам объяснил Эпиктет, на месте Эдипа был бы так же невозмутимо ясен, как и тогда, когда он принимал от тюремщика чашу с ядом. Не может быть двух мнений: если Сократ придет с Иовом на суд этики – Иов свое дело проиграет. Киргегарду это известно. Он знает, что единственный способ для Иова добиться своего – это оспорить подсудность своего дела этике. Он пишет: «Иов благословен, ему вернули все, что у него было и даже вдвойне. И это называется повторением… Таким образом, есть повторение. Когда оно наступает? На человеческом языке этого не скажешь. Когда наступило оно для Иова? Когда всякая мыслимая достоверность и вероятность говорили о невозможном». И тут же, отождествляя свое собственное дело с делом Иова, он продолжает: «Я жду грозы и повторения. И что принесет это повторение? Оно сделает меня способным быть супругом».[37]







