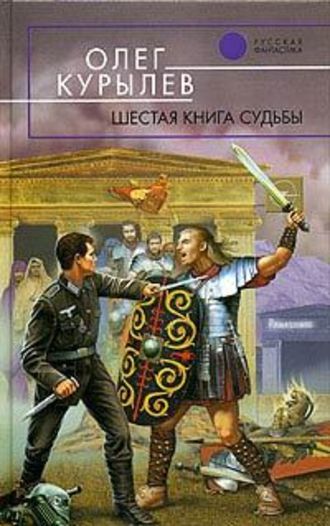
Олег Курылев
Шестая книга судьбы
Уже не первый год гору, опушку леса, овраг или строение он оценивал с точки зрения их полезности для войны. Даже если в этом не было совершенно никакой необходимости.
Второй день Мартин жил здесь в казарме на окраине. Его таки зачислили в спешно формируемую танковую бригаду, получившую номер «150». Любой из прибывающих сюда, так же как и он, быстро понимал, что бригада эта очень непроста. Здесь гораздо больше ценилось знание английского языка, нежели умение владеть танком. Да и самих танков было уж очень мало. И люди, и техника собирались сюда по крохам со всех закоулков Западного фронта.
«Угораздило же меня заговорить тогда с этим негром, – в который раз сокрушался Мартин, выходя на проселочную дорогу в направлении своей части. – Как там его звали? Джефри Льюис? Лучше бы ты утонул вместе со своим пароходом в этой вашей Миссисипи, Джефри. Эх, быть бы мне теперь уже дома»!
Тайна с исчезновением переводчиков понемногу прояснялась. Похоже, их свозили сюда. Сюда же стаскивали всякий трофейный хлам: американское стрелковое оружие, «Студебеккеры», джипы, «Виллисы» и даже пару раздолбанных «Шерманов». Ни для кого уже не было большим секретом, для чего в одном месте собирают тех, кто владеет английским, и трофейное оружие западных союзников. Последние сомнения отпали, когда стало известно, что командует, а вернее, еще только собирает бригаду не кто иной, как Отто Скорцени. Вот только что конкретно задумал на этот раз удачливый похититель Муссолини и Хорти?
– Мартин!
Мартин обернулся и увидел направлявшегося к нему унтер-офицера в грязной, обрезанной до колен шинели. Погоны этого штабсфельдфебеля были до того измызганы наплечными ремнями рюкзака или солдатской портупеи, что Мартин с трудом различил на них три потускневшие звезды и зеленую выпушку. Галун местами вовсе оторвался.
Унтер подошел ближе. Борода, усы, обветренное лицо. На голове пилотка с опущенными на уши отворотами. На животе автомат. Поясной ремень провис под тяжестью навешанных на него подсумков и амуниции.
– Не узнаешь?
– Вы из 3-й дивизии?
– Черт возьми, Мартин! Я Вальтер Бюрен. – Он снял пилотку и тряхнул головой.
– Вальтер?
Действительно, это был Вальтер. Подойди он просто и попроси прикурить, Мартин ни за что не узнал бы старого друга.
– Вальтер!
Хлюпая грязью и сдвинув на бок кобуру, он сделал шаг навстречу. Они обхватили друг друга руками.
– Не может быть! Вот это встреча! Как ты сюда попал?
– Сам не пойму. Последние три месяца я работал инструктором в горном лагере. Кому-то пришла в голову мысль скоренько переделать несколько пехотных дивизий в горные. Слыхал о «Горной крепости»? Ну так вот. Собрали нескольких человек вроде меня… Я ведь одно время до войны уже поработал инструктором. Потом расскажу подробнее. Сколько же мы не виделись?
– Да с тех самых пор, как попрощались в альплагере в тридцать восьмом. – Мартин посчитал в уме. – Шестой год пошел. Я уж, откровенно говоря, и не думал тебя вовсе увидеть.
– А я знал, что встретимся!
– Так ты что, тоже попал в эту чертову бригаду? Где тебя-то выловили?
– Узнали, что я немного говорю по-английски. При переводе в тыл я заполнял какую-то анкету и сдуру написал об этом. Недавно пришел приказ ехать сюда. Моя часть километрах в трех по той дороге. Слушай, по-моему, затевается какая-то заварушка. Час назад я видел, как с грузовиков выгружали тюки с американской формой. Ну а вы, господин оберлейтенант? Как вас угораздило?
– Слушай, черт бородатый, видишь вон тот сарай? Приходи туда часам к десяти. Я разберусь с делами, и мы обо всем поговорим. – Мартин хлопнул себя по тяжелой фляге. – У меня тут кое-что есть, но, если и ты захватишь, лишним не будет.
Через несколько часов они сидели на пустых снарядных ящиках в заброшенном сарае, запримеченном Мартином еще накануне. В железной печке потрескивали дрова. В дверной проем смотрели первые декабрьские звезды. Потом звезды погасли и закружились снежинки.
Они разложили консервы, хлеб, сняли с фляжек и поставили на импровизированный стол из рассохшегося бочонка бакелитовые стаканчики и проговорили до самого утра.
XIX
– После высокогорного лагеря я вернулся обратно, в нашу часть, – начал свой рассказ Вальтер, – но вскоре опять попросился наверх с новой группой кандидатов в альпийский батальон. Мне разрешили вторую попытку. Однако чуда не произошло. Когда мы шли вдоль обрыва или по узкому мостку над ущельем, я опять терял власть над собой. Я с трудом удерживался, чтобы не схватиться за товарища и не заорать благим матом.
Однажды, когда был день отдыха, я попросил разрешения отлучиться из лагеря и взял с собой веревку, крючья и молоток. Неподалеку, на южном склоне, была стена над стометровым обрывом. К ней вел узкий карниз, а дальше – плоскость, почти без выступов. Я вбил первый крюк и медленно двинулся по этой стене на самую середину. Сначала я старался не смотреть вниз и не думать о высоте. Я весь сосредоточился на крючьях, карабинах и репшнурах. Но пот катил с меня градом, и вовсе не от жары. Когда я достиг самой середины, то оказался на нулевом угле. На абсолютной вертикали. Я висел, едва касаясь скалы, а подо мной, метрах в восьмидесяти, стоял туман, из которого поднималась стена, так что я даже не видел ее подошвы.
Я заставлял себя смотреть вниз, а когда мне становилось совсем плохо, приникал ладонями и щекой к скале, рассматривал на ее поверхности щербинки и выступы и думал о доме, нашем городе, вспоминал почему-то твою дуэль. Становилось легче. Потом я снова смотрел вниз, крутился на веревке и раскачивался. Буквально молотком я вбивал в свое сознание мысль, что я паук, буду жить на этой скале и висеть так вечно. С собой у меня была фляга и немного еды, а за спиной висел карабин. Через силу я заставлял себя пить и есть, а потом, намотав ремень карабина на руку, орал во все горло и стрелял вниз, в облака.
Так я проболтался часов шесть. Сплел себе удобное сиденье. Чтобы не замерзнуть, делал зарядку. Мочился прямо вниз и ругался последними словами, посылая ко всем чертям эту высоту. Затем по старым крючьям вернулся назад на карниз и, совсем окоченевший, пришел в лагерь.
На следующее утро мой командир подозвал меня и спросил, знаю ли я стену на южном склоне. Он имел в виду то самое место, где я упражнялся накануне. Когда я ответил, что знаю, он предложил мне пройти ее ведущим группы из пяти наших лучших альпинистов. Оказывается, он наблюдал за мной в бинокль с расположенного ниже нашего лагеря плато, где был небольшой горный пансионат и куда мы спускались в дни отдыха помыться в бане и посмотреть кино.
И я прошел ее. И по моим крючьям прошли остальные. А когда мы висели в самой середине, устроив привал, и ждали, когда уляжется дрожь в руках, я один из всех достал бутерброды, ел их и рассказывал старые анекдоты. Правда, никто не смеялся.
Потом я несколько месяцев работал помощником инструктора в нашем лагере, а когда приехал в Брауншвейг, то разминулся с тобой. Ты как раз закончил училище.
А потом Польша. Мы шли через перевал Дукла на Лемберг, и это уже была война. Помогая артиллеристам, мы тащили их лошадей и осликов с пушками, помогая саперам, наводили переправы. Мы прошли триста километров, и там, в Карпатах, я впервые услышал свист пуль и увидел иссеченные каменными осколками лица товарищей.
Ну а потом были Франция, Бельгия, Голландия. Мы форсировали Маас и впервые схлестнулись с французами под Рокруа Но самые кровавые бои нас ждали в Югославии…
В начале сорок первого я получил письмо от Мари Лютер. Она узнала номер нашей полевой почты у моих родителей и написала. Писала она в основном о тебе. Тогда я узнал, что ты служишь в Норвегии у Дитля и получил крест за Нарвик. Значит, ты был в 3-й дивизии, и в Польше мы находились недалеко друг от друга..
Вальтер замолчал и стал наполнять стаканчики. Они выпили, и Мартин коротко рассказал свою историю, также остановившись на рубеже, после которого начиналась роковая для всех них Восточная кампания.
Снова пришла очередь Вальтера. Он закурил, взъерошил свою кудрявую шевелюру и начал:
– Летом сорок второго нас, как ты знаешь, бросили на Кавказ. Ближе к середине августа 49-й горный корпус, составленный из 1-й и 4-й дивизий, начал первые бои за перевалы Генерал Конрад вел нас на Главный Кавказский хребет. Нашей дивизией тогда командовал генерал-лейтенант Хуберт Ланц. Мы носили неофициальное название «Эдельвейс» и двинулись в направлении на Эльбрус.
Это было здорово! Русские защищались отчаянно. Им помогала авиация, и их летчики творили чудеса. Я никогда раньше не видел, чтобы неуклюжие бипланы садились на такие маленькие пятачки на вершинах скал. Когда они взлетали, то сначала ныряли в пропасть, чтобы в падении набрать скорость, и только потом взмывали вверх, едва не касаясь колесами гребней гор.
Нам приходилось идти на всевозможные хитрости. То пускать впереди себя отару овец, которая вела нас кратчайшей и безопасной дорогой. То мы по нескольку раз переходили по пояс в ледяной воде одну и ту же горную реку, чтобы сбить противника с толку. Конечно, мы разбились на батальоны и роты, ведь, как ты знаешь, в горах невозможно идти плотной колонной, как на равнине. Батальон – это предел, который может вести очень опытный командир, сохраняя управление. Наша дивизия разбрелась по горам на десятки километров. Мы не могли знать всех замыслов и задач не только Конрада или Ланца, но даже нашего 98-го полка. Мы знали только задачу своего отряда на три-пять дней вперед.
Меня включили в группу гауптмана Ганса Гроота. Уж не знаю, за какие заслуги я оказался среди сотни лучших альпинистов 1-й и 4-й дивизий. Почти все они до войны были профессиональными спортсменами, а некоторые, включая самого Гроота, уже полазили по Кавказу и Приэльбрусью в конце 30-х. В знак особой нашей значимости мы воткнули за отвороты наших кепи по орлиному перу и, взаимодействуя с отрядом егерей фон Хиршфельда (ты должен его помнить), пошли ущельем реки Уллу-Кам к перевалу Хо-тю-Тау, а затем на Клухорский перевал, расположенный километрах в сорока западнее Эльбруса. Сбросив русских с Хо-тю-Тау, мы переименовали его в перевал генерала Конрада. Эти названия врезались в мою память на всю оставшуюся жизнь, хотя завтра здесь, в Арденнах, они запросто могут быть выбиты из моей башки американской пулей.
Русские завалили все горные тропы, – продолжал Вальтер, когда они выпили еще по одному бакелитовому стаканчику, наполненному холодным французским коньяком, – но нас опять выручили овцы, проведя к господствующей над Клухорской седловиной вершине. Пятнадцатого августа в ночном бою мы сбили врага с гребня и взяли перевал, а через день были уже на южных склонах Эльбруса.
Здесь нам удалось захватить живописный горный пансионат, названный «Приютом одиннадцати». Как мы это сделали – целая история. Догадавшись, что в пансионате находится небольшой русский гарнизон, мы осторожно подкрадывались к нему с двух сторон, стараясь ничем себя не обнаружить В это время с третьей стороны, посчитав, что в здании уже свои, к нему совершенно спокойно подошел наш командир. Мы видели его, подавали знаки, но безуспешно. Он вошел внутрь и… минут через двадцать вышел и позвал нас. Оказывается, попав в плен и сосчитав русских, а их было ровно тринадцать, Гроот объяснил им, что пансионат окружен целой дивизией вермахта, и предложил сдаться. Они посовещались и приняли предложение. Но это не все! В домике метеостанции, расположенном поблизости, мы обнаружили еще двоих: супружескую чету метеорологов. И, бывают же в жизни чудеса, наш командир Гроот узнал в мужчине своего спасителя! В тридцать девятом тот снял почти замерзшего немецкого альпиниста Гроота с ледника поблизости от этих мест.
Наш гауптман на следующий день отпустил их всех, снабдив провизией. Скажу тебе честно, нам это чертовски понравилось. Мы устроили в «Приюте одиннадцати» базовый лагерь. Здесь могли с достаточным комфортом разместиться 120-140 человек. Здесь оказались генератор и большой запас горючего. Двухэтажное строение было сооружено в несколько футуристическом стиле, напоминая небольшой форт. Говорят, его спроектировали совместно русский и австрийский архитекторы. Пансионат располагался на высоте что-то около 4200 метров и использовался для адаптации альпинистов, готовящихся к восхождению на Эльбрус, и для их отдыха после спуска. В нескольких километрах, почти прямо на север, возвышались обе эти величественные вершины. Западная – высочайшая точка Европы, восточная – ниже ее на 21 метр.
В наших Альпах, Мартин, есть горы, один взгляд на которые вызывает трепет. Их острые пики покрыты льдом, а склоны зачастую совершенно отвесны. Внешне Эльбрус не таков. Обе вершины пологи и округлы. Кто-то из тамошних поэтов даже сравнил их с женскими грудями. В них нет хищности, но, поверь, они величественны! Другого слова просто не подберешь. Они лучезарны в лучах солнца и излучают магическое сияние в свете луны. Даже безлунной ночью, если перевал не накрыт облаками и туманом, их отчетливо видно, и ты ясно чувствуешь, что два этих близнеца царствуют здесь миллиарды лет и нет им равных.
Когда я смотрел на эти вершины, я ощущал себя язычником, древним друидом, которому не нужен рукотворный храм, чтобы говорить с богами. Вот он храм и вот он алтарь! А мы? Кто мы, пришедшие сюда со своими пушками и минометами? Мы, убивающие друг друга за нефть и жизненное пространство? Может быть, мы жрецы, приготовившиеся здесь к свершению обряда? Может быть, мы жертвы, сами идущие на заклание? И знаешь, к какому выводу я пришел? Мы – никто! Для этих гор мы не существуем. Нас просто нет. Есть облака, есть ветер, есть вечные снега и ледники. А нас нет. И нет у этих гор хозяев, хотя мы бьемся за эти перевалы, а овладевая ими, даем им свои названия…
Гроот сказал, что двадцатого числа мы идем на восхождение на западную вершину. Это задание особой важности, и на нас лежит большая ответственность за его выполнение. Он отобрал группу из двадцати человек, которая должна будет установить на вершине флаги – военный флаг рейха и знамя 1-й горной дивизии. Разумеется, я в эту группу не попал.
Вместо этого на следующий день я с небольшим отрядом отправился на восток на один из соседних гребней для создания там наблюдательного пункта. Предшествующая нашему выступлению ночь выдалась бурной. Выпало много снега. Мы отогрелись и хорошо выспались, заточили зубья своих кошек и штычки ледорубов и выступили с рассветом, немного удрученные тем, что снова лишились только что обретенного комфорта. Шли попеременно, то по продутым ветром голым скалам, то по скоплению глубокого снега.
Уже во второй половине дня, когда все достаточно устали, нам предстояло преодолеть заснеженный склон. Метров двести, не более. По всем правилам я, как командир отряда, должен был организовать связку, но понадеялся на то, что мы проскочим поодиночке. Установив тридцатиметровую дистанцию и пустив первым своего заместителя, я должен был замыкать цепь.
Вначале все шло хорошо. Один за другим егеря достигали чистых скал и садились там отдохнуть в ожидании остальных. Пришла моя очередь, и я ступил на уже протоптанную тропу. Когда оставалось меньше трети пути, я вдруг почувствовал, что тропа «пошла». Снег стронулся узкой полосой и медленно потек вниз. Я пытался пробиться ледорубом до скалы, но безуспешно. Весь отряд видел, как я, постепенно набирая скорость, скольжу вниз. Они что-то кричали, но сделать ничего не могли. Разве что броситься следом и тем самым обрушить еще более широкую полосу снега. В таких случаях это категорически запрещается. Я, подняв руки над головой, скрестил их, подавая знак оставаться на месте. Им предстояло выполнять задание без меня, а мне – уповать на удачу.
Конечно, я знал, что несколько человек, несмотря ни на что, будут посланы на помощь. Но я также знал, что если меня затянет под снег, даже батальон спасателей не успеет найти и вытащить меня живым.
Отбросив бесполезный ледоруб, я попытался освободиться и от рюкзака. Подвижный зыбучий снег затягивал меня все глубже. Скорость увеличивалась. Мне с трудом удалось расстегнуть один ремень и нижний узкий ремешок, притягивавший рюкзак к пояснице. Я столкнул рюкзак со второго плеча и, почувствовав, что погружаюсь с головой, успел только прижать ладони к лицу, чтобы снег не забил рот. Сколько времени и с какой скоростью я падал вниз, не знаю. Иногда становилось легче, и я мог вдохнуть воздуха, иногда, по наваливающейся на меня тяжести и темноте, я понимал, что проваливаюсь в объятия белой смерти.
Потом движение замедлилось и скоро совсем остановилось. Я полностью потерял ориентацию и не знал, где верх, а где низ. Пошевелиться было невозможно. Единственное, что я смог сделать, это раздвинуть ладонями снег возле рта и получить возможность дышать этим мизерным объемом воздуха. Я приготовился к смерти и уже видел кадры своей короткой жизни, прокручивающиеся в угасающем сознании.
И тут я почувствовал, что что-то дергает меня за ногу. Неужели подоспел кто-то из наших или это предсмертная галлюцинация? Но это оказалось ни тем ни другим. Когда я барахтался, расстегнутая лямка рюкзака зацепилась за мою ногу, при этом рюкзак, словно поплавок, оказался на поверхности, а я – под снегом головой вниз. Фактически рюкзак спас мне жизнь.
Меня вытащили. Я кашлял и таращил глаза. Снег уже проник в бронхи, и я хрипел, пытаясь выдохнуть из себя воду. Несколько человек волоком оттащили меня в сторону на твердый наст и стали отряхивать. Я увидел незнакомые лица. Это были не наши, не люди из отряда Гроота. Через минуту я понял, что это были русские.
Одного я узнал. Азиат с широким лицом и приплюснутым носом. Я обратил на него внимание вчера в «Приюте одиннадцати» и догадался, что остальные тоже оттуда. Только их было не тринадцать, а восемь. Один из них держал в руках пистолет. Взглянув на свою расстегнутую кобуру, я понял – это мой «парабеллум».
Солдаты поставили меня на ноги, окончательно отряхнули от снега и ощупали со всех сторон. Я лишился ножа, документов и некоторых мелких вещей. Попутно они убедились, что я не травмирован и могу самостоятельно двигаться. Последнее обстоятельство, как мне показалось, было для них наиболее радостным, словно они переживали за меня, как за своего лучшего товарища.
Тот, что держал в руках мой пистолет, показал рукой наверх и что-то сказал. Вероятно, он был старшим и приказал поскорее убираться отсюда, пока за мной не пришли спасатели. Мы двинулись в путь.
Не буду рассказывать все перипетии этого путешествия. Я скоро понял, что русские не знали толком, куда идти. Они часто останавливались и спорили, показывая руками в противоположные стороны. Я чувствовал, что моему внезапному появлению они очень рады, и позже понял почему. Представь себе, что к своим приходит группа безоружных солдат, оставивших рубеж без боя и ранений. Они милостиво отпущены противником как раз за то, что не оказали сопротивления. Добавь к этому то, что многие перевалы и населенные пункты в этих горах защищали полки НКВД. Это что-то вроде наших эсэсовцев. Именно они ставили позади своих войск пулеметы и расстреливали тех, кто отступал без приказа. Не думаю, что гарнизон «Приюта» ждала радушная встреча. И тут к ним попадаю я, фельдфебель Вальтер Бюрен. Это подарок судьбы. Теперь у них в руках взятый с боем «язык», с помощью которого можно реабилитироваться перед своими. Отличный козырь! И этот козырь они берегли пуще любого из своих товарищей.
На следующий день к вечеру мы пришли в какое-то селение, занятое большевиками Меня сразу же отвели на допрос в один из домов. На столе, за которым расположился офицер, лежал мой выпотрошенный рюкзак, документы и поясной ремень. Офицер очень плохо говорил по-немецки и еще хуже понимал то, что отвечал ему я. Не знаю, чем бы все это кончилось, только вдруг выяснилось, что он хорошо владеет английским, примерно на том же уровне, что и я. Мы сразу стали понимать друг друга, и оба вздохнули с облегчением. Офицер оказался капитаном НКВД.
Я откровенно отвечал на вопросы, касающиеся номера моей части и имен командиров. Никакого существенного значения все это иметь не могло. Что касается планов командования, то фельдфебелю их знать не полагалось. Я сказал только, что мы получили задание подняться на Эльбрус и установить флаг. Не забыл рассказать и о том, что мы отпустили их солдат, взятых в плен в «Приюте одиннадцати».
«Наши красноармейцы рассказали, что вырвались из плена сами, убив двоих ваших», – поведал мне капитан.
«Это неправда. Там были еще два метеоролога, муж и жена, разыщите их и спросите. Они не военные и вряд ли станут врать»
«Я склонен вам поверить, господин Бюрен. Как, вы говорите, называется ваша дивизия? „Эдельвейс“?»
«Неофициально, да».
«Эсэсовцы?»
«Вовсе нет!» – Я взял себя за воротник, показывая ему армейские петлицы.
«Все вы, попадая в плен, сразу становитесь обычными солдатами А про эсэсовскую нашивку на своем рукаве забыли?»
Он показал на мою правую руку.
«Но, господин капитан, это эмблема горных войск вермахта! – стал убеждать его я. – У эсэсовцев она тоже есть, но отличается от армейской. Их эдельвейс вышит на черном куске ткани и окружен не волнистой веревкой, а ровным серебристым овалом».
Я чувствовал, что он не верит. Они там с чего-то взяли, что «эдельвейсы» – из войск СС. К нашим друзьям из этой организации во всем мире относились неважно, а уж в России, где на месте расстреливали даже военных полицейских и снайперов, пленный эсэсовец быстро становился мертвым. Нужно было во что бы то ни стало переубедить капитана, чтобы не отвечать за чужие грехи.
«Посмотрите, в конце концов, мою солдатскую книжку, капитан, если вы не верите нашивкам. У солдат СС орел на левом рукаве, а у меня – над правым карманом. К чему бы мне весь этот маскарад?..»
Я еще что-то говорил. Он же тем временем стал снова рассматривать мой зольдбух, пытаясь разобраться в многочисленных записях и печатях.
«Вы были ранены? Когда и где?»
«Два года назад в Югославии. Осколок мины сорвал с моего левого плеча погон вместе с куском мяса и перебил ключицу».
«Покажите».
Я снял куртку, свитер и рубаху, оголив плечо. Шрам был на месте.
«У вас неверное представление о наших горных войсках, – продолжал я убеждать капитана. – Нас годами готовили в австрийских горных лагерях еще до войны. Нашими инструкторами были настоящие спортсмены и даже чемпионы Германии. А в СС горные дивизии появились уже во время войны. Они не чета нам, и, насколько я знаю, их не послали на Кавказ».
Капитан отложил мои документы и сменил тему разговора.
«Вы альпинист?»
«Военный альпинист. До войны я занимался горными лыжами и туризмом».
Капитан сказал, что у него есть знакомый москвич, участник Берлинской олимпиады. Мы поговорили на эту и некоторые другие отвлеченные темы.
«Какие перевалы вы намерены захватить в ближайшие дни?» – совершенно неожиданно спросил он.
«Не знаю. Думаю, что все те, которые представляют ценность в стратегическом плане».
Он вызвал охрану, и меня отвели в какой-то сарай. Там я провел ночь.
На следующий день мне велели забраться в кузов небольшого допотопного грузовичка, где уже сидело пятеро незнакомых солдат, у одного из которых был мой изрядно похудевший рюкзак. Мы поехали по узкой горной дороге, петляя вдоль извилистого ущелья. Солнце находилось то справа, то слева от нас, то надолго пропадало за горами, так что разобрать, в какую сторону мы двигались, было почти невозможно. Несколько раз был слышен гром отдаленной канонады. Над нами пролетали самолеты. Дорога постепенно расширялась. Иногда мы обгоняли группы людей с тележками и повозками, наполненными всяким скарбом. Они везли с собой детей и вели на привязи коз и овец. Один раз вся дорога оказалась забитой овцами, которых гнали конные пастухи. Люди уходили от войны, которую принесли сюда мы, прокладывая себе путь к бакинской и грозненской нефти.
К полудню наш грузовичок снова свернул на узкую пустынную дорогу, больше походившую на тропу. Мотор натужно урчал, скорость упала. Мы поднимались вверх, пока не уперлись в завал. Естественные причины или бомбы вызвали его? В любом случае ехать дальше было совершенно невозможно.
Мы спрыгнули вниз, и солдаты побросали на землю свои мешки, завязанные веревкой, выполняющей также роль плечевой лямки. Грузовик долго елозил по каменистой тропе, прежде чем смог развернуться и уехать. Как я правильно догадался, дальше нам предстояло идти пешком.
Но сначала был привал. Впервые за два дня мне удалось поесть. Потом все разобрали оружие и мешки, а мне поручили нести тяжелый моток веревки, который я перекинул через плечо.
Шли долго, напрямую на восток, на высокий хребет. Перед этим пересекли неширокую, но очень бурную реку. Один раз над нами пролетела большая группа самолетов. Это были наши «Ю-52», сопровождаемые истребителями. Они летели в том же направлении, куда шли мы, везя в своих фюзеляжах десант или горную артиллерию.
К вечеру погода испортилась. Задул резкий холодный ветер. Я видел, что трое из этой пятерки совершенно выбились из сил. Что говорить, если и я, пять лет пролазивший по горам с рюкзаком и карабином, тоже изрядно устал. Мы стали искать место для ночного привала, где можно укрыться от ветра. Под одной из скал мы вдруг заметили парашют. Белый шелк облепил камень с острыми углами, и свободные концы парашюта трепетали и хлопали на сильном ветру.
Русские остановились. Они о чем-то говорили друг с другом и даже спорили. Парашют мог означать десант, выброшенный неподалеку, и я сразу понял чей. За моими плечами десять прыжков. Мне не нужно было подходить близко, чтобы понять – это немецкий десантный парашют. Такой убогой подвесной системой пользовались только отважные парни Геринга и парашютисты сухопутных войск. В то время как у всех, включая русских, на вооружении уже были ирвинговские системы, наши продолжали применять допотопную подвеску, когда все стропы сходятся на один фал. Десантник болтается на нем, как Пиноккио, подвешенный за шиворот на крючке. Он не имеет ни малейшей возможности управлять своим спуском на землю, а при падении должен специальным ножом-стропорезом перерезать фал, в то время как американцу, англичанину или русскому достаточно лишь повернуть железку на груди, чтобы разом отпали все лямки. И, что интересно, у наших летчиков были современные системы, а вот на десантниках явно экономили.
Русские хотели пройти мимо, но я показал им знаками, что неплохо было бы забрать парашют с собой. Из него можно сделать сносную палатку или просто завернуться в шелк и укрыться от ветра. Старший махнул рукой, мол, делай как знаешь. Я снял парашют с камня, стараясь, чтобы ветер не вырвал его у меня из рук. Не знаю точно, тогда или чуть позже мне пришла в голову безумная мысль о способе моего побега.
Пройдя еще немного, мы очутились под небольшим каменным карнизом с уютной пещерой. Здесь почти не дуло. Солдаты повеселели и начали доставать консервы. Кто-то отправился на поиски дров, но вернулся ни с чем. Тем временем я стал аккуратно расправлять стропы и укладывать парашют по всем правилам. Потом мы ужинали. Каждый получил по большой банке перловой каши с замерзшим жиром и куску хлеба. Пили холодную воду из бурдюка с деревянными ручками, отчего жир в наших желудках замерзал снова. Тогда русские достали свои фляги, и мы периодически промывали облепленные жиром пищеводы водкой. Надо отдать должное этим солдатам – пищу они делили со мной поровну, правда, когда обращались, называли Фрицем. Сами они выковыривали застывшую кашу из банок ножами, мне же командир, пошарив в своем вещмешке, выдал отличную туристическую складную ложку из нержавеющей стали.
Потом четверо улеглись спать, даже не вспомнив о найденном парашюте. Один остался сидеть у входа. Он курил, поглядывая на меня, и иногда что-то говорил. Как и многие здесь в горах, он был нерусским. Внешне, да и судя по особой выносливости, он был горцем. Грузином, чеченцем или кем-то еще.
Я, показав ему жестом, что никак не могу согреться, стал обматывать свою грудь и плечи той самой веревкой, которую нес весь день. Он некоторое время наблюдал за моими действиями, а потом потерял к ним интерес и отвернулся. Выпитая водка окончательно придала мне решимости осуществить задуманное. Когда весь моток веревки был израсходован, я связал ее свободные концы у себя на груди под самым подбородком и незаметно привязал их к фалу парашюта, на котором сидел в тот момент. Оставалось улучить момент, выйти из укрытия, за которым сразу начинался крутой склон, и бросить по ветру свернутый шелк…
– Ты всерьез рассчитывал, что с помощью ветра сможешь вырваться из плена? – спросил Мартин, внимательно слушавший этот обстоятельный рассказ.
– А почему бы и нет? В ущелье стоял такой сквозняк, что можно было попробовать и на трезвую голову. А пьяному, как говорится, море по колено. Мой расчет был на то, что наши должны быть где-то рядом. Главное, оторваться, хотя бы на километр, от моих конвоиров. Судя по тому, как наши батальоны продвигались последние дни, эти места должны были быть уже больше немецкими, нежели русскими.
Короче говоря, я просто встал, взял в руки туго свернутый парашют и вышел на склон. Горец не сразу сообразил, что я задумал. Почуяв сильный ветер, я с силой швырнул парашют по его направлению и вверх. Он размотался, вытянувшись длинной трепещущей полосой, и вдруг вспыхнул с резким хлопком. Меня рвануло куда-то вбок и поволокло по камням. Если бы не крутой обрыв через десяток метров, я оставил бы на этих камнях окровавленные лохмотья своей униформы.
Меня оторвало от земли и понесло вниз, вдоль каньона. Падал я очень быстро. Гораздо быстрее, чем рассчитывал. А ведь я знал, что наши десантные парашюты обладают самой малой площадью купола. Недаром только немецкие парашютисты пользуются всякими наколенниками и налокотниками, чтобы не разбить суставы, когда шмякнешься о землю.
Короче говоря, я падал прямо в реку, ревущую на дне каньона. Ту самую, что мы форсировали совсем недавно. Меня сносило и по горизонтали, но гораздо меньше, чем хотелось бы.
Этот мой одиннадцатый полет на парашюте лишь чудом не стал для меня последним. Я шлепнулся в ледяную воду рядом с острой скалой и помчался вниз по течению, огибая валуны. Но вскоре я ощутил сильный рывок и остановился в своем продвижении. Вокруг меня пенились буруны, и отцепиться от застрявшего на камнях парашюта не было никакой возможности. Ножа я не имел, а развязать намокшие и затянувшиеся узлы, постоянно окунаясь в воду с головой, был совершенно не в состоянии. И если бы меня снова не понесло по течению, я через несколько минут просто умер бы от переохлаждения в этом потоке.





