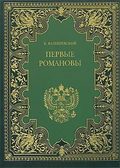Казимир Валишевский
Иван Грозный
Только вдова, имевшая сыновей, почти всецело избавлялась от этого режима. В семейной, общественной и даже государственной жизни она пользовалась полной независимостью и равными с мужчиной правами. Напротив, если не имела мужского потомства, она попадала в разряд сирот и убогих, опекаемых церковью и совершенно заброшенных обществом. Таким образом исключение подтверждало правило. Женщина была существом проклятым во имя аскетического идеала, но она могла возвыситься до него путем добродетелей, становясь святой. Но этот путь, очевидно, был для нее чрезвычайно труден, так как Четьи-Минеи Макария содержат описание жизни только двух женщин. Русские авторы житий святых чуть ли не питали презрения к этим редким избранницам, признанным даже Церковью. Слава святой Ольги и Евфросинии, живших в Х и XII веке, нашла своих историков только лишь в XV веке. А ведь они были княгинями!
У тех, кто не мог достигнуть подобных вершин, был еще один исход: мир сверхъестественных сил, которым народное воображение приписывает такую важную роль в человеческой жизни. Стоящая вне общества и презираемая как жена и мать, женщина, словно колдунья и ворожея, вызывала страх и уважение к себе. Она стала царицей в волшебном мире суеверий. Поэтому в расколе, где суеверию отведено много места, женское начало проявляется снова, приобретает свои привилегии и выступает на первый план.
III. Семья
В высших классах воспитание детей обыкновенно не предоставлялось матери. Церковь налагала свое запрещение как на материнскую, так и на сыновнюю любовь. Оставался брак. Но выйти замуж не значило, что девушка выберет юношу, который был бы ей по сердцу и которому бы она нравилась. За исключением повторного брака, свадьба была делом родителей, обыкновенно вовсе не заботившихся о согласии детей, тем более, что в брак вступали часто слишком рано. Достаточным возрастом считалось 12 лет для девушки и 14 для юноши. До венца, до порога спальни супруги могли, или скорее даже должны были, оставаться совершенно неизвестными друг другу. Муж в особенности не должен был видеть жену до последней минуты. Чтобы избежать слишком неприятных неожиданностей, родственница жениха брала роль смотрительницы. Ее вводили в горницу, убранную соответственно этому случаю. Невеста помещалась за пологом, который на время раздвигался. Случалось часто, что невесту подменивали. В таких случаях обманутый муж мог принести жалобу в суд, требовать расследования дела и расторжения брака. Но обыкновенно это достигалось другим путем: муж заставлял жену дурным обращением постригаться в монахини. В исключительном случае, когда сватовство считалось лестным для невесты, жениху разрешалось самому лично производить смотрины; но если он после этого отступал, то этим наносил сильное оскорбление и должен был за него платить значительную сумму.
После смотрин производилась другая церемония – сговор, во время которого велись споры и заключались условия. Иногда при этом требовалось, чтобы приданное, уплачивавшееся до XVI века женихом, было выдано немедленно, откуда и пословица пошла: «Деньги на стол, невеста за стол». Но невеста все еще не показывалась. Родные от ее имени после сговора подносили жениху кое-какие мелкие подарки.
Свадьба сопровождалась сложными обрядами, символически изображавшими вступление в новую жизнь. Они напоминали обряды, совершавшиеся при вступлении князя на престол. Два лица руководили ими. Они назывались тысяцким и ясельником. Тысяцкие во времена удельной системы и вече несли важные обязанности, на свадьбе же они распоряжались толпой парней и девушек. Ясельник должен был предохранять участников свадебной церемонии от колдовства, так как этот случай считался особенно удобным для деятельности злых духов и колдунов.
Еще накануне все собирались в дом жениха. Он принимал поздравления, устраивал пир и в свою очередь посылал все еще отсутствующей невесте более или менее великолепные подарки: ларчик с кольцами, румяна, лакомства и – символическую плетку. В то же время сваха приготовляла брачную постель. Она прежде всего обходила весь дом с веткой рябины в руках, чтобы отвести порчу. Спальня новобрачных устраивалась в светлице, находящейся повыше над землей, чтобы не напоминала о могиле. Ее убирали коврами и мехами куниц. Это считалось признаком богатства и комфорта. По углам комнаты ставили оловянные сосуды, наполненные жидким медом. Наконец в нее вносились с необыкновенной торжественностью все необходимые предметы, впереди несли образа Спасителя и Божьей Матери. Постель обыкновенно устраивалась на деревянных лавках. На них прежде всего ржаные снопы, количество которых было различно, соответствовало званию молодых и носило символический характер. Затем поверх снопов стлали ковры, а на них клали одну на другую перины. В ногах и головах ставили кадки с пшеницей, рожью, ячменем и овсом. На другой день пир у жениха продолжался; для него изготовлялся каравай. На этот раз для невесты приготовлялось место рядом с женихом в почетном углу за столом. Перед нею стлали одну на другую три скатерти, ставили на них солонку, клали белый калач и сыр. Жених в сопровождении большего кортежа отправлялся за невестой. За ним несли каравай и свечи. Один из дружек нес осыпало, большое блюдо, наполненное хмелем – знак богатства и веселья, – куньими мехами, шитыми золотом платками и деньгами, предназначенными для раздачи присутствующим. Подобная же процессия совершалась и у невесты, которая оставалась невидимой под густым покрывалом. Две подружки несли два блюда, на которых лежал головной убор невесты, платки для подарков гостям и стоял наполненный смесью кубок меда и вина, употребление которого сейчас будет объяснено.
Оба кортежа направлялись к дому молодых, и пир начинался молитвами, которые долго читались попом. Обычай требовал, чтобы гости только для виду прикоснулись к первому блюду, пока сваха не подымется со своего места и не попросит у родителей разрешения покрыть невесте голову убором, который носили только замужние женщины. Зажигались свечи, между женихом и невестой протягивался кусок тафты, на обоих концах которой было вышито по большому кресту. Сваха снимала с невесты свадебное покрывало, погружала в символический кубок гребень и проводила им по ее волосам; потом покрывала голову невесты сеткой и кикой. В этот момент и в то время, когда подружки обвевают куньими мехами молодых, они по обычаю, державшемуся в среднем классе, должны были прикасаться щеками к разделявшей их тафте. Перед ними помещалось зеркало, и только теперь они могли разглядеть черты лица друг у друга. В это время один из гостей подходил к ним в вывернутом шерстью наверх тулупе и желал им столько детей, сколько волосков в его шубе.
Затем следовала раздача платков и других предметов, бывших на осыпале, происходил обмен колец в присутствии попа и вручение жениху отцом невесты эмблемы родительской власти. Это, конечно, была плетка. «Надеюсь, что мне она и не понадобится», галантно говорил жених, но все же затыкал ее за пояс. На этом пир прерывался. Отправлялись в церковь. Дорогой пели, плясали, несмотря на присутствие попа, и перед его гневными глазами скоморохи потешали кортеж. После венчания иногда молодая кланялась своему мужу в ноги и касалась лбом его сапога в знак покорности; он покровительственным жестом покрывал свою избранную подругу полой своей одежды. Иногда поп давал новобрачным чашу, они три раза касались ее губами, после чего бросали ее на землю, и каждый из них старался первым наступить на нее. Если женщине удавалось скорее наступить, то это служило предзнаменованием, что она будет верховодить в доме. При выходе из церкви происходили другие символические церемонии, например, показывали вид, что хотят разъединить молодых, державшихся вместе. Затем возвращались к пиру. Новобрачной полагалось много плакать, к чему ее располагали подруги жалобными песнями. Молодые не должны были прикасаться ни к одному блюду до тех пор, пока перед гостями не появлялся лебедь, а перед ними жареная курица.
Это было знаком идти в опочивальню. И здесь еще больше, чем во всех предшествующих подробностях, обнаруживается дух местного мистицизма и грубо-чувственные, наивно-циничные элементы. Первой отправляли в спальню новобрачных символическую курицу, в сопровождении несших свечи, каравай и всех присутствующих на пиру. Свечи втыкали в кадки, наполненные зерном; молодых проводили в их светлицу с новыми церемониями и возвращались опять за стол. Сваха в это время помогала молодым раздеться. Во время этой процедуры жена должна была снять мужу сапог в знак подчинения. В одном из сапогов находилась монета. Если этот сапог удавалось снять первым, это служило хорошим признаком. Вступая в отправление своих обязанностей, муж вынимал из-за пояса символическую плетку и пускал ее в ход с принятой в этом случае предосторожностью. Наконец, супруги остаются одни, под охраной ясельника, который ходит пешком или объезжает на лошади вокруг дома. Пир продолжается в течение часа. Затем одна из подружек идет спрашивать новобрачных. Если муж через дверь скажет, что он здоров, то это значить, что все совершено ими хорошо. Гости тотчас шли в светлицу молодых, чтобы накормить их.
Курица была главным блюдом в этой ритуальной еде, но к ней прибавлялись и другие кушанья. Тут произносили тосты, поздравления, потом укладывали молодых и возвращались снова пировать.
На другой день церемония продолжалась, совершалось обязательное посещение бани, после чего молодая жена вручала своей свекрови доказательство своей невинности – брачную рубашку, которая должна была потом свято сохраняться. При царских свадьбах придворные впервые могли видеть лицо своей государыни, при этом конец ее покрывала подымал стрелой один из знатных бояр. Теперь наступала очередь родных невесты устраивать свадебный пир. Случалось, что они при этом подвергались несмываемому позору. Отец мужа подавал им кубок с отверстием в донышке, закрытом пальцем. Когда ему его наполняли вином или водкой, он отнимал палец и жидкость разливалась. Это показывало, что молодая оказалась не такой, какой должна быть.
В продолжение всех этих свадебных торжеств, новобрачная произносила только те слова, какие требовались от нее по обычаю, она все время хранила молчание, что служило признаком хорошего воспитания. Напротив, ее подруги в таких случаях пользовались исключительной свободой, доходили нередко до безумств, и самые скромные и чистые из них доходили до крайней распущенности. Проходили свадебные дни. Двери терема захлопывались и скрывали за собой судьбу молодой супруги.
Какова была ее судьба, легко себе представить. «Домострой» преувеличил суровость домашней обстановки, но она все же напоминает монастырь. В чуть зажиточных домах крестовая комната, увешанная вся от пола до потолка иконами, несколько раз в день служила сборным пунктом их обитателей. Большие или маленькие события заставляли обращаться к образам, почитавшимися наравне с мощами и другими священными предметами, как, например, свечи, зажженные небесным огнем в Иерусалиме, частица камня, на котором стояла нога Христа. Но и по выходе из крестовой в руках оставались четки. В руках затворниц терема это орудие молитвенного настроения, обыкновенно художественной работы, освященное в каком-нибудь особо чтимом месте поклонения, вроде Троицы, Соловков, Белоозера, – приобретало характер прообраза их существования, протекавшего пусто и однообразно среди чтения Отче наш…
По утрам все подымались рано, как простой народ, так и представители высших классов: летом с восходом солнца, зимой за несколько часов до наступления дня. Еще в XVI в. часы считали по восточному: 12 часов дневных и 12 ночных. За норму принимали время равноденствия. Первому часу соответствовал наш седьмой час дня. Церковь распределяла свои службы по этому времени, к ней применялись и все занятия, которые для людей высшего класса и состояли почти только в посещении богослужений вплоть до обеда. После обеда полагался обязательный отдых. Даже купцы в этот час прекращали свою работу и запирали лавки. Только на одной московской площади, носившей название «вшивой площади», в это время работали цирюльники, расправляясь с пышными шевелюрами. Этот отдых имеет серьезное основание: ели много, желудки переполняли большим количеством большею частью неудобоваримой пищи. Лжедмитрий выдал свое происхождение тем, что не следовал этому национальному обычаю.
Молиться, есть, спать – в этом состояла вся жизнь богатой боярыни. У других были заботы по хозяйству и они напоминают барщину, каторгу. Обреченная на праздность и расслабленная ею боярыня разве соберется от скуки вышить что-нибудь для церкви. Но скука не была самым опасным гостем у семейного очага, устроенного по известному нам образцу. Сколько было неудачных союзов! Как велик был страх пред могущими возникнуть осложнениями! Разве сам закон не изобрел наказания для жены, отравившей мужа, и какого ужасного наказания! Виновную живой закапывали в землю, оставляя только голову наружи, чтобы продлить мученья. Некоторым удавалось избежать этого наказания, приняв пострижение. Но в монастыре их заковывали в цепи и помещали в изолированные кельи.
Но за такие брачные союзы, в которых женщина редко находила любовь, поруганная, оскорбленная, заброшенная, она большею часть мстила любовью же. Как внимательно ни присматривали за ней, а все же ей удавалось «посадить мужа под лавку», как выражались тогда. Отвращение, какое питали к нехристям, как называли иностранцев, не было препятствием к прелюбодеянию. Если принять во внимание свидетельство иностранных путешественников, то понятной будет и глава «Домостроя», запрещающая вход в терем некоторым подозрительным кумушкам. Вызвано это запрещение, вероятно, слишком частым нарушением строгого закона. Подобных лиц, исполнявших роль посредниц, можно было встретить везде в местах, часто посещаемых простолюдинками – у рек и прудов, где производилась мойка белья, на рынках, у колодцев. Они проникали и в наиболее уважаемые дома, где успевали снискать ласку хозяина. Последнему, к слову сказать, обычай не запрещал иметь любовниц, и ему незачем было их скрывать, он мог брать их к себе в услужение даже силой, не возбуждая нареканий.
В народе испорченность нравов в этом отношении доходило до крайности. Ни малейшей воздержанности, отсутствие стыда. Выходя совершенно голыми в бане, женщины и на улицах задевали прохожих. В следующем веке Олеарий описывает сценку, свидетелем которой он был в Новгороде. Среди большего стечения народа, скопившегося по случаю какого-то религиозного торжества, появилась из кабака пьяная баба. Она свалилась на площади в непристойной позе. Какой-то пьяный крестьянин бросается на это голое тело, как похотливое животное. Толпа мужчин, женщин, детей теснится со смехом вокруг этой отвратительной пары…
Даже материнство не избавляло женщину от печальной судьбы. Ее заботы ограничивались первоначальным попечением о детях, самый же существенный элемент – любовь – отсутствовал. Любовь к родителям считалась залогом долгой и счастливой жизни. О тех, кто нехорошо отзывался о своих родителях, говорили: «Его вороны заклюют, орлы растерзают»… «Отцовское проклятие засушит, а материнское погубит», говорит другая пословица. Но семейный закон, дававший отцу безграничную власть: «почитай батюшку, как Бога, а матушку, как самого себя», – основывался на страхе. Отец, которого дети должны были не любить, а почитать, был грозный носитель плетки. Здесь тоже крепостное право, лишенное нравственной силы; это спутник государственного строя.
Под семейным кровом, прикрывавшим часто настоящей ад, только смерть была окружена ореолом искренней и высокой нравственности. Религиозный закон, слишком требовательный и потому часто нарушаемый, получал полное удовлетворение. Умереть среди своего семейства и в полном сознании считалось благословением неба. Благодаря силе веры, этот момент не казался страшным. К смерти готовились задолго, обдумывали свое завещание, стараясь внести в него побольше добрых дел: раздачу милостыни, освобождение крестьян, прощение долгов. Исполнение своих обязательств считалось особой заслугой. Все это носило выразительное название строить душу. Часто случалось, что умирающий принимал пострижение в монахи. Также обыкновенно поступали и цари. Если наступало выздоровление по принятии схимы, уход в монастырь считался обязательным. Но и у самого порога вечности, несмотря на христианские верования, языческие традиции все еще предъявляли свои права и выступали на сцену проникнутыми грубым материализмом. Устраивались поминки, на окно ставилось блюдо, приготовленное из муки, или каша. Это была, быть может, уже известная нам кутья. Раздавались такого рода причитания: «Милый ты мой!» – начинала вдова, «зачем ты меня покинул?.. Или я тебе не угождала?.. Не наряжалась ли я для тебя по твоему вкусу??» А присутствующие подхватывали: «Зачем ты умер? Или у тебя нечего было есть-пить?.. Или не было у тебя красивой жены?..»
Семья не была моральной единицей, она являлась скорее ассоциацией интересов. Поэтому она являлась очень растяжимой и могла включать в себя разнородные группы, Такое явление мы, впрочем, видим и в Исландии, Сербии, даже в Америке на низших ступенях культурного развитая. Сербская задруга представляет более совершенный тип такого элементарного сожительства в 10–50 человек, живущих под одной крышей, собирающихся ежедневно за одним столом и подчиняющихся власти одного главы, независимо от родственных связей. О таком сожительстве на Руси упоминает Нестор и «Русская Правда» Ярослава. Оно встречается до семнадцатого века включительно в областях на северо-западе от Пскова и на юго-западе по соседству с Литвой.
Защитники этого рода ассоциаций видели в них средство облегчить экономическую борьбу. Но в них парализовался дух индивидуальной предприимчивости, и они вряд ли были способны внести чистоту и мягкость в семейные и половые отношения.
Несмотря на отрицательные отзывы всех современных наблюдателей, нельзя утверждать, чтобы собственно семейная жизнь, как она понималась русскими шестнадцатого века, не способствовала развитии некоторых семейных добродетелей. Наблюдатели останавливали свое внимание на явлениях, бросающихся в глаза. Добродетель же расцветала в тени. Характерной чертой в этом отношении был дух солидарности, особенно сильно развившийся среди слуг и челяди, окружавшей хозяина дома. Холопы и вольные слуги образовывали нечто вроде двора, дворню, среди которой хозяин разыгрывал роль государя, подражая в церемониях и распределении домашних должностей порядком, заведенным при великокняжеских палатах. Разница была только в том, что спальники в опочивальнях заменялись постельницами. Всю эту дворню обыкновенно плохо кормили, так как ключник известную долю провизии, отпускавшейся им, утаивал. Богатая одежда для слуг употреблялась здесь, как и в великокняжеских дворах, только в торжественных случаях. Поэтому дворня часто старалась поживиться на стороне. Шляясь по улицам, она браталась с бродягами и нищими, попрошайничала вместе с ними и обирала ночью прохожих. Наказываемые и награждаемые без толку слуги не имели о справедливости другого представления, кроме того, которое выражалось в фразе: «Если хозяин захочет поколотить, то вину всегда найдет». Но они готовы были умереть за своего господина. Когда бояре заводили споры между собой, их челядь принимала живейшее участие, видела в этом дело чести, что совершенно сходно с отношением служилых людей и государей. Если боярина обкрадывали и даже продавали его собственные слуги, то и он часто злоупотреблял своей властью и нарушал их интересы. Боярин, в свою очередь, не прочь был поживиться за счет своего государя, порой обманывал его и готов был изменить ему при случае, что все-таки не мешало ему проявлять безграничную преданность. Грозный всю жизнь свою преследовал и карал коварство своих слуг, всегда при этом находя усердных исполнителей для своих предприятий. У этих людей была особая мораль, в которой чувство добра и зла не имело места, совесть не играла никакой роли, в ней царил один всепроникающий принцип – принцип службы. Этот категорически императив, положенный в основу общественной и политической организации и пропитавший сознание покорного, сильного и терпеливого народа, и является секретом торжества и славы его. Все величие России построено на этом фундаменте.
Мы видели боярина в семейной обстановке, теперь посмотрим на него вне ее.
IV. Общество
Мы уже знаем, что со двора отправлялись только в карете или верхом на лошади. Лошадь так же богато убрана, как и ее хозяин. Седло покрыто сафьяном или шитым золотом бархатом, попона из дорогой материи, уздечка отделана серебром, цепочки, бубенчики, колокольчики чуть ли не до самых копыт. Вся лошадь – звон и блеск. Шум издали возвещает о приближении важного лица и повелевает прохожим посторониться. Экипаж обыкновенно представлял собой сани, даже летом не любили ездить на колесах: в санях было больше важности. Длинные и узкие, эти сани обыкновенно предназначались только для одной персоны. Однако у ног господина пристраивались кое-как еще двое слуг, и зимой вместе с ним утопали и почти совершенно скрывались в мехах. Кучер садился верхом на запряженную лошадь. Он был украшен перьями или лисьими хвостами. Боярин едет в гости. При приближении к дому, который хочет он почтить своим посещением, возникает вопрос этикета, где должен он оставить свою лошадь или выйти из саней. Если дом принадлежит человеку более знатному, чем гость, то последний должен оставить лошадь у ворот. В Кремль могли въезжать только некоторые особенно знатные лица, но и они не смели проехать через весь его двор под страхом наказания кнутом. Когда посещали равных себе, подъезжали к самому крыльцу, где гостя встречал сам хозяин или кто-нибудь из его слуг, в зависимости от обстоятельств и правил церемониала, строго выполнявшегося. Войдя в дом, молились на иконы, осеняя себя крестным знамением, кланялись, касаясь земли пальцами правой руки. Затем гость подходил к хозяину и обменивался с ним приветствиями, которые изменялись от простого пожатия руки до коленопреклонения, сообразно различию положения. Все определено было правилами до мельчайших подробностей. Даже первые слова были стереотипны, церемонны и искусственно смиренны: «Бью челом моему благодетелю… Прости мое скудоумие…» Обращаясь к духовному лицу, не нужно было забывать назвать себя великим и окаянным грешником, а его величать учителем православия и блюстителем света истинного. С такими же ломаньями принимали угощенья, полагавшиеся по обычаю во всякий час дня; прощаясь, начинали откланиваться, прежде всего иконам, как и при входе.
Встречи в общественных местах требовали меньше этикета и церемоний, но они были очень редки. Знатные люди не ходили в публичные бани, хотя принято было во всех классах мыться ежедневно или, по крайней мере, несколько раз в неделю. Но даже самые бедные дворяне имели собственную баню. Если русский человек чувствовал себя нездоровым, он выпивал рюмку водки, настоянной на перце, и отправлялся в баню. Это было универсальное средство против всех болезней. Только некоторые вельможи обращались к помощи медицины, да и то в редких случаях, так как в то время врачей было очень мало на Руси и все они были иностранного происхождения. Первый врач, приехавший в Россию с Софьей Палеолог, женой Ивана III, был казнен за неудавшееся лечение. Этот случай был плохим поощрением для других. Все же при Иване IV составилась группа врачебного персонала. С немцем Елисеем Бомелиусом соперничали четыре англичанина: Стендиш, Эльмс, Робертс и аптекарь Фринсгем. Но они все вместе не смогли бы заставить русского проглотить пилюлю или поставить себе клистир.
Кроме бань, общественная жизнь сосредоточивалась на пирах, которые устраивались очень часто и были двух родов: частные и коллективные, устраивавшиеся группами, сообща. Последние носили название братчины. Родня и друзья пировали в больше праздники или же по случаю семейных событий – свадеб, крестин, похорон. При дворе пиршества устраивались при венчании на царство, при поставлении нового митрополита, приеме иностранных послов. Вопрос о местах здесь приобретал огромную важность и вызывал споры, нередко оканчивавшиеся кровавыми схватками. Впрочем, считалось признаком хорошего тона заставлять просить занять подобающее высшее место за столом. Ели обыкновенно вдвоем с одного блюда, куски пищи брали пальцами, кости складывали на тарелки, которые только для этого и служили и не сменялись в продолжены всей трапезы. Хозяин раздавал хлеб и соль и посылал более знатным гостям лучшие куски. Количество блюд было невообразимо. Пир продолжался очень долго. Запах чеснока, лука, служивших приправой ко многим кушаньям, гнилой рыбы и спиртных напитков, – скоро пропитывал атмосферу. Все это, в сочетании с непристойностями многих гостей, делало подобные торжества невыносимыми для иностранцев. Случалось, что даже женщин, пировавших отдельно, развозили по домам в бесчувственном состоянии. Если на другой день хозяйка посылала спросить гостью о здоровье, было принято отвечать с намеком на широкое гостеприимство: «Вчера я так весела была, что и не помню, как домой воротилась».
У набожных людей религиозные обряды странным образом примешивались к пирушкам: духовные лица, будучи приглашены и посажены на почетное место, платили за угощение молитвами и разными церемониями – благословением пищи и напитков, каждением ладана по всему дому. Иногда, как, например, в монастырях, на стол ставили ковчежец с «просфорой Богородицы». Во время пира пели церковные песни. В прихожей кормили нищих. Некоторых из них сажали за стол вместе с гостями. В других домах, напротив, пир переходил в оргию. Правила терема нарушались. Представители обоих полов собирались вместе. Музыканты и скоморохи забавляли публику. Звучали непристойные песни.
У крестьян пирушки носили особое название «пиво», потому что при этом испрашивалось разрешение приготовлять крепкие напитки: пиво, настойки, мед, составлявшие предмет правительственной монополии. Разрешение получали на три дня, а иногда, по случаю больших праздников, даже на целую неделю. По истечении этого срока фискальные агенты опечатывали напитки до следующего праздника.
Братчины назывались также ссыпными. Вероятно, раньше взносы делались зерном, ссыпавшимся в кучу. Эти временные собрания для коллективных попоек, происходивших под председательством выборного старосты, пользовались некоторой юридической автономией, сохранявшейся за ними до XVII в. Споры между участниками их не подлежали общему судопроизводству. Пословица: «С ним пива не сваришь» указывает на характер действий союза. Здесь крестьяне и вельможи встречались на равных. На этих собраниях еще чаще, чем на частных пирах, происходили беспорядки, драки и даже убийства. Поэтому благочестивые люди в них обыкновенно не принимали участие. Пили там без меры. Уже Владимир сказал: «Руси веселие есть пити, не может без того быти». Радость, любовь, симпатия – целая гамма чувств находила свое выражение в вине. Напивались до полусмерти, чтобы засвидетельствовать свою дружбу гостю или любезному сотоварищу. Ели также до отвала, поглощая щучьи головы с чесноком, рыбные похлебки с шафраном, заячьи почки в молоке и с имбирем. Все это было приготовлено со множеством пряностей, жгло нёбо и требовало обильных возлияний. В большом употреблении были вина венгерские и рейнские, но названия их так искажались, что иногда трудно узнать. Например, под названием «Петерсемена» было известно Peters Simons Wein, рейнское вино, ввозившееся в Россию голландским купцом Петром Симоном. Из французских вин были известны бургундские, между которыми фигурировала романея. Теперь под этим названием известна в русских кабаках красная настойка водки на ягодах. Знали также мальвазию, аликанте и другие сорта испанских вин. Для церковных треб шли только французские вина. Привозили из заграницы водку и уксус в большом количестве. Обычным напитком народа был квас. Итальянец Тетальди говорит однако о другом распространенном напитке, в состав которого входила мука сушеного овса. Напиток этот он называет толокном. Но в русских источниках о нем упоминается только как о пищевом продукте.
Свидетельства о том, была ли привычка к неумеренности очень распространена среди населения, также разноречивы, как и во всем остальном. По словам Дженкина, на Руси царило бы пьянство, если бы даже сам Иван IV ничего не пил. В записках, изданных в 1567 г. в Любеке по поводу предполагавшейся отправки послов к русскому двору, мы находим указания совершенно противоположного характера. В ней рекомендовалось послам воздерживаться от неумеренности в питье, так как пьянство считается в Московии величайшим пороком. Автор записок негоциант, долго живший в Москве.[15] Литовец Михалон, которого можно считать вполне беспристрастным, говорит то же самое, добавляя впрочем, что на Руси кабаки были неизвестны, что не соответствует действительности. По словам Тетальди, в конце царствования Ивана Грозного продажа спиртных напитков была разрешена в Москве только в одном пригороде. О нем, также упоминают Герберштейн, Гуаньино и Олеарий. Название его было Наливки. Посад этот входит теперь в состав города; о нем до сих пор напоминает церковь – церковь Преображения на Наливках. Торговля крепкими напитками, по всей вероятности, сосредотачивалась в этом месте в определенный момент. Между тем другие города пользовались полной свободой открывать кабаки, число которых в интересах фиска все увеличивалось. В этом, как и во многих других проявлениях жизни, обнаруживается борьба мирских интересов со стеснительными правилами морали. В результат происходили компромиссы, вводившие наблюдателей в заблуждение.
Церковь, конечно, боролась с кабаками. Но, судя по ее собственным признаниям, ее поучения и проклятия имели слабое действие. Собор 1551 года оставил нам картину нравов, отличавшихся распущенностью, в особенности среди низших классов. Некоторые ночные игрища, устраивавшиеся в честь христианских праздников, сливались с традициями языческого культа. Например, Иванов день или праздник Ярилы – славянского Приапа. Устраивавшееся по поводу этих праздников пьянство влекло за собою другие бесчинства. Мужчины и женщины, парни и девушки проводили ночь в каком-нибудь отдаленном месте. Они плясали, пели и предавались разным излишествам. В протоколах Собора мы читаем об этих сборищах – «… с зарей они бегут, как сумасшедшие, к реке и с криком бросаются все вместе в воду, а когда раздастся звон к заутрени, они возвращаются домой и падают на постель в изнеможении, как мертвые». Заслуживает внимания указание членов Собора и духовных писателей того времени о существовании содомии.