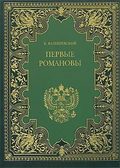Казимир Валишевский
Иван Грозный
Черное духовенство также не избежало этого. После того как некоторые игумены и архимандриты начали участвовать на соборах и в Думе, монахи стали часто обращаться к государю, прося у него защиты против произвола епископов, подобно тому как их братья на Западе обращались к папе. Государь охотно отзывался на это до той поры, пока не почувствовал себя достаточно сильным, чтобы упростить эти отношения: он сосредоточил соответствующую юрисдикцию в одном из своих гражданских приказов. Из того унижения, в какое судьба ввергла как белое, так и черное духовенство, оно бы могло подняться добродетелью своего служения. Но для этого нужно было, чтобы интеллектуальная ценность и нравственное достоинство, хотя бы высшего духовенства, отвечали их высокому служебному назначению, и чтобы огонь и свет пламени священного призвания зажегся и горел на алтарях этой автокефальной церкви так же ярко, как на Западе, где такие папы, как Лев Х и Пий V, придали ей всемирный блеск. Но Кириллы и Ионы, увы, не могли найти божественной искры под пеплом Византии.
Во время Ивана III высшее белое духовенство еще боролось. Когда разгорелся спор между великим князем и митрополитом по вопросам, касавшимся богослужения, последний покинул свой престол, оставил храмы без освящения и заставил таким образом государя «бить челом» в покаянии. Но уже при преемниках этого государя, еще недостаточно укрепленных в своей роли всемогущих владык, для борьбы с торжествующим деспотизмом потребовалось нечто большее сознания оскорбленного достоинства. Святой Филипп, о мученичестве которого я еще буду говорить, был убит и своей кровью запечатлел верность попранным традициям и стремление к независимости. Его голос остался без отклика. Его пример не нашел последователей. Как и вся страна, церковь погрузилась во мрак и безмолвие. Громадная машина сокрушала умы и характеры своими тяжелыми колесами.
Глава вторая
Политическая и социальная жизнь
Центральная власть. Организация областного управления. Местничество. Община. Организация суда и законодательства. Экономический строй. Финансы.
I. Центральная власть
Машина была собрана и пущена в ход не сразу. При вступлении на престол Грозного она уже представляла сложный механизм с многочисленными колесами, который, согласно мнению Ключевского,[5] являлись следами в некотором роде древнего патриархального устройства, приспособленного к скромному быту удельных князей. Сергеевич же[6] видит в них определенные политические органы. Я не буду здесь вступать в спор. Это были приказы, или, правильнее, департаменты. Число их все возрастало: ведомства их были распределены очень неправильно. Это было следствием того, что образование и расширение их деятельности соответствовало росту завоеваний и колонизации. Одни из приказов, более древнего происхождения, ведали только некоторыми определенными делами многочисленных провинций. Таков был разрядный приказ, ведавший дела военные. В других же, напротив, сосредоточивались все дела какой-нибудь одной недавно приобретенной области. Таков был, например, Казанский дворец, учрежденный после взятия города. Посольский приказ, ведавший иностранные дела, был, конечно, один для всего государства. Наконец, некоторые, так называемые областные приказы – Московский, Владимирский, Дмитриевский, Рязанский – ограничивались ведением некоторых дел в соответствующих провинциях, соединяя, таким образом, черты первых двух категорий этих учреждений.
Беспорядок царил везде. Чтобы приводить в движение и управлять всеми этими колесами, нужен был центральный рычага. Где же был он? В руках государя? По-видимому, нет. Во главе приказов стояла Боярская Дума, нечто весьма сходное с Советом первых капетингов или с curia regia нормандских королей в Англии. Здесь, как и там, это был исторический продукт, творение национального объединения, происходившего в XV веке в области Оки и верхней Волги, и следствием военного устройства государства. Глава войска, московский князь, как и все предводители, должен был выслушивать мнения своих помощников в важных делах. Боярская Дума по своему происхождение и была ничем иным, как военным советом, преобразованным впоследствии, благодаря сложности дел, разбиравшихся в ней. Глава вотчины, князь, должен был считаться с потомками своих древних сподвижников, разместившихся теперь, как и он, в своих наследственных владениях и пользовавшихся там известной долей власти. Военный совет принял в свое ведение дела политического характера и по своему составу был аристократическим.
В шестнадцатом веке семьдесят фамилий, из которых 40 были княжескими, по-видимому, пользовались правом участия в Боярской Думе. Но было ли то право? Нет, это была скорее возможность, осуществление которой скорее зависело от воли государя. В этом уже проявлялось ничтожество этого учреждения, которое, казалось, могло бы ограничить абсолютную власть. Отсутствие корпоративной организации не позволяло Думе достигнуть значительной прочности. Большое количество бояр и князей обыкновенно присутствовало в Думе, но рядом с ними принимает участие в заседаниях еще более многочисленная толпа чиновников – не бояр и не князей: окольничие (от слова около, находящееся около князя), дворяне, лица состояние при дворе и, наконец, простые дьяки.
В действительности не нужно было происходить из знатного рода, чтобы быть призванным в Думу. В списке 1527 г. мы не находим ни Голицына, ни Куракина, ни Воротынского, ни Пронского, ни Хованского, ни Прозоровского, ни Репнина, ни Салтыкова. А перечисленные мною фамилии были из числа знаменитейших того времени. Побывать несколько дней в Думе еще не значило, что это так будет продолжаться и дальше. Для одного дела из занесенных в список 100 или более членов призывалось 20 человек, для другого такого же – только восемь. Никакого правила, никакого даже порядка, способного заменить его. Как чин, так и деятельность думских советников зависели от князя. Между деятельностью и чином никакой зависимости не было. В этом уже можно видеть зародыш будущей организации чиновничества.
Компетенция Боярской Думы была обширна и даже в некотором смысле не ограничена. Дума тем не довольствовалась, что осведомляла князя. Вместе с ним она осуществляла полноту власти: законодательной, судебной и административной. Она управляла в самом широком смысле этого слова и не только коллективно, но и индивидуально. После обсуждения какого-нибудь вопроса внешней политики думный дворянин мог быть послан наместником в Вятку, вслед за тем получить назначение командовать войском в Севск, а между двумя подобного рода службами он мог получить приказ «идти за крестом», вместо князя, в какой-нибудь торжественной церковной процессии или же идти к какому-нибудь знатному лицу с блюдом, которое царь пошлет ему милостиво от своего стола. Возвратившись после этого снова в Думу, он мог иметь случай принимать участие в судебном разбирательстве какого-нибудь процесса, поступившего туда в апелляционном порядке. По крайней мере одна статья «Судебника» 1497 года упоминает о судебных делах подобного рода, как о подведомственных Думе.
Для всех этих дел Думе, пожалуй, недостаточно было бы двух заседаний в день, о которых упоминают летописи: первое летом с 7 ч. утра до часу-двух по полудни. Второе начиналось после обедни, которую они должны были обязательно выслушать вместе с князем, обеда и отдыха после захода солнца, и продолжалось до довольно позднего ночного времени. Но этот обременительный труд выпадал на долю только нескольких думских советников, да и то через большие промежутки времени. Большею же частью учреждение бездействовало. Да и была ли Боярская Дума учреждением? Это скорее фикция разделения власти, а с XVI века она становится действительно только тенью. Работала ли Дума отдельно от государя или совместно с ним, все еще сохранялась фикция нераздельности их действий во всех актах. Если князя не было в Думе, признавалось, что он всегда присутствует в среде собрания. Если же он действовал один, считалось, что это делается совместно с Думой. Мне кажется, Сергеевич был не прав, не признавая идеи этого мистического единства. Она пережила Боярскую Думу и снова проявилась в отношениях Петра Великого с его сенатом. Но это была только идея. Несомненным фактом, особенно с XVI века, была личная абсолютная власть, осуществляемая государем с помощью другого совещательного учреждения, состав которого определялся еще более произвольно и был более ограничен. Это давало еще большую свободу абсолютизму. Мы говорим о Совете, собиравшемся обыкновенно в государевой опочивальне и состоявшем из двух-трех бояр или доверенных людей, без различия происхождения. Совет этот соответствовал commune consioium, существовавшем рядом с magnum consioium во всех западноевропейских монархиях. Но здесь он был более изменчив и подвижен и всецело зависел от воли и каприза государя.
С другой стороны, в областях власть князя осуществлялась даже без какого бы то ни было признака разделения. В некоторых местах, как мы сейчас увидим, судебная власть находится в руках его прямых агентов. Порядок этот представляет либо полную привилегию государя, либо льготу, дарованную населению специальными грамотами (тарханными).
Рядом с этим за князем сохранилось рассмотрение направляемых по старому обычаю на его имя просьб. Наплыв их вызвал в XVI веке учреждение специального, так называемого челобитного приказа – этого зерна будущей «Тайной канцелярии».
Таким образом, государь является настоящим и притом единственным правителем, и его советники, так же как и его служилые люди, – только солдаты, которыми он командует, пешки, передвигаемые им по шахматной доске без всякого с их стороны сопротивления и без чьего бы то ни было контроля. В армии приобретает значение военный совет, он даже заставляет слушаться и считаться с его решениями во время неудачных походов. Но пусть едва победа и возвратится к вождю сознание своего значения – прощай генеральный штаб!
Планов Наполеона не обсуждают! Москва победила. Она продолжает торжествовать. Наследники Калиты, несомые на крыльях счастья, не желают отвечать за прошлое, не желают ни с кем считаться и в будущем.
Таково было положение в центре. Тот же тип военной организации установился и на окраинах.
II. Организация областного управления
Организация областного управления покоилась на владении землей. Владение землей создавало для собственников обязанности двух родов: крестьяне платили подати, вотчинники и помещики несли службу. Это «служилые люди». Они, кроме отправления гражданских обязанностей, которые могут быть на них возложены, составляют войско государя. Оно расквартировывалось в мирное время на тех же землях и подлежало немедленной мобилизации в случае войны. Служба начиналась с 15 лет. С этого возраста сын помещика получал часть отцовского имения, а если у отца семья велика, то новый надел. Со смертью помещика имение его разделялось между сыновьями. Дочери получали пожизненно известную часть и лишались ее при выходе замуж. В случае недостаточности применялась раздача добавочных участков. Разрешался обмен поместий, но с условием, что государство не страдает от этого: оно не желало терять ни одного человека. В раздел вотчин между наследниками государство формально не вмешивалось, но наблюдало, чтобы каждая доля досталась человеку послушному, которым оно могло бы вполне располагать.
Систему эту, очевидно, легче было применять к помещикам. Хозяин имущества, великий князь, крепко держит в своих руках помещиков. Политика Москвы неизменно стремилась к тому, чтобы заменить вотчины поместьями, наследственные владения обратить в пожизненные.
На землях, присоединенных к государству силою оружия, эта замена была более легкой и совершилась быстрее. Военный закон способствует этому, разрешая массовые конфискации земель и раздачу их. 20 лет спустя после присоединения Новгорода документы, помеченные 1500 годом, указывают нам, что в двух уездах – Ладожском и Орешковском – было 106 помещиков, владевших здесь половиной всей пахотной земли. Они были большею частью низкого происхождения – ремесленники, слуги. Но они тем более послушны. Юридическим предком обыкновенного типа земледельческого собственника шестнадцатого века в этой местности был княжеский псарь, награжденный землею еще в XIV столетии. Послушание было у него в крови.
С другой стороны, там, где дело объединения совершалось мирным путем, вотчинники преобладают. Они менее податливы, и на них-то будет направлен свирепый натиск, которыми Грозный заслужил свою кровавую славу.
Восторжествовавший после кризиса поместный порядок заключал другое неудобство: вследствие недостатка наделов создался настоящий земледельческий пролетариат. Один из помещиков, призванный в армию, жалуется, что не имеет средств приобрести себе лошадь. Другой – в ожидании надела исполняет обязанности дьячка и не имеет на что приобрести самое необходимое даже для службы в пехоте. Но они оба идут в счет, и государь имеет армию, которая ему ничего не стоит.
Ему нужна и администрация. Расходы по содержанию администрации ложились на управляемых. Управлять в то время значило выполнять судебные и полицейские обязанности – и этим питаться. Такая система была введена везде. На большинстве вотчинных земель в силу старинных привилегий, а на других в силу особых грамот, собственники – военные и даже духовные лица – пользовались правом суда и получали в свою пользу доход с тяжб, оплачивавшихся разного рода пошлинами. В их же распоряжении поступали и те штрафы, какие должны были уплатить в пользу судьи лица, осужденные за уголовные преступления, или же общины, если виновник не разыскивался. На землях, не пользовавшихся судебной привилегией, эти доходы делились между чиновниками, непосредственными агентами правительства, и «служилыми людьми» – наместниками, волостелями, которым правительство передает свои права и доходы. Управлять городом или областью значило жить на их счет, взимая судебные издержки. Это называлось кормлением; большею частью кормленщики и были правителями. Позднее, когда развитие экономической жизни потребует настоящих административных агентов, никто и не думает искать их между прежними кормленщиками. Новые потребности создадут новые органы, старые же пока останутся на своих местах только лишь для того, чтобы кормиться.
Отлично согласуемое с земельным правом вотчинников, являясь скорее пожалованием, чем судебной обязанностью, кормление относилось скорее к частному, чем к публичному праву. Добиваться его могла вдова какого-нибудь боярина или, за ее отсутствием, наследники, вся семья умершего должностного лица. Кроме того, рядом с наместником, жившим на счет области, был волостель. Но он не зависел и не подчинялся наместнику, а был скорее конкурентом его в своем судебном округе. Волостелям, каждому в отдельности, подлежали определенные разряды дел и лиц. Один, например, производил суд на черных землях, его сосед только на белых.
Легко представить, какие злоупотребления вызывала эта система. Формально судебные издержки были строго определены и доходы были ограничены некоторыми пределами. Но были еще побочные доходы, неизбежные подношения за некоторые темные сделки. При организации, лишенной действительного контроля, это было настоящей язвой всего строя.
Никакого правила еще не существовало для набора лиц администрации. Государь был совершенно свободен в выборе, но на практике он встречался с затруднением найти подходящих людей вне известного общественного круга. Политика Москвы стремилась расширить рамки и ввести в них новые элементы из всех слоев общества, до самых низов его. Но эти демократические стремления парализовались недостатком умственного развития. Хорошо выдрессированных псарей, которые могли бы прилично фигурировать в роли наместника, было очень мало. Таким образом социальный элемент, принцип наследственности и аристократический дух сочетались здесь с элементом политическим и принципом кооптации. В результатах этого получилось явление, подобия которого мы не находим ни в одном западноевропейском государстве. Это местничество, самое название которого почти не известно за пределами России. Я постараюсь объяснить его.
III. Местничество
Теоретически это право не было закреплено никаким законом, применялось в силу привычки и обычая. Заключалось оно в том, что каждый служилый, назначенный нести службу с другим, соглашался знать место не ниже того, какое он или кто-нибудь из его предков занимал по отношению к сослуживцу или его предкам. Например, двум субъектам поручено командование частями одного и того же полка. Оба они сыновья бояр. Но дед одного из них, будучи воеводой, имел под своей командой отца или деда другого. Внук воеводы имеет право отказаться от службы с данным ему товарищем – это и есть местничество.
Ничто не помешало бы князю назначить его конюхом, да и сам бы он не стал противиться, если бы только, убирая конюшню от навоза, ему не пришлось встретиться в той же конюшне за такими же занятиями другого конюха, отец которого был только поваренком, тогда как его – поваром. Но ничто не заставило бы его стать воеводой наряду с сыном поваренка.
Представьте теперь, что расчеты первенства идут по восходящей линии, по всем ее степеням и ветвям; вы можете вообразить, какие сложные случаи могли встречаться и сколько они вызывали споров. Политическая жизнь Московского государства полна ими, и всемогущество главы государства встречало в местничестве серьезное противодействие.
Погодин искал происхождение местничества в отношениях между удельными князьями. Теория эта имеет очень мало сторонников. В первых известных нам местнических спорах, совпадающих с появлением первых родословных книг, с очевидной ясностью выступает более общее родовое начало.
В своих собственных интересах московское правительство уважало и способствовало развитию этого принципа, служившего династическим основанием. Оно старалось соединить его с противоположной ему системой служебной иерархии и в результате создало местничество. Правительство сначала торжествовало. Возникая всегда из-за мест, раздававшихся государем, споры разрушали начала корпоративного единства. Они исключали понятие чистой аристократии и укрепляли идею службы. Впрочем, споры сначала заключались в тесном кругу частных отношений и ограничивались пустяками. Бояре спорили из-за места за столом у своего общего друга. Жены высших чиновников ссорились из-за места в церкви. Духовенство также считалось местами: епископ отказывался есть с одного блюда с менее знатным духовным лицом. Во время крестных ходов монахи ссорились из того, кому какое место занимать в процессии. Купцы следовали общему примеру, и великий драматург Островский отметил уже в наше время пережитки укрепившихся таким образом обычаев среди этого класса населения.
Но пришло время, когда в день сражения два предводителя затеяли местнический спор в виду неприятеля. Это было в Орше в 1514 г., и битва была проиграна.
Тогда уж нужно было принять меры. Начали запрещать в некоторых случаях споры из-за мест, например, во время войны, и виновных в неправильных домогательствах подвергали суровым наказаниям. Но уничтожить самый порядок, хотя и не установленный писанными законами, но тем ожесточеннее защищаемый, правительство не решалось. Аристократия употребляла все средства на сохранение его. Она выпустила последние заряды и потеряла последнее свое достоинство и гордость. Пока она занималась своей родовой арифметикой, власть ускользнула из ее рук. Действительно, аристократия долго занимала первые места, так как государству некем было заменить ее. Но когда нашлись другие кандидаты, местничество было уже бессильным помешать делу демократической нивелировки. Число мест, раздававшихся государем по его усмотрению, увеличивалось, и их занимали новые кандидаты. Таким образом подрывался в корне принцип сословности и корпоративности родовой знати. Правительство вместо нее создавало себе другую коллективную организацию, более послушную, более гибкую и без которой Россия 16–18 века не была бы, быть может, в состоянии выполнить свою гигантскую задачу; но это не был класс, а просто какая-то армия чиновников из разнородных элементов, не связанных никакими общими интересами.
Противопоставляя знатности происхождения личные заслуги, новая система выдвинула плодотворный принцип – принцип индивидуальных качеств. Таким образом было бы ошибочно полагать, как это делает Валуев и другие историки, что местничество есть только лишь образец китайской косности. Сама по себе система не была неподвижной, застывшей в определенной форме. Она изменялась и развивалась с течением времени. Она выдержала и сама производила разного рода давления. Своим пассивным сопротивлением местничество могло бы создать для абсолютизма серьезные затруднения, но оно не сумело противопоставить ему никакой социальной или политической силы, которая, парализуя его действия, могла бы заступить его место, направить в желательную сторону и подчинить своему контролю.
Другая сила была, по крайней мере в зародыше, в общинной организации, о которой я уже упоминал.
IV. Община
Исследования барона Гакстгаузена о русской земельной общине в ее настоящем виде, с самоуправлением и коллективной собственностью, появились в 1847 г. и были даже для самой России неожиданным и приятным открытием. Казалось, был открыт новый мир, подтверждавший оригинальность и превосходство первобытного устройства, которым страна могла гордиться перед лицом удивленной Европы. Но позднейшие исследования разрушили создавшуюся таким образом иллюзию. Они показали, что подобные учреждения существовали еще раньше во всех европейских и вне европейских странах от Ирландии до Явы и от Египта до Индии. В Европе различие между Россией и ее западными соседями свелось к вопросу возраста и цивилизации.
Но исследования и разочарования на этом не остановились. Думали сначала, что русская община, сходная с другими формами первобытного устройства, уцелела здесь в своем примитивном виде, благодаря медленному развитию социально-экономической жизни. Оказалось же, что она более позднего происхождения, вела свое начало не от доисторического патриархального коммунизма, а явилась результатом круговой поруки, чуждой свободным крестьянам до шестнадцатого века, и навязанной потом сельским общинам крепостным правом для правильного поступления от них налогов. Это был продукт политического режима, который восторжествовал на Руси в эпоху Ивана Грозного. Является ли русская община проявлением национального духа? Вовсе нет. Это создание государственного порядка.
Таким образом, согласно взгляду Чичерина[7] и Милюкова[8] мы имеем здесь поразительный пример обратного хода истории! Пример этот в некотором отношении представляет особенность экономического и социального развития страны.
Но хорошо ли выбран пример?
В первой половине шестнадцатого века, как мы видели, крепостная зависимость встречалась на Руси только в виде исключения. Однако там встречаются общины, объединяющие свободных крестьян. Каждый крестьянин даже должен был принадлежать к какой-нибудь из этих общин. Вне их находились только бродяги. Эти общины представляют собой самоуправляющиеся единицы, основанные на демократических и коммунистических началах. Собрание, где обсуждаются общие дела, состоит из представителей всех домов, старших членов семейств. Несколько общин составляли волость. Волость того времени нисколько не походила на то учреждение, которое теперь носит это имя. Занимая среднее место между кантоном и коммуной во Франции, приближаясь к американскому township, древняя волость обладала большей компетенцией.
Волостной сход имел право издавать обязательные для своих членов постановления, выбирал голов и общинных старост. Он распределял прямые подати, наложенные правительством на землю и промыслы, избирал лиц, которые должны были присутствовать на суде и играть там роль средневековых немецких Sch(ften или древнешведских Nemd; наконец, через свободно избираемых должностных лиц выполняет полицейские обязанности и защищает пред правительством общинные интересы.
Таково положение вещей можно восстановить по следам сохранившихся на принадлежавших свободным крестьянам черных землях.
Нельзя сказать, существовал ли он на других землях, где осуществляли свою власть кормленщики. С другой стороны, удалось установить, что на тех же землях в XV и XVI веке существовала в зачаточной форме коллективная собственность или такого же рода владение.
В памятниках той эпохи встречаются упоминания о соседях, складниках (от складать) и сябрах, в которых нетрудно угадать крестьян, соединившихся для обработки определенного участка земли. Истолковывая иначе названия и образ жизни этих землевладельцев, соединенных будто бы только общностью повинностей, Сергеевич[9] допускает другие формы общинного землевладения. На землях высшего духовенства и монастырей, история которых нам более известна, пользование некоторыми участками было общим для их держателей.
Надел каждой семьи, выть или соха (соотв. английск. virgate), не представлял собой определенного, установленной меры участка; это скорее было право занимать и обрабатывать несколько, например, 5, десятин в каждом из трех полей. В одном из владений Троицкого монастыря[10] встречается, как единственное исключение, общая обработка участков, которыми наделены крестьяне.
Наконец, на землях, конфискованных дедом Ивана Грозного после присоединения Новгорода, т. е. на землях, отнятых у бояр и переданных оброчным крестьянам, замечается зарождение и даже некоторое развитие общинного пользования лугами, озерами, лесами. Но все это было явлением местным, рудиментарным и совершенно новым и далеким от полной и общей формы коллективизма современного русского мира, с периодическими переделами, схожего с run-rig в Англии или Ирландии. Мир тогда находился только лишь в зачаточном состоянии; происхождение и характер развития этого зародыша не может быть указан с точностью и до настоящего времени.
Развитие его началось в XV веке и продолжалось в XVI. В это время русская община не была остатком патриархальной организации первых времен, разрушенной нормандским завоеванием или даже гораздо раньше, как полагают некоторые историки, благодаря смешению славянской расы с чуждым ей финским элементом. Но были ли финны в древней южной Руси – это неизвестно. Является ли эта реставрированная община возрождением древнего коммунального строя, обусловленным постоянством некоторых социальных привычек, или же она представляет совершенно новый продукт самостоятельного процесса, в котором славянофилы видят выражение особой склонности русского национального характера к жизни обществом, ассоциацией – это темные вопросы, и требования национального самолюбия едва ли могут внести в них ясность. Упомянутая склонность не может быть отрицаема. О ней свидетельствуют артели. Но в Германии и в особенности в Англии социальный дух проявил бесконечно больше энергии в среде общинных группировок, сопротивления которых не могла преодолеть даже современная централизация. Я склонен полагать, что здесь смешиваются два начала – исторический атавизм и природные наклонности, сочетающиеся в жизни населения, долго находившегося в неорганизованном состоянии. На пороге новой эпохи они сообщают особую форму этому рудиментарному общественному организму. Русская община XV века не имела ничего родового. Она открыта для каждого. Всякий крестьянин может войти в нее, приняв на себя часть общих повинностей. Русская община представляет чистый тип общины договорного характера и этим отличается от старинных форм, сохранившихся в своем первоначальном виде среди других славянских племен. Но некоторая административная автономия приближает ее к этому прототипу. Однако характер и пределы этой автономии служат еще предметом спора. Принимала ли община XV века участие в судопроизводстве и в какой мере? Вопрос остается открытым. Но тем не менее известно, что судебная организация того времени, когда применялась указанная выше мной система кормления, не оставляла места другой какой бы то ни было подобной себе власти. Владение принадлежало «служилым людям». Охота запрещена. Подсудное население на самом деле было дичью.
Но в следующем веке картина меняется. Общинная автономия быстро расширяется. Она стремится захватить всю область местного управления со всеми ее правами. Что же случилось? Оказалось, что служилые люди стояли не на высоте своей задачи. Эксплуатируя области, они их разорили. Своей бездеятельностью и беспорядочностью они не только принесли тяжелый ущерб частным интересам, о которых само государство не заботилось, но и испортили то, что лежало на их попечении: они уничтожили или истощили источники государственных доходов. Тогда, колеблясь еще между двумя полюсами собственного развивающегося политического строя – между абсолютизмом и либеральным течением, – правительство решило уничтожить установленные им самим привилегии, которые не оправдали его ожиданий. Оно передает другим те обязанности, которые, к его сожалению, были так неудачно доверены, и обращается к тем самым элементам общинного устройства, которые долго были в пренебрежении и даже подвергались нападкам. Грамоты, раздаваемые все охотнее, облекают старост и присяжных властью, которая сначала ограничивает, а потом и совсем вытесняет власть государевых наместников и волостелей. Но государство не отступает ради этого от своей основной программы. Оно не вполне отказывается от своего деспотизма. Оно ищет компромисса между этим принципом и духом учреждений, вызванных к новой роли. И оно его находит – дает власть и отнимает этим независимость. Выборные лица, полномочия которых расширены, все же будут еще чиновниками, его людьми, а община, выросшая, возвысившаяся, будет государственным учреждением. Мы проследим эту фазу до следующей ступени развития, когда, под влиянием крепостного права, община примет еще новую форму: это уже будет самоуправление каторги, коллективизм цепи, сковывающий людей попарно.
Чтобы понять эти постепенные превращения, необходимо изучить ближе, хотя бы в общих чертах, действие отдельных колес машины, испытавшей на себе влияние противодействий.
V. Организация суда и законодательство
До половины XVI века на отправление судебных обязанностей смотрели как на пожалование, на доходную статью. Фискальные агенты и уполномоченные правительства на землях черных, владельцы на землях белых кормятся и кормят других из этого источника. Судебные приговоры являются предлогом для взыскания установленных пошлин. Преследование преступлений есть главным образом финансовая операция. Если же ведение некоторых случаев преступлений – убийства, разбой – сохранилось за государством, то причиной является доходность этих дел, они приносят больше выгоды, и правительство сохраняет себе лучшие куски.