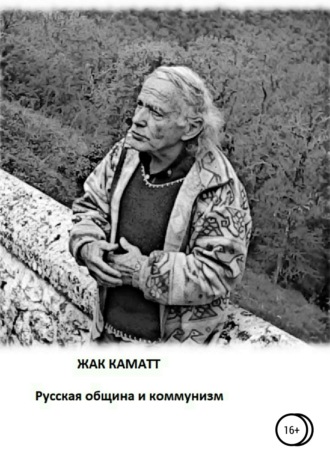
Жак Каматт
Русская община и коммунизм
Самым опасным врагом пролетарской революции стал КСП. Западноевропейский правящий класс, как указывал Энгельс, был заинтересован в интервенции в России, чтобы восстановить власть царя и, как в случае с февральской революцией 1917-го, попытаться совершить капиталистическую революцию сверху, отстранив пролетариат от власти и раздавив пролетарскую революцию на Западе.
Россию уже нельзя было рассматривать глазами молодого Маркса, полемизировавшего в Neue Rheinische Zeitung или в New York Tribune. Энгельс верно почувствовал это, когда какое-то время противостоял формированию Второго Интернационала, говоря, что следовало выждать созревания событий в России. Позже, во время революции 1905-го года Роза Люксембург уже знала, что Россию следовало воспринимать как революционный центр, и даже Каутский писал в 1902-м, как потом вспоминал Ленин:
«'В 1848 г. славяне были трескучим морозом, который побил цветы народной весны. Быть может, теперь им суждено быть той бурей, которая взломает лед реакции и неудержимо принесет с собою новую, счастливую весну для народов' (Карл Каутский, Славяне и революция, 1902)»
Происходящие перемены нельзя было лучше описать. Однако большинство этих утверждений не имело будущего (Каутский), или их невозможно было осуществить (Люксембург). Сомнения немецких революционеров по российскому вопросу и их конечное возвращение к простому анти-славянству, было очень точно выражено Энгельсом. Он писал Бебелю 24 октября 1891-го:
"Но если французская буржуазия все-таки начнет войну и для этой цели поставит себя на службу русскому царю, который является также и врагом буржуазии всей Западной Европы, то это будет отречением от революционной миссии Франции. Напротив, мы, немецкие социалисты, которые при условии сохранения мира через десять лет придем к власти, мы обязаны отстаивать эту завоеванную нами позицию авангарда рабочего движения не только против внутреннего, но и против внешнего врага. В случае победы России мы будем раздавлены. А потому, если Россия начнет войну, – вперед, на русских и их союзников, кто бы они ни были. (…) Мы еще не забыли славного примера французов 1793 г., и если нас к тому вынудят, то может случиться, что мы отпразднуем столетний юбилей 1793 г., показав при этом, что немецкие рабочие 1893 г. достойны санкюлотов того времени…". (Письмо А.Бебелю, Маркс, Энгельс, ПСС, т.38)
Достаточно удивительно, что Энгельс мог говорить о революционной миссии Франции после Коммуны, к тому же он писал в своей письменной полемике с Ткачёвым о России, что избранных народов больше нет. Также, русская победа над немцами не обязательно означала поражение КСП, потому что, в этом случае, несмотря на военное поражение, часто могла возникать более развитая форма. Гораций однажды сказал, что Греция покорила победителей (римлян)! Здесь Энгельс был полностью введён в заблуждение демократией. Он считал, что рабочие придут к власти в результате выборов. Война помешала этому достославному событию. Именно так он считал, поскольку то же самое можно найти в статье, опубликованной в 1892-м, озаглавленной «Социализм в Германии», в которой он призывал к защите немецкой нации и говорил о военной необходимости принять слова «Марсельезы» от иностранных союзников, заявляя следующее:
"Мир обеспечит победу Социал-демократической партии Германии приблизительно лет через десять ". («Социализм в Германии», Маркс и Энгельс, ПСС, т.22)
В конечном итоге, чтобы понять эту ошибочную позицию, надо вспомнить, что Энгельс в 1891-м считал, что рабочее движение должно было завершить немецкую революцию.
"Наша задача состоит не в том, чтобы революцию сверху, произведенную в 1866 и 1870 гг., поворачивать вспять, а в том, чтобы внести в нее необходимые дополнения и улучшения движением снизу". («К критике проекта социал-демократической программы 1891 г.», Маркс и Энгельс, ПСС, т.22)
Ленин отлично понимал непоследовательность в данном вопросе и не попал в ловушку национальной войны, прогрессивной войны (за Запад в то время). Эта непоследовательность была ещё более замечательной, потому что ему пришлось противостоять директивам маэстро Энгельса, который даже предлагал (в другом письме от 13.10.1891 г.) поддержать правительство в войне!
Так капитал, приблизившийся к своим географическим пределам на рубеже веков, должен был перейти к стадии интенсивного развития (которое некоторые осознали позже, как внутреннюю колонизацию) и в этом он противостоял огромному региону, в котором люди сохраняли свои общинные структуры. Благодаря этому революционеры рассматривали мировую революцию уже не просто в классовых терминах, а капиталистическую стадию уже не как обязательный для достижения коммунизма этап.
Трудность революционной борьбы состоит как раз в том, чтобы понимать разрывы и быть способным возобновлять теоретическую деятельность, для того чтобы представить революционный феномен с самого начала разрыва, который проявляется годы спустя с характеристиками, определяемыми как раз этим разрывом, который можно было распознать. Только в моменты борьбы можно применять самое радикальное решение, потому что всегда можно пойти на самый большой разрыв. Вот почему революционные годы богаты событиями и идеями, но после происходит лишь ужасное повторение прошлого, вплоть до нового разрыва.
Это тем более трудно потому, что правящий класс ставит перед собой задачу завуалировать такие разрывы и заставить поверить, что всё как было раньше, что надо продолжать в этой последовательности доминируемой этим классом. Французские социалисты думали, что должны были продолжать французскую революцию и не осознавали разрыв, который подразумевало их собственное движение. Марксисты в конце прошлого века были озабочены продолжительностью процессов капитала, веря, что работают на формирование нового общества, потому что не ставили под вопрос принцип роста производительных сил.
Подъём капитала, как говорил Маркс, распахнул дверь, мешавшую развитию производительных сил, а также техническому развитию, в их неразрывной связи, освобождая человека от старых социальных предпосылок. Капитал положил конец преклонению перед природой, тенденции рассматривать всё живое как экзистенциальное табу, т.е. как нечто неизменное; теперь человек уже не воспринимал себя под знаком неизменности, в качестве неизменного элемента природы, которую невозможно изменить, и именно на этой основе человек смог признать сам себя как автономного создателя:
"По сравнению с этой точкой зрения было большим шагом вперед, когда мануфактурная или коммерческая система перенесла источник богатства из предмета в субъективную деятельность, в коммерческий и мануфактурный труд…" (Grundrisse, т.1, стр.33)
Этот прогресс нашёл философское выражение в философии Канта, поставившей под вопрос старый образ мысли:
"до сих пор считали, что все наши знания должны сообразоваться с предметами…" но на деле "… предметы должны сообразоваться с нашим познанием". (И.Кант, Предисловие к «Критике чистого разума»)
Изменение метода состояло в том, что субъект теперь ставится в центр всего.
Настоящий разрыв человека с природой (ср. у аббата Брейля, сказавшего, что крестьянская цивилизация была уничтожена в наше время, что цикл, началом которого был неолит, закончился) пришёл вместе с КСП. В этом заключается точка отсчёта для развития, чьей целью может стать сам человек в бесконечном процессе (истинный и не-неопределённый). Именно этому аспекту Маркс отдаёт должное в Grundrisse в первую очередь. Иными словами, человек может отрицать все догмы, все социальные и естественные ограничения, с того момента, как он полностью освобождается от старой общности, или её модифицированных форм. Но когда решение было найдено, оставалась ещё необходимость обрести контроль над новыми силами, которые становились автономными. Буржуазия, капиталисты, полностью переходили на сторону этого развития22 и принимали преобразование человека машинами (через которое проходил не просто человек, но пролетарий) и формирование новых догм: прогресса, развития производительных сил, роста, культа нового божества науки.
Более того, с тех пор как подъём производительных сил становится признанным фактом в каком-либо месте для какой-либо части человечества, другие народы, остающиеся при своих общинных формах (особенно если они смогли дать свободу индивидуальности, как в случае славянской общины), могут использовать его и таким образом избежать кровавого хода истории Западного общества. Такова была основная тема для русского народничества, придававшая грандиозный характер дебатам, которые различные народнические движения вели между собой, а также с марксистами и анархистами.
Развитие производительных сил, базиса, отправной точки для утверждения общечеловеческой коммуны, освобождённой от естественных и социальных ограничений, превратилось в захватническую силу в конце прошлого века, который деградировал человека в гораздо большей степени, чем кто-либо переживал при предыдущих способах производства: это был момент автономизации капитала. То есть, подчинив отрицающий класс, пролетариат, он установил господство над самим правящим классом, который правит лишь в качестве посредника. Отсюда освободительные возможности исчезают, и остаётся лишь угнетающая реальность. Но весь социальный организм продолжал воспринимать вещи по-старому, что стало причиной священного союза в 1914-м.
Опять же, ясно, что дело здесь не в осознании разрыва, восприятия новых разрывов, которые кажутся странными, но в том, что нужно реорганизовать всю теоретическую деятельность. Трудность этого задания видна у самого Маркса. У него были все элементы для понимания реального господства капитала над обществом, способа его установления, теоретические факты для понимания социальных сил, в их специфичности, помимо самого капитала, а также необязательность прохождения через КСП. Но те работы, в которых можно найти это понимание, не были опубликованы при его жизни. Сомнения ясно видны в его ответе Засулич, который очень краток, в то время как черновики длинны и, помимо всего прочего, содержат реальные элементы ответов, которых нет в самих письмах.
Речь идёт не о том, чтобы переписать Маркса a posteriori для современного использования, но о его понимании во всей сложности, и, конечно же, в продолжении борьбы. Изобретать некую последовательность и подгонять её под наши потребности и текущие события означает грабить его жизнь и высмеивать его смерть. Судьба революции в России была связана с революцией в Западной Европе и vice versa, начиная с 1848-го. Теоретическое и практическое отступление в конце прошлого века, отход от перспективы скачка через КСП, привели к генезису марксизма, как теории роста, как абсолютного подкрепления теории евроцентризма с однолинейной концепцией развития человеческих обществ и т.д… Известно, что Второй Интернационал (кроме Люксембург и Ленина) уже не занимался национальным и колониальным вопросами. Бернштейн оправдывал колониализм во имя цивилизующей роли капитала. Бакинский съезд 1920-го объявил войну империализму и Западу вслед за русской революцией и повстанческими движениями в Азии. Ленин принял перспективу скачка через КСП на втором съезде Коммунистического Интернационала.
" Постановка вопроса была следующая: можем ли мы признать правильным утверждение, что капиталистическая стадия развития народного хозяйства неизбежна для тех отсталых народов, которые теперь освобождаются и в среде которых теперь, после войны, замечается движение по пути прогресса. Мы ответили на этот вопрос отрицательно. Если революционный победоносный пролетариат поведет среди них систематическую пропаганду, а советские правительства придут им на помощь всеми имеющимися в их распоряжении средствами, тогда неправильно полагать, что капиталистическая стадия развития неизбежна для отсталых народностей. Во всех колониях и отсталых странах мы должны не только образовать самостоятельные кадры борцов, партийные организации, не только повести немедленно пропаганду за организацию крестьянских Советов и стремиться приспособить их к докапиталистическим условиям, но Коммунистический Интернационал должен установить и теоретически обосновать то положение, что с помощью пролетариата передовых стран отсталые страны могут перейти к советскому строю и через определенные ступени развития – к коммунизму, минуя капиталистическую стадию развития". (В.И.Ленин, ПСС, т.41, стр.245-246)
Однако, притом, что серьёзный анализ особых характеристик социальных форм, при которых революция вспыхивает и разрастается, отсутствовал, лёгкое решение заключалось в перенесении схемы России (которая сама является продуктом ограничительной работы). Это привело к изобретению феодализма, чтобы оправдать альянс с т.н. национальной буржуазией, к примеру. Результатом стала бойня кантонских и шанхайских рабочих. Бойня пролетариата продолжалась всё в той же манере в Ираке (1958), Индонезии (1965) и Судане (1971), если ограничиться лишь несколькими примерами.
Утверждение особенностей гео-социального региона долго рассматривалось течениями, называвшими себя марксистскими, такими как реформизм. Они предпочитали считать последовательность способов производства правильной для всего человечества. Начиная с 1958-го, из-за антиколониальных революций, изучение «Форм, предшествующих капиталистическому производству» позволяло пересмотреть весь вопрос, как это видно в тексте Бордиги «Классовая и национальная борьба в мире цветных народов, жизненно важное историческое поле для революционной марксистской критики», основой которого было отрицание какого-либо превосходства европейской цивилизации. Он утверждал, вслед за Марксом, что общества, в которых целью производства является человек находятся выше, чем его собственное общество. Также, в 1960-м на итальянском языке появился памфлет «Последовательность форм производства в марксистской теории», написанный в основном Роже Данжевиллем, с комментариями к «Формам, предшествующим капиталистическому производству», и с подробным резюме их различных характеристик в таблице23.
Эти работы вызвали лишь слабые отклики. Мы не можем останавливаться здесь на причинах для этого, потому что мы должны указывать на конечные результаты отхода от теоретического подхода Маркса и народников по отношению к КСП. Мы утратили пролетариат, как исторический класс, и теперь человечество утратило возможность скачка через КСП в некоторых регионах мира, и мы не смогли осознать это, будучи заражёнными идеей о том, что прогресс для всех людей заключается в развитии производительных сил, т.е. в конечном итоге, капитала, который стал утверждением принятия осознания победы капитала самим пролетариатом. Естественно, что народы, которые заставили подчиниться соглашению с нашим смертельным врагом, с ненавистным путём прохождения через КСП, должны обвинять нас (яростная критика Марксова этноцентризма уже предпринималась различными этнологами из этих народов); теперь мы все должны найти в этом, и на основе коммунизма (как теории и движения), путь к нашему общему освобождению.
***
У каждой революции – тройной характер, в зависимости от того, как давно она произошла. Если рассматривать революцию в широком историческом цикле, она представляется естественным феноменом, развившимся спонтанно и с безудержным насилием. Именно такой представляется русская революция, если изучать ее, начиная с декабристов 1825-го (многие позиции Пестеля были приняты народниками, а сам он придерживался позиций Радищева тридцатилетней давности) до октябрьской революции. Однако если изучать революцию в момент её пароксизма, кульминации с февраля по октябрь 1917-го, начинает казаться, что она произошла из-за того, что тогда существовали 'необычные' люди и что революция могла произойти только благодаря их действиям. Некоторые превратили Ленина в мессию, а Зиновьев говорил, что такой человек появляется на земле раз в пятьсот лет. Наконец, если изучать революцию в ретроспективе, в том, что она реализовала на деле, и сравнивать её с дореволюционным периодом, зачастую некоторые начинают сомневаться в её необходимости. Всё, к чему она привела, мог сделать и правящий класс того времени и, таким образом укрепляется убеждённость в её бесполезности. Вместо этого надо подходить к данному вопросу с точки зрения времени. Правда, что революция не решила проблем, которые она сама создала, но она решила те, что появились и не могли быть разрешены из-за предыдущего способа производства.
Мы проанализировали первую характеристику, остаётся ещё две, интимно связанные с первой и определяемые ей. Дело здесь не в оправдании, но в реалистичном отображении того, что неизбежно должно было произойти с того момента, как разрыв, о котором мы говорили, не был включен в теорию. Мы сделаем лишь некоторые утверждения, потому что невозможно адекватно доказать их истинность в рамках данного введения.
Что бы ни говорили противники большевизма, большевики не устраивали государственного переворота в октябре 1917-го. Присутствовало движение, под влиянием которого сложилась ситуация, позволившая изменить прежний ход вещей. Захват ими власти был моментом абсолютной жизненной важности для революционного движения, начавшегося в феврале. Он позволял понять, что происходило, но могло прекратиться, если бы старая власть (препятствие для свободного развития революционных сил) не была также уничтожена. Даже капиталистическая революция не была бы способна развиться без этого акта, а эволюция России стала бы схожей с эволюцией Индии.
С другой стороны, большевики не могли осуществить "буржуазную революцию в пролетарской манере", несмотря на то, что говорил Бордига. Брест-Литовский мир, вопреки надеждам Ленина, не был:
"…миром трудящихся масс против капиталистов".
В марте 1917-го он писал:
"Чтобы не дать восстановить полицию, есть только одно средство: создание всенародной милиции, слияние ее с армией (замена постоянной армии всеобщим вооружением народа)". (В.И. Ленин, ПСС, т. 31, стр. 165)
Но была восстановлена полиция, и Ленин заявил, что это было необходимо. Что же касается Красной Армии, то она была учреждена, как и армия французской революции, как амальгама, отделённая от народа.
Рабочий контроль был одним из центральных пунктов революционной программы до октября, но его быстро сменило экономическое управление, потребность в конкуренции, и система Тейлора (которую до этого Ленин яростно критиковал). Существует масса фактов, подтверждающих стремительный рост революции, на которую Ленин надеялся, начиная с 1905-го, и на которую рассчитывало большинство революционеров, истощённых за год из-за запаздывания интернациональной помощи. Поэтому чисто капиталистическое содержание стало императивом. Большевики также быстро утратили способность понимать все возможные обновления, которые нёс этот рост, потому что они оказались в ловушке государства. У них больше не было восприимчивости, которая позволила бы им избежать утраты всех контактов с пролетариатом и крестьянством.
Определённая радикализация происходила в 1919-м, во время революционных движений на Западе, благодаря которым стало возможно создание Третьего Интернационала, но отступление вновь открыло дорогу экономической интеграции. Советское государство всё больше превращалось в сильное государство, довлевшее над обществом, но подчинённое мировому капиталу. Большевики стремились удерживать государство по мере его построения. Они модифицировали его, только если они были вынуждены к этому. Кроме того, они собирались уступить его пролетариату только после реформирования последнего, экономической реорганизации и восстановления промышленности. Это в чём-то сходилось, как показал Вентури, с позициями некоторых членов Народной Воли:
"Революционная партия не должна была передавать власть представителям народа до тех пор, пока не была реализована революция. До этого времени, она должна была крепко держать её в своих руках и сопротивляться любому, кто попытался бы отобрать власть у партии".
Иными словами, российскому пролетариату не удалось стать правящим классом, о чём говорил Маркс в «Коммунистическом манифесте» и «Критике Готской программы». Он провалился так же, как западный пролетариат в 1848-м и 1871-м. Кронштадская коммуна и её подавление, большая стачка в Петрограде стали самыми убедительными выражениями этого. Параллельно данному откату, Ленин начал больше говорить о строительстве социализма в России после 1921-го. Установление правящего класса произошло позже в мистифицированной форме (точно так же, как и на Западе) когда были уничтожены последние оппозиционные движения.
Осуществление "буржуазной революции", хотя бы и "в пролетарской манере" сохранило концепцию партии, причём её понимали как формальное учреждение: надо организовать рабочий класс, который затем организует крестьянство, а значит и русское общество. Общество всё глубже погружалось в хаос, последовавший за распадом общины, из-за которого стала необходимой жёсткая партийная структура: это был единственный элемент с абсолютной волей, несгибаемостью и способностью посредничать между государством и крестьянами.
Ленин настороженно относился к советам. (В чём-то он согласился с меньшевиками: советы были обязаны своим появлением отсутствию партии и профсоюзов). Он воздавал им должное: это был "эмбрион новой революционной власти", и, в то же время, не верил им, потому что боялся стихийных или анархо-синдикалистских влияний. Советы стали чем-то вроде адаптированного общинного органа под названием сход. Изначально приняв их в 1917-м, вплоть до такой степени, что они были выведены на передний план в «Государстве и революции», Ленин тем самым снова принял элементы народничества, потому что революция в России не могла избежать народнического характера. Но он не мог перестать отождествлять советы с западным феноменом. Он заявлял, что они реализуют пролетарскую демократию, тогда как они были по ту сторону демократии с самого начала именно из-за своей попытки возродить общину, хотя бы и вне геосоциальной и исторической основы села. Формирование советов стало подтверждением образования пролетариата, как класса. Но очень скоро между советами и коммунистической партией произошёл раскол. Советы были недостаточно сильны, чтобы преодолеть его, а партия не смогла осуществить качественный скачок на их общей основе спонтанного движения против царизма и мирового капитала. Невозможность союза между ними стала выражением тупика русской революции, как социалистической революции.
Распространение советов как образа жизни русского пролетариата в его движении к уничтожению капитала объясняет собой следующую разницу: в Германии до 1914-го СДПГ и её профсоюзы объединяли всех рабочих, в то время как в России накануне революции такой единой партии не было. В Германии партия была выражением пролетарского движения. Она стала настоящим сообществом, как отмечали некоторые комментаторы. Мы бы сказали, более того, она шла к формированию новой общности, которая в то же поддерживала некоторые предпосылки капитала, отсюда её неудача. Её проект был реализован без иллюзорной вуали нацистской партией, когда интегрировала пролетариат, в качестве производителя, в свою общность капитала. Роза Люксембург ясно осознавала это и ждала до самого конца перед тем как пойти на окончательный откол от партии, она это сделала, когда пролетариат был уже расколот. Раскол не был такой проблемой для русских, потому что община, которую создавали рабочие, реализовывалась в непартийных формах: в советах. Феномен партии как выражения глобального классового противостояния не мог сложиться в России из-за внеклассового измерения революции. Мы долго настаивали на народном и народническом аспекте революции 1905-го (вот почему историки русской революции предпочитают побыстрее отделаться от неё), который вновь проявился в феврале и октябре 1917-го. Советы лишь предстояло завоевать, в то время как в Германии они сразу подпали под влияние СДПГ и революционному пролетариату пришлось формировать Unionen (Союзы, типа AAU, AAUD, AAU-E прим. пер.).
В обоих случаях, в России и Германии, желание использовать опыт друг друга в качестве модели было несущественным. Изначально Ленин и большевики (а также в какой-то мере меньшевики) мечтали создать партию типа СДПГ. Позже немецкие коммунисты стремились к большевизации своей партии.
Различные партии действовали так, словно они были маргинальными по отношению к действию, несмотря на все их связи с массами: маргинальными по отношению к движению пролетариата и крестьянства. Этот пробел можно было устранить в 1917-м. Возможно, именно из-за этого разногласия между партией и массами некоторые заговорили о том, что октябрьская революция была скороспешной. Мы считаем, что это была попытка единения, интеграции между партией и массами в вопросе о борьбе между партиями, как носителями различных исторических перспектив в вечно подвешенном состоянии, в то время как перспектива скачка через КСП всегда оставалась присутствующей и отсутствующей одновременно, в качестве определяющего фактора для развития революции. Социалистический рост был реализован лишь на основе этого единения.
Одной из самых противоречивых мер было провозглашение права наций на самоопределение: это была определённо буржуазная мера, тем не менее, требовавшаяся для развала царской империи и ослабления центральной власти. Вот почему его можно найти уже в программе рабочих участников партии Народная Воля:
"(3) Народы, аннексированные российским государством насильственным способом, будут свободны или покинуть Всероссийскую федерацию или остаться в ней".
Это заявляли также предыдущие народнические течения. Однако не следует упускать из вида тот факт, что Ленин не противостоял членам пролетарских партий из стран, находившихся под российским господством, когда те заявили, что, напротив, надо было оставаться в российской зоне. Но слабость заключалась не в непонимании важных изменений по отношению к 19-му веку. Тогда воссоздание Польши играло революционную роль. Век спустя, её воссоздание могло быть только делом рук контрреволюции. Роза Люксембург интуитивно предчувствовала это24.
Было бы преувеличением приписывать позициям большевиков неудачи революции в странах, отделившихся от России. Это был продукт слабости всего интернационального движения. Революции в странах на южной периферии (т.e. в Турции, Иране и Индии), на которые также повлияла революционная волна, были легко остановлены мировым капитализмом, и СССР с самого начала использовал их, чтобы снизить давление, оказываемое на него, таким образом, замораживая их развитие.
Однако, как и в этих странах, Центральная Европа также образовала ось, в которой революция и контрреволюция встретились снова, причём обе стали ответвлениями современного капиталистического общества. Не случайно самые репрессивные государства в мире появились именно там. Контрреволюции надо было блокировать это развитие, развязав балканизацию Центральной Европы (где она была лишь реструктурирована) как в других странах Ближнего Востока, и, особенно как при разделении Индии на Индию, Пакистан, Бангладеш, Цейлон и мелкие гималайские государства. Теперь, однако, революция развивается сверху, и призрак народной революции не был окончательно изгнан, так, движение 1971-го в Цейлоне выказывало коммунистическое измерение.
Большевикам не удалось возродить коммунистическую теорию. Бордига утверждал обратное и всегда называл эту теорию марксизмом. Для нас же это лишь идеологизация теории. Верно, что предположение Бордиги может считаться верным в буквальном смысле, но мы всё же будем придерживаться нашего утверждения. Большевики `восстановили' то, что им нужно было для непосредственной борьбы, т.е., всё, что связано с государством, революцией, партией, развитием КСП, развитием человеческого общества и т.д.
Слабость большевистской партии видна из следующего определения коммунизма Лениным:
" Что такое коммунист? Коммунист – слово латинское. Коммунис значит – общий. Коммунистическое общество значит – все общее: земля, фабрики, общий труд, – вот что такое коммунизм ". (В.И. Ленин, ПСС, т. 41, стр. 314)
Реставрация нам больше не нужна (даже если удалить всю реакционность из этого слова), потому что требуется нечто намного большее. Надо преодолеть работу Маркса и всех тех, кто работал с видом на коммунистическую революцию. Нам навязывается капиталистическое движение. Оно зашло, как предвидел Маркс, за свои пределы и речь идёт уже не о том, чтобы, например, развить деятельность по реструктуризации рабочего класса, по его объединению, а о том, чтобы действовать в движении отрицания классов. То есть, это вопрос не новой диалектики, но её преодоления.
Анализ того, что реализовала русская революция, и её распространение в мире более важен, чем изучение ошибок и слабостей большевиков, хотя их и нельзя вычеркнуть из урока. Если учесть весомость общинного феномена, было бы совершенно неадекватным сравнивать русскую революцию с революциями 1789-84, 1848-49, или 1871 годов, как это делал Ленин, вслед за Энгельсом. Разумеется, общие черты присутствуют, но измерение скачка через КСП всегда отсутствовало в перспективе и возможностях этих революций. Эта перспектива и возможность поддерживали весь революционный процесс.
Русская революция воспользовалась капиталистическим способом производства, а КСП воспользовался СССР. Это уже происходило в России 19-го века:
" Русская дипломатия не только без вреда, но и с прямой выгодой для себя выдержала уже так много западноевропейских революций, что, когда разразилась февральская революция 1848 г., она могла приветствовать это как чрезвычайно благоприятное для нее событие". («Внешняя политика русского царизма», Маркс и Энгельс, ПСС, т.22)
Россия помогла Англии стать ведущей капиталистической державой в восемнадцатом и девятнадцатом веках, поддерживая европейское status quo, особенно после 1848-го, она помогла реализации формального господства капитала. СССР стал партнёром США в двадцатом веке и помог последним обрести глобальное превосходство. Но это одновременно облегчило реализацию реального господства капитала над обществом25. Две великие революции, во Франции и Китае, сразу поставили под вопрос этот зловещий альянс. В обоих случаях шок был преодолён, и теперь можно говорить об интегрированности Китая в общность капитала, чьё реальное господство прививается китайскому обществу.


