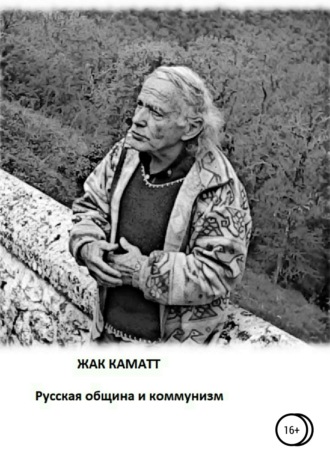
Жак Каматт
Русская община и коммунизм
Вывод: революция не является проблемой формы организации. Она зависит от программы. Если только доказано, что партийная форма является самой эффективной в представлении программы, в её защите. И здесь правила организации не берутся взаймы у буржуазного общества, но происходят из видения будущего общества (как мы это продемонстрируем).
Маркс выводит оригинальность партии из борьбы пролетариата. Последняя с самого начала проявляется как новая Gemeinwesen; с самого начала указывая на конечную цель, к которой стремится: общество, в котором больше не будет существовать частная собственность, но только собственность человеческого вида:
«Пролетариат сразу же с разительной определённостью, резко, без церемоний и властно заявляет во всеуслышание, что он противостоит обществу частной собственности. Силезское восстание начинает как раз тем, чем французские и английские рабочие восстания кончают, – тем именно, что осознаётся сущность пролетариата. Самый ход восстания тоже носит черты этого превосходства. Уничтожаются не только машины, эти соперники рабочих, но и торговые книги, документы на право собственности. В то время как все другие движения были направлены прежде всего только против хозяев промышленных предприятий, против видимого врага, это движение направлено вместе с тем и против банкиров, против скрытого врага. Наконец, ни одно английское рабочее восстание не велось с такой храбростью, обдуманностью и стойкостью… Стоит сравнить эти гигантские детские башмаки пролетариата с карликовыми стоптанными политическими башмаками немецкой буржуазии, чтобы предсказать немецкой Золушке (то, что сегодня в большой степени подтверждено; сегодня мы всё ещё должны основывать нашу революционную стратегию на действии пролетариата в данной части света: инвариантность марксизма!) в будущем фигуру атлета. Следует признать, что немецкий пролетариат является теоретиком европейского пролетариата, подобно тому как английский является его экономистом, а французский – его политиком» (там же, стр.444).
В каждом из этих трёх случаев, борьба пролетариата была критикой различных аспектов человеческой деятельности. Знание не приходит к нам от буржуа напрямую, как хотели бы некоторые: оно приходит из борьбы нашего класса, оно не является особой сферой нашей деятельности, которую мы пассивно усваиваем от противостоящего нам класса; нет, это нечто энергичное и страстное, то, что пролетариат вырвал у своего классового врага. Молодой Маркс был бесконечно прав, когда сказал, что идеи коммунизма, «которые овладевают нашей мыслью, подчиняют себе наши убеждения и к которым разум приковывает нашу совесть, – это узы, из которых нельзя вырваться, не разорвав своего сердца, это демоны, которых человек может победить, лишь подчинившись им». (Маркс, «Коммунизм и аугсбургская Allgemeine Zeitung», М: ПСС, т.1, стр.118, 1955).
Маркс интегрировал все три факта и передал их пролетариату в форме тезисов, формирующих коммунистическую программу. Последняя родилась в борьбе, и является внеличностной силой, находящейся над поколениями. Маркс и Энгельс были первым субстратом этого первичного универсального сознания, и передали его. С самого начала Маркс демонстрирует, что коммунистическая программа не является продуктом отдельной личности: «революция – говорим мы – будет анонимной, или её не будет».
Но эта цель, это освобождение, является как раз тем, к чему стремится всё человечество; следовательно освобождение пролетариата является освобождением человечества (постоянное утверждение марксизма). Программа, рождённая из борьбы, не сможет подтвердиться кроме как через борьбу. Таким образом встаёт проблема условий борьбы против капитала, проблема связи между пролетариатом и программой, определения периодов революции и контрреволюции. Пролетарии добиваются исполнения своей миссии, когда у них действительно нет резервов (интегрированность в динамику общества, в классовую борьбу: может ли капитализм гарантировать какие-либо резервы, какую-либо безопасность, для пролетария? Эта проблема оказывается вновь связанной с кризисами; этот комментарий ясно выражен в «Римских тезисах»).
Здесь берёт начало важная характеристика партии. Будучи прототипом Человека и коммунистического общества, она является основой познания для пролетария, т.е. для человека, отрицающего буржуазный порядок и принимающего пролетарский, борющегося за него, а следовательно, борющегося за человеческое Бытие. Познание партии интегрирует познание всех предыдущих веков (религия, искусство, философия, наука). Следовательно, марксизм не является простой и чистой научной теорией (одной из многих!); но включает в себя науку и пользуется её революционным оружием предвидения и преобразования для достижения своей цели: революции. Партия является органом предвидения; если же нет, то она дискредитирована. Маркс и Энгельс, письмо от 18 февраля 1865 г.:
«Подобно тому, как буржуазная партия в Пруссии опозорила себя и дошла до нынешнего жалкого состояния именно благодаря тому, что всерьез поверила, будто вместе с «новой эрой» ей по милости принца-регента свалится с неба правительственная власть так и рабочая партия опозорит себя еще больше, если вообразит, что при эре Бисмарка или какой-либо другой прусской эре ей прямо в рот, по милости короля, будут падать золотые яблоки. Нет никакого сомнения, что разочарование в злосчастном заблуждении Лассаля относительно «социалистического» вмешательства прусского правительства непременно наступит. Логика вещей сделает свое. Но честь рабочей партии требует, чтобы она отказалась от таких иллюзий еще до того, как их призрачность будет обнаружена на опыте» (Маркс и Энгельс, М: ПСС, т.31, 1963).
Почему? Вот, существенная характеристика пролетариата: «Рабочий класс либо революционен, либо он ничто».
Трудный цикл мировой партии
Программа, как исторический продукт могла родиться только из борьбы пролетариата. Маркс и Энгельс должны были предложить её классу и человечеству в 1848-м: в «Манифесте Коммунистической партии». Они должны были выразить её ясно и точно в уставах Международного Товарищества Рабочих. Теперь настало время понять как она появилась, почему в определённые периоды пролетариат оставляет её, и каковы условия при которых он её вновь обнаруживает: значит, проблема заключается в формировании партии и её реконструкции.
Первая фаза сектантская. Как говорится в «Мнимых расколах» от 1872 г.:
«Первый этап борьбы пролетариата против буржуазии носит характер сектантского движения. Это имеет свое оправдание в период, когда пролетариат еще недостаточно развит, чтобы действовать как класс. Отдельные мыслители, подвергая критике социальные противоречия, предлагают фантастические решения этих противоречий, а массе рабочих остается только принимать, пропагандировать и осуществлять их. Секты, созданные этими зачинателями, по самой своей природе являются абстенционистскими: чуждыми всякой реальной деятельности, политике, стачкам, союзам, – одним словом, всякому коллективному движению. Пролетариат в массе своей всегда остается безразличным или даже враждебным их пропаганде. Рабочие Парижа и Лиона не хотели знать сен-симонистов, фурьеристов, икарийцев, так же как английские чартисты и тред-юнионисты не признавали оуэнистов. Секты, при своем возникновении служившие рычагами движения, превращаются в препятствие, как только это движение перерастет их; тогда они становятся реакционными. Об этом свидетельствуют секты во Франции и в Англии, а в последнее время лассальянцы в Германии, которые в течение ряда лет являлись помехой для организации пролетариата и кончили тем, что стали простым орудием в руках полиции. В общем это – детство пролетарского движения, подобно тому, как астрология и алхимия представляют собой детство науки. Прежде чем стало возможным основание Интернационала, пролетариат должен был оставить этот этап позади. В противоположность фантазирующим и соперничающим сектантским организациям, Интернационал является подлинной и боевой организацией пролетариата всех стран, объединенного в общей борьбе против капиталистов и землевладельцев, против их классового господства, организованного в государство». (Маркс и Энгельс, М: ПСС, т.18, стр.30, 1961)
Эта стадия, путчистская в глубине своей, была связана с контрреволюционным периодом, последовавшим за 1815-м, когда развились тайные общества. Поэтому Манифест говорит, что «коммунисты считают презренным делом скрывать свои взгляды и намерения». (Мы вернёмся к этому пункту в отношении бланкизма и связи между партией – т.е., меньшинством – и массами).
Для того, чтобы программа была защищена организацией, движение должно было преодолеть вышеозначенную стадию. Потом она должна была быть применена. Вот почему Маркс и Энгельс так упорно боролись за триумф программы в Интернационале. Резолюция Конференции Интернационала в Лондоне в 1871-м постановляет:
«Принимая во внимание, что во введении к Уставу сказано: «Экономическое освобождение рабочего класса есть великая цель, которой всякое политическое движение должно быть подчинено как средство;
что Учредительный манифест Международного Товарищества Рабочих (1864 г.) гласит:
«Завоевание политической власти стало…великой обязанностью рабочего класса»;
что на Лозаннском конгрессе (1867 г.) была принята следующая резолюция: «Социальное освобождение рабочих неразрывно связано с их политическим освобождением»»; и далее:
что против объединенной власти имущих классов рабочий класс может действовать как класс, только организовавшись в особую политическую партию, противостоящую всем старым партиям, созданным имущими классами;
что эта организация рабочего класса в политическую партию необходима для того, чтобы обеспечить победу социальной революции и достижение ее конечной цели – уничтожение классов;
что то объединение сил, которое уже достигнуто рабочим классом в результате экономической борьбы, должно служить ему также рычагом в его борьбе против политической власти крупных землевладельцев и капиталистов;
Конференция напоминает членам Интернационала,
что в борьбе рабочего класса его экономическое движение и политическое действие неразрывно связаны между собой». (Маркс и Энгельс, М: ПСС, т.17, 1960)
Более того, создание I и II Интернационалов, вышедшее из борьбы пролетариата, было также попыткой воспрепятствовать подпаданию движения под контроль анархистов и реформистов. III Интернационал был в свою очередь создан в огне революционной борьбы.
В данном случае немаловажны следующие два пункта:
1) Связь между партийной организацией и партийной программой,
2) Ситуации, благоприятные для основания партии.
Первый пункт. В своём письме к Фрейлиграту от 23-2-1860, Marx уточнял следующие элементы: «Прежде всего замечу, что с тех пор, как в ноябре 1852 г., по моему предложению, Союз был распущен, я больше никогда не принадлежал и не принадлежу ни к какому тайному или открытому обществу, и, следовательно, партия в этом совершенно эфемерном смысле слова вот уже восемь лет как перестала для меня существовать». (Маркс и Энгельс, М: ПСС, т.30, 1963) Здесь говорится о Партии, как о группировке людей, как об организации. И здесь встаёт второй пункт вопроса: почему распускается эта организация? Маркс отвечает тем объяснением, что это была стадия отступления, контрреволюционная стадия. (На наших собраниях в Риме и в Неаполе в 1951 г. посвящённых марксистской теории контрреволюции, в отношении России, мы вспоминали о том, что наше движение уже познало и другие контрреволюционные периоды: поэтому русский вопрос не должен стоять в центре нашей деятельности, что рано или поздно привело бы к условности видения). В такие периоды партия уменьшается до отдельных товарищей, отрицающих так или иначе победу вражеского класса, о которой теоретизируют многие активисты, желая любой ценой сделать хоть что-нибудь, чтобы «выйти из этой ситуации». Для Маркса и Энгельса, история является только продолжительным преобразованием человеческой натуры; в периоды отступления не может быть хороших бойцов; а что до тех, что остаются на поле боя, их следует защищать от коррупции со стороны внешнего окружения, что далеко не легко:
«Разве в обиходе и деловых отношениях буржуазного общества возможно избежать грязи? Как раз там ее естественное место… Респектабельную подлость или подлую респектабельность платежеспособной (впрочем, и это, как показывает всякий торговый кризис, лишь с весьма двусмысленными оговорками) морали я не ставлю ни на грош выше нереспектабельной подлости, от которой не были вполне свободны ни первые христианские общины, ни Якобинский клуб, ни наш покойный «Союз». Только при буржуазных взаимоотношениях привыкаешь к тому, что теряется чувствительность к респектабельной подлости или подлой респектабельности». Никаких утопий о человеке, а значит, никакого пустопорожнего активизма; но «санитарный кордон вокруг партии». И в том же письме Маркс вспоминает, что лишь через год он ответил лидерам коммунистической ассоциации Нью-Йорка, призывавших его реорганизовать старую Лигу и наконец написал им, что с 1852-го больше не состоял ни в каких сообществах, и был «глубоко убежден в том, что мои теоретические работы приносят больше пользы рабочему классу, чем участие в объединениях, время для которых на континенте миновало». «В 'Нойе Цайт' – добавляет он – не раз помещались резкие нападки на меня за эту 'бездеятельность'». (там же)
В этом отходе от действия (который был умышленной волей к отказу от деятельности на буржуазном поле деятельности когда невозможно автономное поле деятельности пролетариата), вызвавшем вышеупомянутые обвинения Маркса в «бездеятельности», как вчера, так и сегодня обвиняют левых коммунистов, потому что отказывалась и отказывается быть вовлечённой – во имя активизма любой ценой – в вихрь буржуазной коррумпированности.
Почему партия не исчезает никогда
Объяснив это, Маркс уточняет, что есть жизнь Партии: «“Союз”, так же как и Общество времен года в Париже, как сотни других обществ, был лишь эпизодом в истории партии, которая повсюду стихийно вырастает на почве современного общества». Иными словами, формирование организации является историческим продуктом антагонизмов этого общества: если класс потерпел поражение, т.е. если его организация утратила свой революционный характер отбросив свою программу, или если она была уничтожена в борьбе, организация вновь появится спонтанно; партия появляется вновь, когда социальные контрасты провоцируют взрыв на сцене истории. Партия – это не отдельное понятие, не организация, чья жизнь зависит от взлётов и падений классовой борьбы. Вот её интегральное понятие: «Я постарался рассеять недоразумение, – пишет Маркс Фрейлиграту в заключение – будто под «партией» я понимаю «Союз», переставший существовать восемь лет тому назад, или редакцию газеты***, прекратившую свое существование двенадцать лет тому назад. Под партией я понимал партию в великом историческом смысле», т.е. прототип будущего общества, будущего Человека, человеческого Бытия, которое является истинным Gemeinwesen человека. Привязанность к этому Бытию, которое в контрреволюционные периоды кажется отринутым историей (как сегодня, когда революция кажется большинству утопией), именно она является тем, что позволяет сопротивляться. Борьба за то, чтобы оставаться на этой позиции и является нашим «действием».
На заседании Центрального Комитета Союза Коммунистов от 15 сентября 1852 г. Маркс сказал:
«Шаппер неправильно понял мое предложение. Как только предложение будет принято, мы расходимся, два округа отделяются друг от друга, и люди прекращают всякие отношения между собой. Однако они состоят в том же самом Союзе и под руководством того же самого Комитета**. Можете даже оставить за собой подавляющее большинство членов Союза. Что же касается личных жертв, то я их принес не меньше, чем кто-либо другой, – но классу, а не личностям. Что до энтузиазма, то немного его требуется, чтобы принадлежать к партии, о которой думаешь, что она вот-вот придет к власти. Я всегда противился преходящим мнениям пролетариата. Мы посвящаем себя партии, которая, к счастью для нее, как раз не может еще прийти к власти. Пролетариат, если бы он пришел к власти, проводил бы не непосредственно пролетарские, а мелкобуржуазные меры. Наша партия может прийти к власти лишь тогда, когда условия позволят проводить в жизнь ее взгляды. Луи Блан дает лучший пример того, что получается, когда слишком рано приходят к власти» (Маркс и Энгельс, М: ПСС, т.8, 1957, стр.584)
Это лишь часть проблемы знания того, при каких условиях возможно действие, связи между ним и сознанием. Но, перед тем, как уточнять его, подчёркиваем, что бесполезная трата энергии в периоды отступления отдаляет историческую встречу между пролетариатом и его интегральной программой. Энгельс написал в письме Дж. П. Беккеру от 10 февраля 1882 г.:
«Такого рода события назревают в России, где авангард революции вступит в бой. По нашему мнению, необходимо подождать этого и неизбежного отклика в Германии, – вот тогда и придет момент крупного выступления и создания официального, настоящего Интернационала (Энгельс говорит другими словами то, что Маркс объяснял Фрейлиграту), который, однако, больше не сможет быть пропагандистским обществом, а будет только обществом активных действий. Поэтому мы решительно придерживаемся того мнения, что не следует ослаблять такого великолепного средства борьбы, использовав и истрепав его в сравнительно еще спокойное время, уже накануне революции». (Маркс и Энгельс, М: ПСС, т.35, 1964, стр.227)
По этому пункту сходятся все марксисты; достаточно вспомнить борьбу Ленина и Троцкого и всей большевистской партии, а также работу Левой по разъяснению того, что для нас восстание – это искусство. То, что проявляется в периоды революции как отступление, является продолжительностью нашего Существования, подтверждением нашей Программы: Партии «в её громадном историческом смысле».
Отказ от анархизма ради спасения программы
Маркс и Энгельс боролись в лоне Интернационала за победу программы (не своей личной идеологии; как это узко интерпретируют анархисты и все наши противники). Пункт контраста не обратился в конечное видение: все хотят коммунизма, даже буржуа (Ср. у Ленина на эту же тему), но насчёт способов его достижения, насчёт инструмента освобождения – т.е. диктатуры пролетариата -, возникают разногласия.
Требование этой диктатуры характеризует марксизм. Класс действует как таковой только когда он даёт жизнь партии, представляющей его интересы и следовательно – в соответствии с характеристиками класса – интересы всего человечества; партия захватывает власть, уничтожает буржуазное государство, превращается в доминирующий класс, а значит в государство, чья функция является уже не политической функцией, но социальной, действуя до тех пор пока Человеческое Бытие не становится «истинным Gemeinwesen человека». А этого нельзя реализовать за одну ночь: отсюда необходимость в диктатуре пролетариата, в партии. Именно она позволит уничтожить классы: отсюда и проистекает борьба против Бакунина.
«Он (Альянс) «прежде всего добивается политического, экономического и социального уравнения классов.
Уравнение классов, понимаемое буквально, сводится к гармонии капитала и труда, столь назойливо проповедуемой буржуазными социалистами. Не уравнение классов – бессмыслица, на деле неосуществимая, – а, наоборот, уничтожение классов – вот подлинная тайна пролетарского движения, являющаяся великой целью Международного Товарищества Рабочих».
Эту тайну хранит Партия; в ней заключается решение всех загадок; следовательно, всех антагонизмов, порождённых классовым обществом.
«Они утверждают, [циркуляр “Юрской федерации”], согласно Уставу и первоначальным резолюциям конгрессов, Интернационал является якобы не чем иным, как «свободной федерацией автономных» (самостоятельных) «секций», ставящей себе целью освобождение рабочих самими рабочими, “без всякого, хотя бы и созданного по свободному соглашению, руководящего авторитарного органа”. Поэтому и Генеральный Совет якобы представляет собой не что иное, как «простое статистическое и корреспондентское бюро»… Генеральному Совету якобы была предоставлена опасная власть, а свободное объединение самостоятельных секций было превращено в иерархическую и авторитарную организацию 'подчиненных дисциплине секций', так что 'секции целиком оказались в руках Генерального Совета, который может по своему произволу отказать им в приеме или временно приостановить их деятельность'.
Нашим немецким читателям, достаточно хорошо понимающим, какую цену имеет организация, способная постоять за себя, все это покажется весьма странным…. Но борьба за освобождение рабочего класса для Бакунина и его приспешников – пустой предлог; их подлинная цель совсем иная.
«Будущее общество должно представлять собой не что иное, как сделанную всеобщей форму организации, которую придаст себе Интернационал. Мы должны поэтому добиться того, чтобы эта организация была возможно ближе к нашему идеалу… Интернационал, зародыш будущего человеческого общества, должен быть уже сейчас верным отображением наших принципов свободы и федерации и должен выбросить всякий закравшийся в него принцип, который ведет к авторитарности и к диктатуре».
Нас, немцев, ославили за наш мистицизм, но до такого мистицизма нам далеко. Интернационал – прообраз грядущего общества, в котором не будет больше ни версальских расстрелов, ни военных судов, ни постоянных армий, ни перлюстрации переписки, ни брауншвейгского уголовного суда! Как раз теперь, когда мы должны защищаться всеми силами, пролетариату предлагают организоваться не в соответствии с потребностями борьбы, ежедневно и ежечасно ему навязываемой, а в соответствии с неопределенными представлениями некоторых фантазеров об обществе будущего! Представим себе, какой была бы наша собственная немецкая организация согласно этому образцу… Если Штибер со всеми своими сподручными, если весь черный кабинет, если все прусское офицерство вступят по приказу свыше в социал-демократическую организацию, чтобы погубить ее, то комитет, или, вернее, статистическо-корреспондентское бюро, ни в коем случае не смеет воспрепятствовать этому; ведь это значило бы ввести иерархическую и авторитарную организацию! А главное – никаких подчиненных дисциплине секций! И никакой партийной дисциплины, никакой централизации сил в одном пункте, никаких орудий борьбы! Что же стало бы тогда с прообразом будущего общества? Короче говоря, к чему пришли бы мы с подобной новой организацией? К трусливой, угоднической организации первых христиан, этих рабов, которые с благодарностью принимали каждый пинок и добились, правда, своим пресмыкательством через триста лет торжества своей религии, – а уж такому методу революции пролетариат во всяком случае не станет подражать!». (Маркс и Энгельс, М: ПСС, т.17, стр.482-283, 1960)
Сменяющиеся этапы в жизни партии
Теперь мы можем внести уточнения в жизнь Партии:
1) Сектантский этап.
2) Партия развивается в период 1840-48 гг.
3) В 1850-м, во время этапа отступления, было предпочтительнее самораспуститься по вышеозначенным мотивам, а также потому что момент не был благоприятным для взятия власти. Класс потерпел поражение, и тогда Маркс и Энгельс пишут:
«Поэтому, если мы и разбиты, нам не остается ничего другого, как начинать сначала. А та, вероятно, очень короткая передышка между концом первого и началом второго акта движения, которая нам предоставлена, дает нам, к счастью, время для крайне необходимого дела: для исследования причин, сделавших неизбежным как недавний революционный взрыв, так и поражение революции; причин, которые следует искать не в случайных побуждениях, достоинствах, недостатках, ошибках или предательских действиях некоторых вождей, а в общем социальном строе и в условиях жизни каждой из наций, испытавших потрясение». (Маркс и Энгельс, М: ПСС, т.8, стр.6, 1957)
(То же самое применимо к 1926-му. Отсюда ошибка Троцкого, уверенного в том, что он мог восстановить Интернационал. Регресс движения продемонстрировал нам все ошибки, раскрытые Марксом. Вместо здравого анализа, вместо баланса способного подготовить возобновление революционного движения, начали искать причины поражения в предательстве лидеров, в преступлениях Сталина, в пассивности масс, в плохом соблюдении приказов).
4) Затем происходит восстановление движения. В этот период, Маркс и Энгельс детально изучают причины поражения. Их уход из Союза не означает признания поражения: наоборот, они озабочены тем, чтобы понять не может ли революция разразиться где-то ещё, в Индии, в Китае, и т.д. и этим радикализировать борьбу пролетариата на Западе. Той же будет позиция Ленина, а также наша.
1864-й. Основание I Интернационала в период нарастающего прилива пролетарского движения. Условия не были полностью благоприятными, но пролетариат преодолел сектантский этап, требовал создания международной организации и, с другой стороны, рисковал подпасть под влияние анархистов, которые свели бы движение до низших форм борьбы. Вот почему Маркс и Энгельс считали необходимым создание Интернационала.
1871-й. Парижский пролетариат захватывает власть. (Характерные черты Коммуны благодаря французским интернационалистам будут переняты в работе о рабочем движении во Франции). Но здесь также класс терпит поражение – причём на международном уровне. Действие вновь сводится, т.о. к теоретической работе. Маркс пишет в своём письме де Папу от 28-05-1872:
«Я с нетерпением ожидаю следующего конгресса. Это будет конец моего рабства. После этого я вновь стану свободным человеком: я больше не возьму на себя организационных функций ни в Генеральном Совете, ни в Британском федеральном совете» (Маркс и Энгельс, М: ПСС, т.33, стр.404, 1964); в то время как 24-2-1871 он заявлял: «Я уже говорил Вам в Лондоне, что часто задаюсь вопросом, не пришло ли время мне выйти из Генерального Совета. Чем сильнее развивается Товарищество, тем больше уходит у меня времени, а, в конце концов, ведь нужно когда-нибудь покончить с “Капиталом”». (там же, стр.287)
Действительно, нужно было дать рабочим инструмент для их борьбы.
5) В 1871-м, Маркс подводит новый баланс и уточняет условия борьбы; уточняет связь между волей людей и их действиями; уточняет, что программа Партии рождается в определённый момент борьбы пролетариата, а значит борьбы человечества; что пролетарская организация может развиться только на определённой ступени развития классовой борьбы и её соответствия с программой. В общем, партия формируется не благодаря прямой воле людей: она воссоздаётся в определённые периоды; и нужно знать, как революционеры могут подготовить лучшие условия для её возвращения на сцену истории. Всё это Маркс уточнил в своём выступлении от 25-9-1871 г. (The World от 15-10-1871 г.):
«Огромный успех, которым до сих пор завершались его усилия, объясняется обстоятельствами, над которыми сами члены Интернационала не властны. Результатом этих обстоятельств, а отнюдь не усилий его участников явилось и само основание Интернационала. Оно не было делом какой-либо группы искусных политических деятелей; все политические деятели мира не смогли бы создать той обстановки и тех условий, которые необходимы для успеха Интернационала. Интернационал не выдвинул какого-либо особого символа веры. Его задача – организовать силы труда, установить связь между различными проявлениями рабочего движения и объединить их. Обстоятельства, вызвавшие такое сильное развитие Интернационала, обусловлены тем усиливающимся угнетением, которому подвергался трудящийся народ во всем мире, и в этом секрет его успеха… Но прежде чем осуществление такой перемены (социализм) станет возможным, необходима диктатура пролетариата, а первым ее условием является армия пролетариата. Право на свое освобождение рабочий класс должен завоевать на поле битвы. Задача Интернационала – организовать и объединить силы рабочего класса для предстоящей борьбы». (Маркс и Энгельс, М: ПСС, т.17, стр.438-429, 1960)
6) 1871-1889 гг. Период переустройства движения, заканчивающийся основанием II Интернационала. Оно было немного вынужденным из-за позиций определённого количества поссибилистов и реформистов: но Энгельс согласился с его основанием как раз для того, чтобы мировое движение не попало под их контроль.
Но в 1889-м программа прошла испытание практикой и вышла из него усиленной. Коммуна 1871-го позволила внести уточнения в теорию государства. Цикл пролетарского движения завершился: никакой социальный феномен не мог больше «поставить под вопрос» марксизм. Остаётся лишь гипотеза мирной революции: война 1914-го продемонстрирует противоположное, скорее доказывая «катастрофическое» видение Маркса.
Реформистская концепция смогла уникальным образом стать увязанной с развитием империализма, и привела к поражению пролетариата в 1914-м. Только группы, оставшиеся на почве интегральной Программы гарантировали продолжительность формулы Человеческое бытие = партия-программа.
Последнее контррeволюционное препятствие
Тактические ошибки не позволили пролетариату реорганизоваться в мировую коммунистическую партию. Были допущены ошибки единого Фронта – тактики, в определённом смысле признавшей ошибки западного пролетариата и включившей их в свою теорию – которые не позволили российскому пролетариату получить поддержку с Запада. На этих ошибках выстраивается теория о контрреволюции. Это наиболее трудная, наиболее длительная и болезненная стадия пролетарского движения. Контрреволюция одержала триумф под маской революции. Для того, чтобы победить её не нужно ни выходить на поле деятельности «русских лидеров» (ошибка Троцкого), ни рассматривать русский вопрос как центральный. Ценность марскизма не зависела никоим образом от успеха или провала Российской революции: он уже продемонстрировал свою справедливость во всех аспектах. От победы Российской революции не могла зависеть мировая победа пролетариата: теперь, как это уже было неоднократно продемонстрировано, победа социализма в России зависела от захвата власти пролетариатом на Западе. Если и требовалось испытание марксизма на прочность, его следовало осуществлять в наших краях.
Но преемственность не была уничтожена. Левые коммунисты отстояли программу. Во всех планах, теоретическом, практическом или тактическом, они подтвердили пункты программы во всей их чистоте; более того, они подвели новые итоги, приводя в порядок все разбросанные элементы марксизма, которым борьба не позволила скоординироваться органическим способом, в одном целом тезисов, не претендующих на открытие новшеств, но систематизирующих перманентные пункты программы в перспективе более эффективной борьбы: речь идёт о Римских тезисах, Лионских тезисах, работе Партии.


