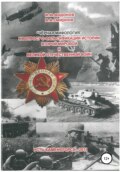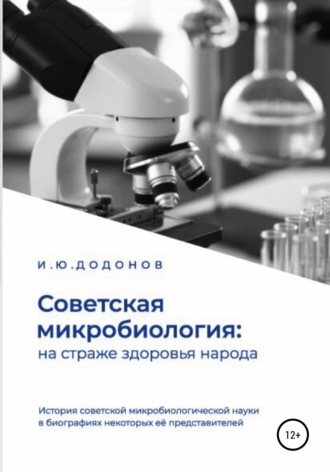
Игорь Юрьевич Додонов
Советская микробиология: на страже здоровья народа. История советской микробиологической науки в биографиях некоторых её представителей
Михаил Петрович стал лауреатом Сталинской (1941 г.) и Ленинской (1963 г.) премий. Был награждён: орденом «Знак Почёта» (1951 г.), двумя орденами Трудового Красного Знамени (1959 и 1966 гг.), орденом Октябрьской Революции (1979 г.), рядом медалей. В 1984 году ему было присвоено звание Героя Социалистического Труда и вручены золотая медаль «Серп и Молот» и орден Ленина.
М.П. Чумаков – доктор медицинских наук и профессор (1944 г.), член-корреспондент АМН СССР (1949 г.), академик АМН СССР (1960 г.), член правления Всесоюзного научного общества эпидемиологов, микробиологов и паразитологов, почётный доктор Лейпцигского университета (ГДР), действительный член Германской Академии естествоиспытателей «Леопольдина» (ГДР), почётный академик Венгерской Академии наук, почётный член научных медицинских обществ Болгарии, Венгрии и Чехословакии.
Очевидно, «тихая и мелкая травля» Михаила Петровича (выражение К.М. Чумакова) со стороны Советского государства была столь тиха и мелка, что её как-то совершенно не удаётся разглядеть.
Вот уж когда М.П. Чумакову пришлось несладко, так это в «перестроечные» времена. Именно при Горбачёве, в 1987 году, а вовсе не в период «мутного брежневского застоя, пропитанного тотальной коррупцией» (выражение К.М. Чумакова), он оставил пост заместителя директора по науке когда-то созданного им института, оставшись лишь на должности заведующего отделом геморрагических лихорадок. Учёный очень быстро убедился, что под видом обновления и демократизации советского общества идёт, на самом деле, развал всех сфер жизни страны. Один за одним начали уезжать из страны в погоне за красивой западной жизнью учёные. Среди них было и много учеников Михаила Петровича.
С каждым из вознамерившихся уезжать М.П. Чумаков подолгу разговаривал, убеждал его не делать этого, объявлял подобный поступок предательством. Переубедить не удалось никого (в том числе и двух своих сыновей): комфорт и «длинный доллар» неизменно оказывались важнее Родины. Атмосфера разложения и распада уже воцарилась в обществе, и старый учёный был не в силах этого изменить.
После одной из таких прощальных бесед, когда за очередным уезжающим закрылась дверь, Михаил Петрович пригласил в свой кабинет одного из помощников и, указав на портрет Генсека Горбачёва, висевший на стене, попросил: «Снимите эту гадину».
Михаил Петрович Чумаков умер уже в новой, «демократической» России (ЭрЭфии), в 1993 году. Титулованный учёный с мировым именем, создатель мощнейшей школы отечественной вирусологии, автор более 960 научных работ и множества патентов, вряд ли он уходил из жизни со спокойным сердцем.
В одном из своих последних разговоров, незадолго до кончины, М.П. Чумаков, перечислив всех уехавших за рубеж учеников, сказал: «Я воспитал хорошие кадры для мировой науки».
«Демократические» авторы с восторгом приводят эту предсмертную фразу учёного: вот, мол, как он был доволен.
А мы думаем, что говорил эти слова Михаил Петрович с горечью: в считанные годы было уничтожено всё то, ради чего он самоотверженно трудился всю жизнь.
Уходил из жизни М.П. Чумаков тем, кем и жил – настоящим советским человеком, настоящим советским учёным.
ГЛАВА VIII
АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
СМОРОДИНЦЕВ
(1901 – 1986)
Анатолий Александрович Смородинцев родился 19 (6) апреля 1901 года в селе Аскино Бирского уезда Уфимской губернии (Башкирия) в семье земского врача.
Детей в семье было четверо: дочери Ольга и Людмила и сыновья Анатолий и Николай.
Александр Смородинцев, проработавший врачом свыше 40 лет, очень любил свою профессию, и любовь к медицине ему удалось передать детям. Совсем неслучайно все четверо стали врачами (кстати, врачами впоследствии стали и все их дети).
Анатолий окончил начальную трёхклассную школу в Бирске, а затем поступил в Бирское реальное училище. Как вспоминал он много позднее: «…Далеко не всем из нас удалось тогда продолжить полученное трёхлетнее образование. Для этого требовался хороший достаток, ведь за образование в средней школе вносилась солидная плата…» [64; 1].
Совсем не без труда, но семья земского врача Александра Смородинцева учила своих детей.
Реальное училище Анатолий закончил в 1918 году. Вопрос о выборе профессии не стоял: молодой человек давно решил, что он будет врачом.
Но в России начиналась гражданская война. Страна оказалась поделённой между красными и белыми, подвижные линии фронтов перерезали её во всех направлениях. В это смутное время Анатолию удаётся пробраться в Томск, где он и поступает на медицинский факультет университета.
В годы учёбы в университете чётко обозначился интерес А.А. Смородинцева к микробиологии. Поэтому по окончании медицинского факультета он был приглашён на работу в должности ассистента в Томский бактериологический институт.
В этом научном учреждении Анатолий Александрович проработал около года, а в 1924 году был призван на службу в ряды Красной Армии. Служил военврачом на Туркестанском фронте, где в эти годы шли ожесточённые бои с басмачами.
В 1926 году Анатолий Александрович демобилизовался и приехал в Ленинград. Здесь он был принят стажёром в Ленинградский институт экспериментальной медицины, где работал в отделе сравнительной патологии под руководством видного учёного, создателя ленинградской школы микробиологов Оскара Гартоха.
Вскоре молодой учёный-микробиолог становится также заведующим бактериологической лабораторией Центрального института акушерства и гинекологии. Занятие этой должности он совмещает с продолжением работы в ИЭМ.
В конце 20-х – начале 30-х гг. А.А. Смородинцева всё более увлекает бурно развивающаяся тогда вирусология.
В 1933 году Анатолия Александровича приглашают на должность заведующего отделом бактериологии в Ленинградский институт эпидемиологии и микробиологии имени Пастера. Находясь в этой должности (до 1937 года включительно), он организовал в отделе вирусологическую лабораторию.
Фактически А.А. Смородинцев, наряду с Л.А. Зильбером, является основоположником отечественной вирусологии.
Вхождение Анатолия Александровича в вирусологию было стремительным и эффектным, обеспечившим ему мировую известность.
Началось оно с изучения инфлюэнцы (так тогда называли грипп). До 1933 года считалось, что грипп – бактериальная инфекция, и вызывает её палочка Афанасьева – Пфейффера. Именно в этом году Анатолий Смородинцев на основании лабораторных и клинико-эпидемиологических данных пришёл к выводу, что грипп вызывается вирусом. Одновременно к такому же выводу пришли и британские учёные Патрик Лейдлоу, Уилсон Смит и Кристофер Эндрюс. Выделенный советским и британскими исследователями штамм вируса получил название гриппа А.
И если приоритет открытия вирусной природы гриппа советские и английские учёные делят между собой, то в области создания вакцины против этого заболевания первенство, безусловно, остаётся за советской стороной. Создателем нашей вакцины стал тот учёный, который и открыл вирус гриппа, т.е. Анатолий Александрович Смородинцев. В 1936 – 1937 годах он разработал и испытал живую аттенуированную противогриппозную вакцину. Была она одновалентной (т.е. содержала всего один ослабленный штамм вируса, но тогда других ещё не знали). Уже с 1938 года в СССР начали делать прививки вакциной Смородинцева. Англичане подошли к такому результату годом позже – выпуск их вакцины начался только в 1939 году.
Любопытно, что в США вакцины против гриппа появились только в 1943 – 1945 годах, и были они инактивированные. Живая противогриппозная вакцина появилась там ещё позже. Причём рекламная аннотация данного препарата содержала следующие слова: «Живая гриппозная вакцина применяется в России с 30-х годов ХХ века» [60; 2]. Т.е. в конце 40-х годов даже в Штатах признавался советский приоритет в этом вопросе.
Несмотря на многообразие своих «вирусологических интересов», Анатолий Александрович постоянно возвращался к изучению вируса гриппа. Условно говоря, он был его «любимым микробом». Под руководством А.А. Смородинцева были разработаны и обоснованы новые научные направления, связанные с системой комплексной профилактики гриппа, созданием живых ассоциированных вакцин, использованием индукторов интерферона для неспецифической профилактики гриппа и ОРВИ, изучением роли коллективного иммунитета при гриппе.
В середине 60-х годов Анатолий Александрович Смородинцев и одновременно с ним Томас Фрэнсис, первооткрыватель штамма гриппа типа В, на основе изучения особенностей вируса гриппа предположили, что он изменяется в пределах конечного числа вариантов. Это означало, что вирусы, которые вызывают современные эпидемии, уже появлялись в прошлом.
Гипотеза, высказанная Смородинцевым и Фрэнсисом, блестяще подтвердилась уже в 1968 году, когда выяснилось, что у людей, родившихся до 1900 года, в крови уже есть антитела к бушевавшему тогда новому вирусу гриппа «А2-Гонконг», пришедшему из Китая, казалось бы, впервые. Это открытие имело большое практическое значение, т.к. позволило с большой вероятностью предсказывать появление разных штаммов вируса и заранее готовить вакцины.
А.А. Смородинцев считается одним из главных мировых авторитетов в истории изучения гриппа. В соответствующих списках, публикуемых учёными, его имя, как правило, ставят рядом с именами Лейдлоу, Эндрюса и Смита, доказавшими, напомним, в 1933 году одновременно с А.А. Смородинецвым вирусную природу гриппа и открывшими штамм гриппа типа А.
Уже в 1935 году Анатолий Александрович становится доктором медицинских наук, а в 1938 году – профессором. В этом же году его переводят на работу в Москву, во Всесоюзный институт экспериментальной медицины (ВИЭМ), где поручают создать и возглавить отдел вирусологии.
Именно как начальник вирусологического отдела ВИЭМ А.А. Смородинцев принимает участие во 2, 3- и 4-й Дальневосточных экспедициях (1938, 1939 и 1940 годы соответственно), занимавшихся изучением клещевого энцефалита и поиском средств борьбы с ним.
В главах, посвящённых Льву Александровичу Зильберу и Михаилу Петровичу Чумакову, мы рассказали о героической работе 1-й Дальневосточной экспедиции, которой в труднейших условиях в кратчайшие сроки удалось выяснить: вирусную природу заболевания; квалифицировать его как энцефалит (т.е. инфекцию, поражающую головной мозг); выделить штаммы вируса; установить, что переносчиком вируса, от которого заражаются люди, является таёжный клещ; предложить самые неотложные меры защиты от заражения; опробовать серологический метод лечения заболевших людей, основанный на использовании сыворотки реконвалесцентов (т.е. переболевших и поправившихся людей).
Однако, несмотря на огромность и важность проделанной экспедицией 1937 года работы, она решила далеко не все вопросы, связанные с этим новым заболеванием, а главное – не успела создать более надёжный и универсальный метод защиты от него, чем серотерапия. Было ясно, что таким методом может быть только вакцинация.
В экспедициях 1938, 1939 и 1940 годов Анатолий Александрович возглавлял вирусологические группы этих экспедиций. (Экспедиции были комплексными, в них работали вирусологи, паразитологи, эпидемиологи, врачи-невропатологи, энтомологи и зоологи.) Предстояло изучить такие важные вопросы, как определение природных резервуаров инфекции, пути её циркуляции в природе. Оставалась нерешённой проблема заболевания клещевым энцефалитом людей, которые клещами не были укушены (таковых наблюдалось до 10% от заболевших). Наконец, как уже подчёркивалось, главнейшей задачей считалось создание вакцины, проведение её испытаний и широкая вакцинация населения на Дальнем Востоке.
Военный паразитолог академик Е.Н. Павловский, осуществлявший общее руководство экспедицией 1938 года, предположил, что природным резервуаром энцефалита являются животные, которых кусают клещи. Эти животные носят в себе вирус, не заболевая энцефалитом.
Предположение Е.Н. Павловского подтвердилось. Вирусологами экспедиции под руководством А.А. Смородинцева было установлено, что очень многие дикие (бурундуки, мыши-полёвки, зайцы, лисы и др.) и домашние (козы, коровы, лошади, свиньи, собаки) животные действительно были резервуарами вируса клещевого энцефалита. Укушенные заражёнными энцефалитом клещами, они затем носят вирус в себе, сами не болея энцефалитом, но передавая его другим клещам, которые могли быть и не заражёнными к моменту нападения на этих животных.
Но Е.Н. Павловский в то же время установил, что клещи отнюдь не пассивные переносчики вируса от одного животного к другому. Оказывается, вирус может в течение очень долгого времени сохраняться в кишечнике клещей и передаваться их потомству. Инфицированными могут быть представители всех трёх стадий существования этого кровососущего паукообразного: личинка, нимфа, взрослая особь. Таким образом, получалось, что именно клещ и является длительным и постоянным хозяином энцефалита, его главным природным резервуаром. (Несколько позднее этот вывод был дополнительно подтверждён ещё и установлением факта размножения вируса энцефалита в организме клеща.)
Пассивными переносчиками оказывались как раз млекопитающие животные и даже птицы.
Теория природной очаговости клещевого энцефалита, сформулированная Е.Н. Павловским и А.А. Смородинцевым, в конечном варианте выглядела так: вирусу помогают длительное время сохраняться и распространяться связанные между собой животные и клещи. Вирус живёт и размножается в организме клеща, клещ кусает животное или птицу, заражает их, от этих животных новые клещи (возможно, изначально не инфицированные) переносят инфекцию к другим животным. Таким образом инфекция непрерывно поддерживается.
Если в зону указанного «круговорота» попадает человек, то он, подвергаясь нападению заразного клеща, заболевает.
Удалось учёным в 1938 году выяснить и причину заражения тех примерно 10% заболевших, которые нападению клещей не подвергались.
Ещё 1-я Дальневосточная экспедиция непреложно установила, что от человека к человеку энцефалит не передаётся. Сам собой напрашивался вывод: причина заражения может крыться в том или ином виде контакта с дикими или домашними животными. После кропотливых исследований было установлено, что только один вид контакта с животным-носителем вируса энцефалита ведёт к заражению: употребление парного (т.е. некипячёного и непастеризованного) козьего молока. Вирус попадает в козье молоко, и человек, употребляя его в «сыром» виде, заражается алиментарно, т.е. через желудочно-кишечный тракт.
Немаловажный факт: употребляя в пищу парное коровье молоко, энцефалитом не заразишься. В коровьем молоке содержатся вещества, нейтрализующие вирус, а вот в козьем молоке их нет.
Работу над вакциной начали ещё участники 1-й Дальневосточной экспедиции после возвращения осенью 1937 года в Москву. Но к началу 1938 года результатов эта работа не дала. Во-первых, довольно мал был срок разработки препарата, а во-вторых, исследовательская вирусологическая группа экспедиции была ослаблена тем, что из неё выбыл ряд специалистов: тяжело заболевшие энцефалитом и проходившие тогда курс лечения Чумаков и Соловьёв; арестованные в ноябре 1937 года Зильбер и Шеболдаева.
В начале 1938 года к разработке вакцины подключается отдел вирусологии ВИЭМ во главе с прибывшим из Ленинграда А.А. Смородинцевым.
Ведущими специалистами, работавшими над созданием вакцины, были Елизавета Николаевна Левкович (представитель исследовательской вирусологической группы 1-й Дальневосточной экспедиции), Надежда Вениаминовна Каган и Анатолий Александрович Смородинцев.
Первоначально учёные решили пойти по пути создания живой вакцины. Использовался следующий метод: заражали мышей, а затем использовали их мозг для пересева вируса от одного животного к другому, надеясь таким образом получить ослабленный (аттенуированный) штамм.
Испытывая поученную вакцину на здоровых мышах, учёные убедились, что ослабления вируса клещевого энцефалита не происходит. Он оставался таким же болезнетворным, каким был вначале.
Тогда решили переключиться на создание убитой вакцины. Смородинцев, Левкович и Каган накапливали вирус в мозгу мышей, заражая тысячи животных. Затем их усыпляли, вынимали мозг, измельчали его и растирали в ступках со стеклянными бусами. Это позволяло получить гомогенную массу, которую растворяли в специальном солевом растворе. Жидкость очищали от остатков мозговых клеток мышей с помощью центрифуг с большой скоростью вращения. В результате получали прозрачную жидкость с большой концентрацией вируса. Затем этот раствор инактивировали формалином.
Полученную убитую вакцину успешно испытали на лабораторных животных, в том числе на обезьянах. Однако испытание вакцины на животных полной уверенности в её безвредности и эффективности для людей не даёт.
Вопрос о том, кто будут первые люди, на которых пройдёт испытание вновь созданная вакцина, не возник – конечно же, ими стали сами создатели вакцины и добровольцы из числа их сотрудников. Сначала была проверена безвредность вакцины, т.е. исследователи ввели её себе и определённое время находились под наблюдением. Никаких побочных явлений вакцина не вызвала.
Теперь следовал другой этап – проверка эффективности вакцины. В крови всех испытуемых были обнаружены антитела к вирусу энцефалита. Т.е., казалось бы, вакцина работает, вызывает защитную реакцию в организме. Но достаточна ли была эта защита? Достаточен ли был уровень противоэнцефалитных антител?
Подвергаясь огромному риску, учёные заразили себя энцефалитом – они ввели себе в кровь большое количество дикого таёжного вируса, даже значительно большее, чем попадает в человеческий организм при укусе клеща. Никто из учёных не заболел. Таким образом, была доказана и эффективность новой вакцины.
Надо заметить, что работа над препаратом шла буквально в авральном режиме. Исследователи работали в три смены, многие даже ночевали в лаборатории.
Подобный напряжённейший график дал свой результат: к выезду 2-й Дальневосточной экспедиции «в поле» вакцина была создана, испытана, было произведено значительное количество доз для пробной вакцинации населения в месте работы экспедиции.
Базой 2-й Дальневосточной экспедиции так же, как и 1-й, был рабочий посёлок Обор. Именно здесь и было привито в 1938 году значительное количество работающих в тайге людей. Почти никто из них энцефалитом за весенне-летний сезон не заболел (случались отдельные «осечки»). В общем, «в поле» вакцина подтвердила свою эффективность.
Но ставить точку было ещё рано. И дело не только в том, что производство вакцины надо было наладить в значительном объёме, т.е. перевести его с лабораторных на промышленные рельсы. Требовалось также выяснить, насколько защита, даваемая препаратом, долгосрочна. Ответ на этот вопрос мог быть получен только через год. Важен был и вопрос причины «осечек».
Забегая вперёд, скажем, что учёные под руководством А.А. Смородинцева выяснили, что первые прививки защищают людей всего на один год. В течение года антитела, создаваемые вакциной, разрушаются, и человек опять становится восприимчивым к вирусу энцефалита. Немногочисленные случаи заражения привитых объяснялись индивидуальными особенностями их организмов – выработка антител в ответ на введение вакцины оказывалась недостаточной для защиты от вируса. Было установлено, что защита значительно усиливается, если проводить ревакцинацию, т.е. вводить препарат не один раз, а три – четыре с некоторыми промежутками (две – три недели). Подобный цикл прививок следовало повторять каждые два года. Конечно, всё это было не очень удобно, однако позволяло защитить всех людей, работавших в тайге.
2-я Дальневосточная экспедиция, таким образом, оказалась чрезвычайно результативной, выполнив практически все стоявшие перед ней задачи.
Но незадолго перед отъездом в Москву учёным был преподнесён крайне неприятный «сюрприз»: началась вспышка нового, неизвестного дотоле в областях советского (ранее – российского) Дальнего Востока заболевания. Вот что писал А.А. Смородинцев по этому поводу Н.В. Каган, остававшейся в Москве:
«Мы совершенно неожиданно угодили в большую вспышку энцефалита, вызванного нейротропным вирусом, видимо, аналогичным весенне-летнему энцефалиту. Вспышка протекает в других эпидемиологических условиях, ничего общего не имеющих с ранее изученными. Вирус громадной вирулентности. Имеем уже сейчас много штаммов. А.К. (Шубладзе – И.Д.) проворачивает с большим искусством обильный материал. Боюсь, что придётся сидеть здесь весь октябрь. Любопытно, что клиницисты (Кроль, Шаповал, Альшуллер), хорошо знакомые с вн.-л. энцефалитом, категорически отрицали первоначально какое-либо сходство этой вспышки с ранее им известной и только теперь, под влиянием микробиологических данных, признали её энцефалитную природу» [30; 6 – 7].
Несколько лет это заболевание фигурировало под названием «осенний энцефалит». Позже выяснилось, что осенью 1938 года А.А. Смородинцев и его коллеги столкнулись со вспышкой японского энцефалита, заболеваний которым раньше на нашей территории не регистрировалось.
Для группы вирусологов А.А. Смородинцева данный «осенний сюрприз» означал появление ещё одного «противника». Его следовало очень быстро изучить и начать готовить против него «оружие», т.е. вакцину.
К сожалению, 2-я Дальневосточная экспедиция, подобно экспедиции 1937 года, не обошлась без потерь среди учёных. Непосредственно «на месте» заразился энцефалитом паразитолог А. Мончадский. Болел он тяжело, но, по счастью, остался жив.
Трагедия случилась уже в Москве, после окончания экспедиции. В ноябре 1938 года заразились энцефалитом Н.В. Каган и лаборантка Н.Я. Уткина. Причём Наталья Яковлевна была участницей 2-й Дальневосточной экспедиции, и там, как говорится, бог миловал, а вот в московской лаборатории энцефалит всё-таки нанёс по ней свой страшный удар. Меры предосторожности всеми работавшими в лаборатории с вирусом энцефалита принимались: исследователи работали в двух плотных халатах, резиновых перчатках и специальных масках; от подопытных животных их ограждало большое, согнутое дугой защитное стекло, чтобы вирус из шприца или пипетки, если произойдёт какая-то ошибка, не брызнул на лицо или тело исследователя.
И Н.Я. Уткина, и Н.В. Каган были привиты. И всё же вирус сделал своё страшное дело: обе женщины умерли. Обстоятельства их заражения так и остались невыясненными.
Очевидным было лишь одно: заразивший Н.В. Каган и Н.Я. Уткину вирус был чрезвычайно вирулентен. Уж не с тем ли вирусом «громадной вирулентности», на который «напоролась» экспедиция осенью 1938 года, работали исследовательницы? Т.е. с вирусом осеннего (японского) энцефалита. Тогда становится ясно, почему «не сработали» прививки.
Памяти погибших исследовательниц посвятили свою монографию «Вирусы комплекса клещевого энцефалита», вышедшую в 1939 году, Е.Н. Левкович, В.В. Погодина, Г.Д. Засухина и Л.Г. Карпович. Им также был посвящён 2-й выпуск 56-го тома журнала «Архив биологических наук» за 1939 год, полностью отданный проблеме клещевого энцефалита.
Главной задачей 3-й (1939 год) и 4-й (1940 год) Дальневосточных экспедиций являлась масштабная вакцинация населения в таёжных районах Дальнего Востока.
В начале мая 1939 года А.А. Смородинцев, остававшийся в Москве и присоединившийся к 3-й экспедиции несколько позже, писал Е.Н. Левкович, в тот момент находившейся с основной группой экспедиции «на месте»:
«Перед нами уже в этом году ставят обязательную директиву привить против осеннего энцефалита большое число населения эндемических очагов, учитывая безвредность вакцины по Оборскому опыту и рассчитывая на большую эффективность при повышении дозировки за счёт человеческого мозга. …Нам требуется уже сейчас приступить к организации подготовки этой кампании. Я написал подробную инструкцию по изготовлению вакцины из мозга людей, погибших от таёжного энцефалита, которую привезу 28/V» [30; 7].
Данные по экспериментальному испытанию вакцины из мозга людей, погибших от энцефалита, вошли в диссертацию Е.Н.Левкович, но это направление дальнейшего развития не получило.
Увы, 3-я экспедиция также не обошлась без человеческих потерь: на территории Супутинского заповедника заразился энцефалитом и погиб паразитолог Б.И. Померанцев.
В целом, 3-я и 4-я экспедиции полностью справились с поставленной перед ними задачей: была проведена массовая иммунизация населения советского Дальнего Востока вакцинами против весенне-летнего и осеннего энцефалитов. Заболеваемость этими инфекциями снизилась в десятки раз. Десяткам тысяч людей удалось спасти жизнь и здоровье.
Теоретическим итогом 3-й экспедиции можно считать окончательную формулировку академиком Е.Н. Павловским теории природной очаговости заболевания.
В 1941 году А.А. Смородинцев, вместе с другими участниками Дальневосточных экспедиций (Е.Н. Павловским, Е.Н. Левкович, П.А. Петрищевой, А.К. Шубладзе, М.П. Чумаковым и В.Д. Соловьёвым), был награждён только что учреждённой Сталинской премией (1-й степени) с формулировкой: «За открытия в 1939 году возбудителей заразных заболеваний человека, известных под названием “Весенне-летний и осенний энцефалиты”, и за разработку успешно применяемых методов их лечения, одобренных Наркомздравом СССР».
Вскоре началась Великая Отечественная война, и всю денежную составляющую премии Анатолий Александрович, так же как и все его коллеги, передал в Фонд обороны.
С октября 1941 г. по октябрь 1942 г. А.А. Смородинцев находился вместе с ВИЭМ в эвакуации в Томске. Здесь учёный совмещал работу с занятием должности главного эпидемиолога Томского городского отдела здравоохранения.
Вскоре после возвращения из эвакуации, в 1943 году, Анатолий Александрович вместе с группой специалистов был командирован в Северную Африку для работы в составе международной комиссии по поискам химического и бактериологического оружия на складах немецкой армии Роммеля, разгромленной союзниками.
Работа комиссии завершилась в начале 1944 года, и А.А. Смородинцева направляют в научную командировку в США (по приглашению Рокфеллеровского фонда). Находясь в США, он был избран почётным членом американского Общества микробиологов.
В 1945 году Анатолия Александровича избирают членом-корреспондентом созданной в 1944 году Академии медицинских наук СССР.
В 1946 году учёный создаёт и возглавляет в Москве Институт вирусологии имени Ивановского (занимает этот пост до 1948 года).
В 1948 году А.А. Смородинцев возвращается в Ленинград, где работает заведующим отделом вирусологии Института экспериментальной медицины (до 1967 года).
В начале 50-х годов отдел под руководством А.А. Смородинцева приступил к изучению полиомиелита и поиску путей борьбы с ним.
Как уже отмечалось ранее, в Советском Союзе с конца 40-х годов шёл неуклонный подъём заболеваемости этим страшным недугом, который с 1952 года приобрёл характер ежегодных эпидемических вспышек.
Довольно скоро Анатолий Александрович убедился, что эффективной защитой против болезни может быть только живая вакцина. Вот над ней-то и начал трудиться возглавляемый им коллектив. Однако долгое время достичь устойчивого понижения вирулентности (аттенуации) штаммов полиовируса исследователям не удавалось.
В 1956 году А.А. Смородинцев вместе с М.П. Чумаковым и М.К. Ворошиловой совершает поездку в США с целью ознакомления с наработками американских микробиологов в области изучения полиомиелита и борьбы с ним. В главе, посвящённой Михаилу Петровичу Чумакову, мы уже рассказывали об этой научной командировке, о подлинном радушии, с которым американские учёные принимали советских коллег, делясь с ними результатами своих исследований и технологиями изготовления противополиомиелитных вакцин. Говорили и о том, что именно в результате общения с М.П. Чумаковым, А. А. Смородинцевым и М.К. Ворошиловой А.Сэбин, работавший над созданием живой противополиомиелитной вакцины, решил передать советским учёным аттенуированные штаммы полиовируса, поскольку в Соединённых Штатах его исследования, не встречая поддержки, фактически были приостановлены.
По одной из версий, аттенуированные штаммы были присланы А. Сэбином специальной посылкой в Ленинград, профессору А.А. Смородинцеву, вскоре после возвращения советской научной миссии в Союз. Есть и другая версия, согласно которой наши исследователи сами привезли штаммы из США.
Как бы там ни было, но работу со штаммами Сэбина начал вести именно отдел вирусологии Ленинградского ИЭМ под руководством А.А. Смородинцева, поскольку Институт полиомиелита, которым руководил М.П. Чумаков, в 1956 – 1957 гг. оказался полностью задействован в освоении технологии выпуска убитой полиовирусной вакцины Солка и обеспечении этой вакциной медицинских учреждений Советского Союза.
Надо учитывать, что немалый опыт по созданию живой противополиомиелитной вакцины у А.А. Смородинцева и его сотрудников уже имелся. Поэтому и с этой стороны было вполне логично, что работы над созданием живой вакцины велись в Ленинграде.
В наше время весьма расхожим стало мнение, что советским учёным необходимо было только наладить выпуск препарата, ведь вакцину-то, по сути, уже создал Сэбин. Потому-то, мол, она и называется вакциной Сэбина.
Дело обстояло не совсем так, точнее – совсем не так. Действительно, Сэбину удалось создать аттенуированные штаммы всех трёх видов полиовируса, изготовить опытные партии вакцины и даже испытать её на себе, своей семье и затем провести опытную вакцинацию небольшого количества детей. Результаты во всех случаях оказались положительными. Но и общественность, и правительственные структуры в США были настроены против создания и применения живой вакцины (опасались, что ослабленные штаммы вируса могут в организме ребёнка восстанавливать свою первоначальную вирулентность; опыт подобной «осечки» был – недавние неудачи испытаний живой вакцины Копровского – Кокса в Ирландии).
Сэбин, как большой и честный учёный, отдавал себе отчёт, что фактическая приостановка его работ не позволяет считать вакцину законченной – требовались и продолжение лабораторных исследований, и более широкие опытные вакцинации. И того, и другого американский учёный был лишён. Потому-то, познакомившись с советскими коллегами, он и решил передать им свои штаммы для продолжения работы с ними.
Так что дело было далеко не только в организации промышленного выпуска живой вакцины.
А.А. Смородинцев также был большим и честным учёным, и он прекрасно понимал, что аттенуация штаммов Сэбина должна быть многократно проверена и переповерена, ибо с вирусами не шутят. А это означало осуществление длительных и кропотливых исследований, чем и занялся Анатолий Александрович со своими сотрудниками.