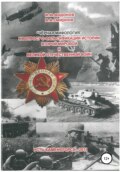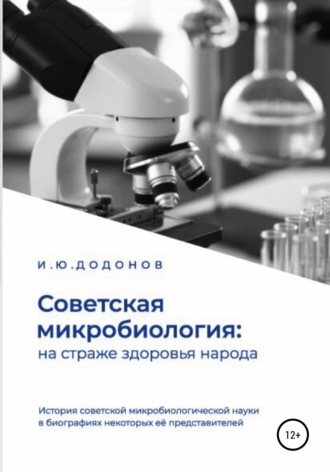
Игорь Юрьевич Додонов
Советская микробиология: на страже здоровья народа. История советской микробиологической науки в биографиях некоторых её представителей
Удивительно, что перед смертью Илья допустил лишь одно восклицание – в той фразе, в которой просил за своего «сына» – человека будущего. Письмо как бы произнесено ровным голосом – так обычно говорят люди, уверенные в своей правоте. Он и в самом деле был прав, этот студент Мамонтов, каких в России тогда были тысячи и тысячи», – такими словами передаёт своё впечатление от прочтения письма Ильи Мамонтова Валентин Пикуль. И с ним можно полностью согласиться.
Именно настоящие люди, люди мужественные, самоотверженные, люди будущего работали в русской экспедиции в Маньчжурии в 1910 – 1911 годах под руководством Даниила Кирилловича Заболотного. Таким человеком был и сам Заболотный.
Итак, в конце мая 1911 года русская научная миссия покинула Харбин и отправилась в Петербург15. Уже на русской территории, в районе станции Борзя, вагон-лаборатория был отцеплен от состава. Д.К. Заболотный и двое его сотрудников (врач-микробиолог А.А. Чурилина и студент Военно-медицинской академии Л.М. Исаев) остались в приграничных степях с целью проведения исследований на предмет обнаружения природного источника чумы.
Другими словами, Даниил Кириллович вновь старался подтвердить свою «тарбаганью» теорию. События в Маньчжурии ещё раз дали ему повод убедиться в её правоте. Дело в том, что во всех районах вдоль линии КВЖД, в которых свирепствовала чума, в больших количествах обитали тарбаганы. В ходе работы на эпидемии учёные и врачи русской миссии проводили поиски источника чумы. И хотя обнаружить ни одного больного чумой тарбагана не удалось, тем не менее Д.К. Заболотный был убеждён, что находится совсем рядом с разгадкой тайны «чёрной смерти».
В вагоне-лаборатории, стоявшем на запасных путях станции Борзя, началась кропотливая повседневная работа. Каждое утро учёные отправлялись в близлежащие степи, наблюдали тарбаганов, некоторых из них отлавливали, доставляли в лабораторию. Зверьков умерщвляли, вскрывали и исследовали на предмет выделения возбудителя чумы. День, другой, третий… десятый… Казалось, опять «осечка».
И вдруг!..
Предоставим слово самому Даниилу Кирилловичу Заболотному, который спустя годы вспоминал обстоятельства, при которых нашла подтверждение его «тарбаганья» теория:
«Часть научной экспедиции по изучению чумы в Маньчжурии в составе студента Исаева, доктора Чурилиной и профессора Заболотного (кстати, обратим внимание, в каком порядке Даниил Кириллович перечисляет участников маленькой экспедиции, ставя себя – профессора и руководителя, на последнее место; очень показательная деталь – И.Д.) отправилась на станцию Борзя с лабораторией и походным снаряжением. Из расспросов пограничников выяснилось, что в последнее время в разных местах видели по нескольку штук павших тарбаганов. Розыски в указанных местах ни к чему не привели: павшие тарбаганы, очевидно, были съедены хищниками. Решено было повторно систематически объезжать местность для исследований. 12 июля студент Исаев в степи верстах в трёх от станции Шарасун (между станциями Борзя и Маньчжурия) увидел больного тарбагана, который передвигался с трудом, шатаясь, как пьяный. Исаев сошёл с лошади, догнал его и, завернув в дождевой брезентовый плащ, доставил в лабораторный вагон на станции Борзя. Через полчаса тарбаган пал и тотчас же был вскрыт…
Заражение морских свинок, тарбаганов и мышей полученной чистой разводкой дало обычную картину чумы с характерными бубонами и бугорками во внутренних органах…
Исследование разводки на «Чумном форте» в Кронштадте и в Институте Пастера, куда она была послана, вполне подтвердило это заключение» [18; 196].
Причём честь выделения возбудителя чумы из организма тарбагана Д.К.Заболотный в своём рассказе, приведённом здесь с некоторыми сокращениями, отдаёт А.А. Чурилиной.
Тогдашний «студент Исаев», ставший крупнейшим советским микробиологом, профессором, директором Института тропических болезней в Самарканде, избавивший Узбекистан от малярии, удостоенный за это и целый ряд других значительных научных работ званий лауреата Сталинской премии и Заслуженного деятеля науки Узбекской ССР, несколько «поправил» своего учителя и руководителя. Леонид Михайлович писал:
«…Даже Даниил Кириллович неточно передаёт события. Это верно, что экспедиция собиралась в ближайшее время закончить работу, но до погрузки было ещё очень далеко. Конечно, в этот момент я не мог заметить плетущегося в степи тарбагана. Так близко к станции они не подходили. И поймал я тарбагана не у ст. Борзя, а в районе разъезда Сонакты, в сторону ст. Маньчжурия. И выделял культуру сам Даниил Кириллович на квартире железнодорожного врача, а не А.А. Чурилина. Она выделяла культуру от второго тарбагана, пойманного позднее. Всё это делает время: оно изменяет, увеличивает или уменьшает. Нельзя ждать от воспоминаний точности протокола. Даниил Кириллович и здесь остаётся верен себе: в каких условиях вскрывал он тарбагана, выделяя культуру, какому риску он подвергал себя в стремлении не потерять ни одного часа для решения проблемы, об этом он умалчивает, а говорит о заслугах других, увеличивая их несоответственно действительным размерам…» [18; 197].
Да, подлинная скромность большого учёного… И это несмотря на решение проблемы, над которой бились многие исследователи долгие годы, несмотря на то, что он, Заболотный, наконец-то получил доказательство своей теории, которую отстаивал не один год в подчас острой научной полемике.
В декабре 1911 года на базе Центральной противочумной лаборатории МВД в Астрахани Д.К.Заболотным проводится совещание, посвящённое эпидемиологии чумы. Директором этой лаборатории был Николай Николаевич Клодницкий – крупный исследователь, стажировавшийся у И.И. Мечникова и П. Эрлиха, в будущем – профессор эпидемиологии 1-го Московского медицинского института, а его заместителем – врач Ипполит Александрович Деминский.
Оба исследователя являлись последовательными сторонниками теории Заболотного о роли грызунов как резервуара чумы в природе. И именно из стен их лаборатории пришло очень важное дополнительное подтверждение этой теории, расширявшее круг грызунов-носителей чумной бактерии. Но, увы, данное дополнительное доказательство стоило трёх человеческих жизней.
В процитированных выше воспоминаниях Леонид Михайлович Исаев говорит об огромной опасности, которой подвергал себя Д.К.Заболотный, вскрывая чумного тарбагана на станции Борзя с целью выделения из него культуры возбудителя этой болезни. Учёный ничуть не преувеличивает степень этой опасности. Именно в подобных же обстоятельствах, вскрывая пойманного в Астраханской степи чумного суслика, заразился и умер от лёгочной чумы И.А. Деминский. Также скончались работавшие с ним и пытавшиеся ухаживать за заболевшим врачом студентка Московского женского частного института Елена Меркурьевна Красильникова и санитар Малюков.
Телеграмму, которую подготовил для отправки Н.Н. Клодницкому умирающий И.А. Деминский, мы цитировали в главе II нашей книги.
Трагедия случилась осенью 1912 года в окрестностях слободы Рахинка Астраханской губернии.
В 1956 году, когда район Рахинки должен был быть подвергнут затоплению вследствие создания Волгоградского водохранилища (т.н. Волгоградского моря), прах Деминского, Красильниковой и Малюкова с почестями перезахоронили на территории Астраханского противочумного института, созданного при Советской власти на базе той самой Астраханской противочумной лаборатории, заместителем руководителя которой был когда-то Ипполит Александрович Деминский.
Открытие доктором Деминским того факта, что носителями возбудителя чумы в природе являются также и суслики (а не только тарбаганы), ещё более утвердило теорию Заболотного.
Последние примерно два года перед началом Первой мировой войны стали очень продуктивными как в продолжающемся изучении чумы, так и в проведении мероприятий, призванных обеспечить успешную борьбу с ней.
Осенью 1912 года на втором «противочумном» совещании были озвучены новые данные о переносе возбудителя чумы грызунами. В частности, участник Маньчжурской экспедиции, работник Особой лаборатории ИИЭМ Л.В. Падлевский сделал доклад о бактерионосительстве при чуме. Д.К. Заболотный в своём докладе коснулся вопроса чумных вспышек в Казахстанских (как тогда говорили – Киргизских) степях и представил план масштабного обследования грызунов в эндемических очагах юго-восточных районов европейской части России.
Весной 1913 года по инициативе Д.К. Заболотного формируется десять исследовательских отрядов, которым удаётся подтвердить наличие эпизоотий чумы среди грызунов в Астраханской и Самарской губерниях, на территории Уральской и Донской областей.
В течение 1912 – 1913 годов Даниил Кириллович принял участие в противочумных экспедициях в Астраханской губернии и в Туркмении, а также организовал несколько новых противочумных лабораторий в эндемичных районах (до 1913 года работала только открытая в 1906 году Астраханская противочумная лаборатория, уже упоминавшаяся нами).
Итоги своих исследований по чуме Д.К.Заболотный подвёл на съезде по борьбе с чумой, состоявшемся в Самаре в марте 1914 года. В результате указанных исследований, большей частью законченных в 1913 – 1914 годах, было создано стройное учение об эпидемиологии чумы и была разработана система профилактических и противоэпидемических мероприятий, надёжно предупреждавших возникновение эпидемий этой страшной болезни. Основные положения данной системы актуальны и по сей день и, так сказать, «работают», т.е. используются на практике.
Съезд поставил вопрос об организации бактериологического института с противочумным уклоном. К сожалению, вопрос «так и остался без ответа» на долгое время. Только четыре года спустя, в 1918 году, противочумной институт удалось открыть в Саратове. Но было это уже при Советской власти.
Затормозилась и реализация той системы противоэпидемических мероприятий, о которой говорилось выше. Как известно, царское правительство и так не очень охотно давало деньги «на науку», а тут ещё началась война… В общем-то, она и пресекла напряжённую, но плодотворную работу по профилактике чумы и борьбе с нею, которую вели Д.К. Заболотный и его коллеги.
Обобщая результаты довоенной и дореволюционной работы учёного, хотелось бы привести слова В.Л. Омелянского, крупного русского и советского микробиолога, друга Д.К. Заболотного:
«…Всё же главная заслуга Даниила Кирилловича не в его кабинетных работах, а в неутомимой и высшей степени плодотворной и, я бы сказал, блестящей деятельности в качестве специалиста-эпидемиолога» [38; 34].
Действительно, талант Заболотного, его труды «позволили выполнить историческую задачу и заложить основы эпидемиологии как научной дисциплины» [38; 34].
Многие исследователи именно Д.К. Заболотного считают отцом-основателем эпидемиологии. Со своей стороны скажем, что это почётное звание с Даниилом Кирилловичем разделяет Николай Фёдорович Гамалея.
С началом Первой мировой войны Д.К. Заболотный вновь надевает военную форму. 1 октября 1914 года его откомандировывают в распоряжение принца А.П. Ольденбургского, который стал начальником Главного санитарно-эвакуационного управления при Главнокомандующем русской армии. В подчинении принца оказалась вся военно-медицинская служба в России – полевые и тыловые госпитали, санитарные поезда. Как человек опытный, курировавший в своё время научно-исследовательское учреждение, одним из направлений деятельности которого была микробиология и эпидемиология, принц Ольденбургский прекрасно понимал значение противоэпидемических мероприятий в армии, среди призывников, беженцев, пленных. Поэтому на ключевые посты в своём Управлении он расставил, прежде всего, тех людей, которые имели опыт работы в эпидемиологии. В основном это были сотрудники когда-то курируемого им ИИЭМ. Среди них оказался и Даниил Кириллович.
Принц поручил ему контроль санитарного состояния в частях и соединениях действующей армии, а также проведение противоэпидемических мероприятий в них в зависимости от ситуации.
Выполняя данный круг обязанностей, Заболотный «мотался» по различным участкам большого фронта: регулярно бывал на Западном, Северо-Западном, Галицийском и Кавказском фронтах.
Работа проводилась им как в передовых частях и соединениях, так и в ближайшем, и дальнем тылах войск. Особое внимание Заболотный уделял организации многочисленных бактериологических лабораторий и прививочных пунктов в войсках и тылу.
Надо заметить, что первоначально санитарно-эпидемиологическую ситуацию в русских войсках назвать благополучной было нельзя. Существовала реальная угроза вспышек эпидемий серьёзнейших болезней, таких как холера, дизентерия, различные виды тифов. Самоотверженная работа военных врачей не давала должного эффекта по ряду причин: военная неразбериха, недостаток финансовых и материальных средств, зачастую – непонимание армейского командования.
Даниил Кириллович, который в подобных ситуациях боролся всегда самым активнейшим, «наступательным» образом, преодолевая бюрократическую рутину, выступает одним из организаторов «III Совещания бактериологов и представителей врачебно-санитарной организации по борьбе с заразными болезнями в связи с военным временем».
Это совещание прошло в Москве в конце 1914 года. Принимавшие участие в его работе военврачи и военные бактериологи обратили внимание правительства и Главного командования на все указанные недостатки в постановке санитарно-эпидемиологической службы в войсках и тылу, призвали скорейшим образом их ликвидировать. Подчёркивалась острейшая необходимость немедленного проведения массированных противоэпидемических мероприятий в войсках и их тылах. Среди прочего рекомендовалось развернуть широкую сеть врачебно-продовольственных пунктов и инфекционных госпиталей в полосе ближнего тыла.
Совещание, ход которого освещался в прессе, вызвало большой общественный резонанс. Правительство и командование реагировали быстро – в начале 1915 года Д.К. Заболотного назначают главным эпидемиологом Русской армии (как говорится, «вам и карты в руки…»). Были ассигнованы значительные средства, отданы соответствующие приказы в войска.
Даниилу Кирилловичу, получившему вместе с назначением и генеральский чин (хотя генералом он не величался, так как в царской армии военврачи считались всё-таки штатскими людьми в военной форме и носили гражданские чины) – действительного статского советника, пришлось взяться за дело засучив рукава.
1915 год – время тяжелейших поражений Русской армии. Недостаток вооружения (прежде всего, крупнокалиберной артиллерии), боеприпасов (прежде всего, снарядов), грубейшие просчёты командования различных уровней привели к большим потерям, отступлению, оставлению значительных территорий. «1915-й – роковой» – так впоследствии назвали этот период войны.
Отсюда ясно, в каких тяжелейших условиях пришлось Д.К. Заболотному устранять недостатки санитарно-эпидемиологической службы в войсках. Но он справился!
Для успешного выполнения поставленной задачи Даниил Кириллович привлёк большое количество известных ему специалистов: работников ИИЭМ, работников и выпускниц ЖМИ. Их квалифицированная работа во фронтовых условиях, часто граничившая с самопожертвованием, позволила решить множество проблем. Не менее действенной оказалась помощь коллег и учеников в ходе работы в тылу.
Д.К. Заболотный добивается решения Ставки Главного Командования об обязательных прививках против холеры, дизентерии, тифа и других инфекционных заболеваний. При своей кафедре в Женском медицинском институте (вот тут-то и пригодилось отдельное здание, которое Даниил Кириллович в своё время «выхлопотал» для кафедры) он организует лабораторию, занимающуюся массовым производством брюшнотифозной и холерной вакцин для армии.
Эффективность мероприятий, проведённых в годы Первой мировой войны армейской санитарно-эпидемиологической службой под руководством Д.К. Заболотного, оказалась очень высока. Генерал А.А. Брусилов, с марта 1916 года командовавший Юго-Западным фронтом, а с 4 июня по 31 июля 1917 года бывший Верховным Главнокомандующим Русской армии, в своих воспоминаниях особо отметил, что во время войны 1914 – 1918 гг. на фронте проблем с инфекционными заболеваниями не возникало [38; 37].
* * *
Историк, писатель и публицист Глеб Николаевич Голубев в своей книге, посвящённой Д.К. Заболотному, так охарактеризовал его отношение к Великой Октябрьской Социалистической революции:
«Он принял её сразу, не раздумывая, и мог бы сказать словами поэта: “Моя революция”. Многие медики, особенно “столичные”, поначалу саботировали, и в журнале “Общественный врач” был даже заведён специальный раздел “Врачи в стане большевиков”– из проклятий и грязных сплетен вперемежку.
А Даниил Кириллович с первых же дней революции стал служить ей, как говорится, не за страх, а за совесть» [18; 215 – 216].
Чем объясняется эта «революционность» Заболотного?
В главе, посвящённой Николаю Фёдоровичу Гамалее, мы отмечали, что многих русских учёных привёл в большевистский стан их подлинный демократизм. Смысл своей жизни и работы они видели в служении народу. И убедившись, что Советская власть – власть для народа, они пошли ей служить.
В полной мере данное утверждение можно отнести и к Даниилу Кирилловичу Заболотному.
Однако в его позиции был определённый элемент своеобразия.
Не забудем, что Заболотный вышел из самой народной массы. Сын простого крестьянина, он «забрался» довольно высоко по «социальной лестнице» Российской империи. Но Даниил Кириллович не мог не видеть, что его судьба – редчайшее исключение, случайность, а не правило при существовавших тогда в стране порядках. Что тысячи и тысячи таких же, как он, крестьянских и рабочих детей навсегда обречены оставаться «в низах», не имея никакой возможности по-настоящему «выбиться в люди».
Всё это он осознавал, будучи ещё студентом. И поэтому вовсе не случайным было его участие в студенческих волнениях в 80-х годах XIX века. Не молодёжное фрондирование и не только солидарность с товарищами привели его в ряды протестующих, а убеждение (может быть, и не оформившееся чётко) в несправедливости существующего общественного строя.
Ни взросление, ни научная карьера, ни продвижение по служебной лестнице не изменили этого его «нутряного» убеждения. Факты биографии Заболотного убедительно свидетельствуют об этом.
Конечно, Даниил Кириллович не являлся активным политическим деятелем (у него попросту даже не было времени для «настоящего» занятия политикой). Но его политические симпатии носили вполне определённый характер: как писали и говорили в советское время, они «были на стороне трудового народа».
Вот как характеризует его позицию В.Л. Омелянский:
«Д.К. Заболотный никогда не был активным политическим борцом. По своим политическим воззрениям он примыкал к партии народных социалистов, в частности был очень близок к кружку, группировавшемуся вокруг “Русского богатства”. Одно время он довольно аккуратно посещал еженедельные собрания в редакции этого журнала, где у него было много друзей. За принадлежность к партии энэсов (народных социалистов) Д.К. даже пришлось пострадать: по распоряжению свыше он был уволен от должности врача-специалиста по организации противочумных мероприятий. Д.К., которому в сильной степени был присущ украинский юмор, не мог отказать себе в удовольствии некоторое время после этого подписывать официальные бумаги, стая перед своей фамилией буквы “Н.С.”, которые можно было понимать и как “народный социалист”, и как “надворный советник” – чин, который у него был в то время» [38; 19 – 20].
Уже цитировавшийся ранее П.М. Красавицкий также отмечает, что «Д.К. Заболотный в те времена примыкал к течению, имевшему в 1-ой Государственной Думе очертания партии трудовиков. Естественно, что он вошёл в Союз Союзов» [38; 20].
В общем, весьма левые убеждения Д.К.Заболотного – налицо.
И, не будучи “активным политическим борцом”, Даниил Кириллович, тем не менее, никогда не стоял в стороне от политических событий своего времени, не ограничивался одной «умозрительной» оппозиционностью и «левизной», а выражал свои взгляды и в действиях.
Ярчайший тому пример – устройство на своей квартире «подпольного» «госпиталя» для рабочих, раненых во время разгона демонстрации 9 января 1905 года в Петербурге. По понятным причинам эти рабочие не рисковали обращаться в больницы. Даниил Кириллович и его студентки из Женского медицинского института оказывали в этом «госпитале» рабочим неотложную помощь, готовили перевязочный материал, в случае нужды – отправлялись отсюда на квартиры рабочих.
За такую «противоправительственную деятельность» некоторые студентки были потом исключены из института и высланы из Петербурга. Кстати, всем им Д.К. Заболотный помог устроиться в различные земские больницы, помогал деньгами, снабжал рекомендательными письмами. На самого Заболотного, по-видимому, именно за «подпольный» «госпиталь» в полиции завели дело. Об этом свидетельствует письмо, сохранившееся в канцелярии ИИЭМ (в копии), отправленное в Департамент полиции в начале 1907 года. «Расшифровки» сути дела письмо не содержит, но прямо говорит о следствии по делу Заболотного [38; 36].
Впрочем, каким-то репрессиям, за исключением отстранения от должности врача-специалиста по организации противочумных мероприятий, о чём упоминал В.Л. Омелянский, тогда Даниил Кириллович не подвергся. Видимо, власти всё-таки не решились тронуть известного учёного, особенно в условиях продолжавшейся в стране революции.
Впрочем, вполне вероятно, что дело на Заболотного «шили» по другим причинам. В период 1905 – 1907 годов он дал властям не один повод для этого.
В частности, поддержал забастовку студенток Женского медицинского института. Факт стал известен в Министерстве просвещения. Вот отрывок из письма министра просвещения к ректору ЖМИ:
«Милостивый государь Александр Александрович!
По полученным в министерстве сведениям, во время проходившей в текущем учебном году забастовки профессор Заболотный, застав однажды в своей аудитории только одну слушательницу, отказался читать лекцию, причём даже сделал слушательнице выговор. Спустя несколько дней на лекцию профессора Заболотного собрались в соответствующее время 5 курсисток, и когда профессор явился в аудиторию, то в резкой форме выразил неудовольствие по поводу того, что они самовольно нарушают принятое курсистками постановление о забастовке». Обращение же одной из слушательниц с просьбой исполнить возложенные на него как профессора обязанности «вызвало со стороны профессора некоторое глумление по отношению к слушательницам» [38; 35].
В октябре 1905 года учёный принял участие в массовом демарше работников ИИЭМ против политики царского правительства. Публичное выражение несогласия сотрудников института привело к отставке принца Ольденбургского с поста попечителя этого научно-исследовательского учреждения.
Словом, свои весьма левые взгляды Даниил Кириллович никогда не скрывал, а порой выражал их и конкретными делами.
И хотя, конечно, большевиком Заболотный не был, но первые же шаги Советской власти убедили его в том, что с ней можно и нужно сотрудничать. Сверх того, Д.К. Заболотный считал, что никакие политические перемены в стране не должны отражаться на выполнении врачами своих обязанностей. В стране, экономика которой пришла в плачевное состояние вследствие более чем трёхлетней империалистической войны, начинался голод. Общая дезорганизация управления в центре и на местах привела к широчайшим нарушениям санитарно-гигиенических норм. Всё это повлекло за собой вспышки опаснейших инфекционных заболеваний: холеры, чумы, тифов (особенно сыпного), оспы. Чтобы бороться с победным шествием эпидемий, требовалась организация санитарно-эпидемиологической службы в масштабах всей страны. И большевики пытались проводить соответствующие мероприятия. Им остро нужна была помощь специалистов. И Даниил Кириллович свою помощь предложил.
Весной 1918 года в Петрограде вспыхнула эпидемия холеры. Д.К. Заболотный сам, не дожидаясь, пока его позовут, пришёл на заседание Петроградского Совета и сделал доклад о неотложных мерах по борьбе с холерой.
Этот доклад вызвал настоящую бурю в обществе. На учёного обрушился целый шквал критики и злобных нападок со стороны определённых научных кругов, в которых считали, что сотрудничество с большевиками недопустимо. Но, с другой стороны, научный и человеческий авторитет Заболотного, сделавшего шаг навстречу Советской власти, разрешил сомнения многих честных, но запутавшихся и колеблющихся врачей и учёных и побудил их последовать его примеру.
Д.К. Заболотный энергично взялся за осуществление мероприятий по борьбе с холерой в Петрограде.
Эпидемия принимала угрожающие масштабы: заболевало по 700 человек в день, первое время даже не успевали убирать трупы с улиц. Только с 1 по 18 июня в больницы города поступило 5 444 больных холерой, из них умерло 1 611 человек.
В первую очередь Даниил Кириллович сосредоточил все силы созданного им в конце 1917 года эпидемиологического отдела ГИЭМ (Государственного Института экспериментальной медицины; так стал называться ИИЭМ) на производстве противохолерной вакцины.
«Особенно трудно было применение массовых предохранительных прививок, – вспоминал впоследствии Д.К. Заболотный. – Главным препятствием была нехватка лабораторной посуды и питательных сред для приготовления вакцин. Приходилось искать и реквизировать агар в кондитерских, пользоваться флаконами из-под одеколона как посудой, придумывать приспособления для обогрева термостатов, вместо ампул и пробирок применять бутылки, но всё-таки готовить необходимое количество вакцины и пускать её в дело» [38; 39].
Как один из наиболее опытных специалистов Д.К. Заболотный координировал также работу горздравотдела по проведению общесанитарных мероприятий. Сам Даниил Кириллович принимал в этих мероприятиях активнейшее участие.
Важнейшим организационным мероприятием учёного стало создание Петроградской вакцинно-сывороточной комиссии (ВСК) и Бюро прививочных отрядов.
ВСК объединяла и направляла работу всех бактериологических лабораторий Петрограда: ГИЭМ, Оспопрививательного института имени Дженнера, лаборатории имени И.И. Мечникова (той самой бактериологической лаборатории при ЖМИ, открытия которой во время Первой мировой войны добился Д.К. Заболотный), частных лабораторий Белановского, Либермана, Маслаковца. В состав ВСК входили руководители всех этих лабораторий. Оперативное руководство осуществляло рабочее бюро из шести человек: Д.К. Заболотный, В.Н. Недригайлов, В.Н. Клименко, С.Н. Предтеченский, С-Л. К. Дзержговский, К.Т. Глухов.
Первоначально основной задачей ВСК был учёт продукции институтов и лабораторий и её распределение. Однако очень скоро Комиссии пришлось решать и хозяйственные вопросы, такие как: обеспечение бактериологических лабораторий оборудованием и лабораторной посудой, ремонт (хотя бы косметический) их помещений и многие другие.
Тем не менее хозяйственная рутина не «засосала» ВСК. Она стала настоящим научно-методическим штабом по противоэпидемической работе не только в Петрограде, но и в масштабах всей страны, взяв на себя (только по более широкому спектру инфекционных заболеваний) функции «царского» КОМОЧУМА.
За решительное и умелое руководство борьбой с эпидемией холеры в Петрограде в 1918 году Д.К. Заболотный даже получил звание «Холерного Диктатора». Подчёркиваем, это было не прозвище (тем более – не шутливое прозвище). Это было именно звание, которое Даниилу Кирилловичу присвоили власти Петрограда в силу функций, выполняемых им в ходе борьбы с холерой, и, конечно, вследствие качества их выполнения.
После того, как холеру в Петрограде удалось «обуздать», учёный совершает поездку в Поволжье, где одна за другой вспыхивают опаснейшие эпидемии: на «повсеместный» в годы гражданской войны «сыпняк» здесь «наложились» чума в Астрахани и чёрная оспа в Саратове.
Вернувшись в Петроград после напряжённейшей работы в Поволжье, Заболотный находит свою жену в очень тяжёлом состоянии – обострился застарелый туберкулёз. Этому способствовали и климат, и (главное!) постоянное недоедание и бытовая неустроенность.
Врачи советуют срочно поменять место жительства и, по возможности, обеспечить Людмиле Владиславовне более хорошее питание. Д.К. Заболотный, сам врач, прекрасно понимает это. Сырой, холодный и голодный Петроград очень быстро убьёт его жену.
В таких условиях Даниил Кириллович решается отвезти жену на Украину, в родную Чеботарку. Сухой и тёплый климат, улучшенное питание давали шанс Людмиле Владиславовне выжить.
Но как рискованна была эта поездка! Украина представляла из себя сплошное поле боя: красные, белые, зелёные различных «оттенков» (а попросту – бандиты), «жовто-блакитные» (петлюровцы) – всё смешалось, закрутилось там в страшной кровавой карусели.
Была и другая опасность: свирепствовал сыпной тиф, особенно сильно косивший людей именно во время подобных переездов по дорогам, где крайне редко и нерегулярно ходили поезда, где люди месяцами не могли соблюдать элементарные нормы гигиены, где скученность на вокзалах и в вагонах создавала особо благоприятнее условия для распространения этой болезни.
До Чеботарки Даниил Кириллович, Людмила Владиславовна и их приёмный сын Ян добирались больше месяца. Увы, и без того ослабленный туберкулёзом организм жены Заболотного не смог сопротивляться «сыпняку». Не доехав до Чеботарки, Людмила Владиславовна скончалась.
Даниил Кириллович похоронил жену в родном селе. Её смерть была для него страшным ударом, но он нашёл силы, чтобы продолжать жить и работать. В письме друзьям, которое чудом дошло до адресатов многие месяцы спустя, он писал:
«Вспоминаю слова Милочки: “Нужно жить хорошо и правдиво”. И это меня поддерживает в тяжёлое время и во время забот. Красоты много в природе, а о правде и науке нужно позаботиться…» [18; 222].
И Заболотный заботился «о правде и науке».
Вернуться в Петроград сразу не получилось: наступали белые, и дорога на север оказалась перерезанной.
Оставшись в родном селе, Даниил Кириллович, прежде всего, берёт попечительство над двумя осиротевшими детьми. Это при том, что им с Яном самим приходилось совсем не сладко. Заболотный лечит и односельчан, и крестьян из соседних деревень, организует занятия для детей и читает просветительские лекции для взрослых. Годы спустя он с улыбкой рассказывал, что был назначен «аж комиссаром просвещения и здравоохранения» всей чеботарской округи.
Но округа эта оказалась в зоне действия петлюровских отрядов. Зверства украинских националистов побудили Д.К. Заболотного попытаться пробраться в освобождённую в начале 1920 года красными Одессу. Это весьма отчаянное предприятие удаётся: вместе с детьми Даниил Кириллович добирается до города в начале лета 1920 года.