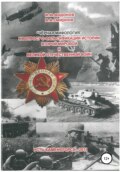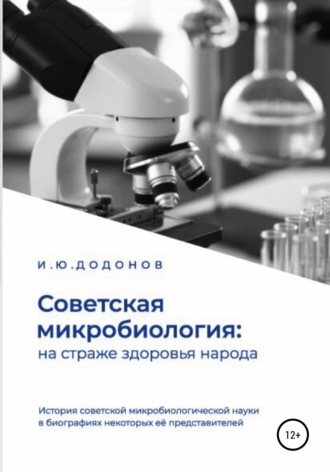
Игорь Юрьевич Додонов
Советская микробиология: на страже здоровья народа. История советской микробиологической науки в биографиях некоторых её представителей
Итак, конец 1943 года. Что тогда СССР мог приобрести у англо-американцев? Свой пенициллин-крустозин у нас уже был, проходил успешные клинические испытания. Более того, З.В. Ермольева наладила довольно значительное его производство на базе своей лаборатории. Напомним, что и у англичан долгое время производство пенициллина ограничивалось лабораторией Флори, и только осенью 1942 года правительство выделило средства для организации промышленного производства препарата в Англии. (Подобное напоминание необходимо, чтобы избежать презрительного «пофыркивания» «ревнителей» исторической истины: мол, у нас в 1943 году – всего лишь лабораторное производство, а в Штатах уже в 1942 году – промышленное; однако вот и в Британии в конце 1942 года ещё только лабораторное производство.) И в США, и в Англии тогда, в 1943 году, использовалась технология поверхностного брожения (или, как её ещё называют, поверхностной ферментации). Наше производство было основано на этой же технологии. Различались только штаммы грибка, использовавшегося для получения препарата: союзники работали с «флеминговским» Penicillium notatum, мы – с «нашим» Penicillium crustosum.
Так что, с позволения спросить, было закупать? Лицензию на что? На то, что у нас уже было. Возражения З.В. Ермольевой, её сопротивление закупу лицензии в подобных условиях были вполне справедливы и обоснованы. «Дайте нам то же время и меньшие деньги, и мы наладим своё промышленное производство, ведь препарат у нас уже есть», – примерно такими могли быть аргументы З.В. Ермольевой во время дискуссии о закупе западной лицензии в конце 1943 года. И слово Зинаида Виссарионовна сдержала: своё производство мы наладили.
Но… К концу 1943 года американские учёные разработали технологию глубинного брожения (глубинной ферментации). Её применение позволяло не просто в разы, а на порядок и в разы увеличить объёмы выпуска пенициллина и значительно удешевить его производство. С начала 1944 года технология стала экстренно и успешно внедряться на предприятиях в США.
Советская сторона вполне могла быть информирована о применении новой технологии и гораздо большей её эффективности по сравнению с предыдущей (об источниках нашей информированности мы ещё поговорим ниже). Но суть, детали технологического процесса, конечно же, оставались для советских учёных неизвестными, поскольку союзники засекретили технологию и совершенно «по-союзнически» с русскими союзниками ей не поделились. Впрочем, как и до этого не поделились «старой» технологией, как почти до самого конца войны не делились и самим пенициллином.
Очевидно, именно поэтому в феврале 1944 года Зинаида Виссарионовна, обращаясь к своим зарубежным коллегам во главе с Флори, выражала надежду получить информацию о некоторых нюансах технологии производства пенициллина.
Но ни детали технологического процесса, ни всю технологию целиком союзники нам ни дарить, ни продавать не собирались. Заместитель наркома здравоохранения СССР А.Г. Натрадзе спустя многие годы вспоминал:
«Мы направили за границу делегацию для закупки лицензии на производство пенициллина глубинным способом. Они заломили очень большую цену – 10 млн долларов. Мы посоветовались с министром внешней торговли А.И. Микояном и дали согласие на закупку. Тогда они нам сообщили, что ошиблись в расчётах, что цена будет 20 млн долларов. Мы снова обсудили вопрос с правительством и решили заплатить и эту цену.
Потом они сообщили, что не продадут нам лицензию и за 30 млн долларов» [54; 1].
Таким образом, в 1944 году и позже (почти весь 1945 год) у Ермольевой просто не было причины для спора в Наркомздраве, даже если бы она и не желала закупа американской технологии глубинного брожения: эту технологию никто продавать нам и не собирался. Но, как мы видели, со стороны Зинаиды Виссарионовны возражений не поступало.
С другой стороны, обратим внимание: никакой дискуссии в советских правительственных кругах на тему «покупать или не покупать американскую лицензию» не ведётся. Идёт война, от раневых инфекций умирают или становятся калеками десятки тысяч бойцов Красной Армии. Свой пенициллин есть, но его крайне мало, нехватка огромна. Союзники отказываются продавать сам препарат. Тогда и обсуждать тут нечего – покупаем лицензию на производство (за любые деньги).
«Демоправдюки», очень любящие обвинять Советское правительство в том, что оно в грош не ставило человеческую жизнь, заявляющие, что ради доказательства «липовых» приоритетов оно готово было пожертвовать тысячами и тысячами человеческих жизней, почему-то предпочитают либо умалчивать эту историю с отказом американцев в продаже нам лицензии на производство пенициллина глубинным способом, либо говорить о ней вскользь, не давая никаких моральных оценок.
А оценки таковы: Советское государство заботилось о своих людях делом, а не словом (сами «демоправдюки» предпочитают «заботиться» о людях только на словах, на деле попросту на них наплевав); американцы поступили попросту подло.
Но Запад, с позиции «демоправдюков», нельзя ругать, ибо он свят; в то же время Советский Союз нельзя хвалить, ибо он – исчадье ада. Поэтому никаких похвал в адрес СССР не раздаётся, как не раздаётся и никакой критики в адрес США за их отказ в продаже нам технологии глубинного брожения. И только один из «ревнителей» исторической истины крайне осторожно отметил:
«…Нельзя отрицать и того, что обладание секретной технологией крупномасштабного промышленного производства пенициллина, сделавшее США мировым лидером в этой сфере, стало и фактором политического влияния» [74; 6].
Что ж? На фоне своих «собратьев»-«ревнителей» этот автор просто гиперкритичен к «Заокеанскому Иерусалиму».
В то время как наши американские союзники подличали, Советское правительство продолжало действенную заботу о своих гражданах: в конце 1945 года ему удалось купить технологию глубинного брожения в обход американцев – у Эрнста Чейна. Группа учёных НИИ эпидемиологии и гигиены Красной Армии во главе с Николаем Копыловым освоила эту технологию и запустила в производство (о чём выше уже говорилось). В 1946 году, до начала «холодной» войны, в Советский Союз из Канады было поставлено оборудование для оснащения двух пенициллиновых заводов, а группа советских специалистов прошла обучение в Канаде работе на этом оборудовании.
Канада – это всё-таки британская «епархия» (член Британского Союза, бывший английский доминион), а Чейн – английский учёный. Так что, если кто-то из «ревнителей» пишет о покупке американского пенициллина, подразумевая под этим закуп технологии глубинного брожения, то надо понимать, что купили её всё-таки не у американцев, а у англичан, точнее – у англичанина.
Несколько слов об Эрнсте Чейне.
Вообще, группа британских учёных, занимавшихся пенициллином, никак не запатентовала своё открытие. Это относится к Флемингу, Флори, Чейну, Хитли и Абрагаму. Данный факт бесспорен. Можно прочесть, что «они считали, что вещество, которое способно принести такую пользу человечеству, не должно служить источником дохода» [45; 191].
Можно встретить несколько иную версию событий. Флори и его группа (Чейн, Хитли и Абрагам) хотели было запатентовать пенициллин, но британское правительство отказало им в этом: «Люди заплатили за исследование, и они должны воспользоваться его плодами». Правительство тем самым намекало на выданные учёным субсидии. Флори, Хитли и Абрагам вполне согласились с такой постановкой вопроса: как-никак шла война, и Англии приходилось несладко. Чейн же согласился нехотя, назвал всё это идиотизмом, поссорился с Флори и вскоре вышел из исследовательской группы [75; 459].
Как бы там ни было, но американцам Флори и его группа передали свои наработки по пенициллину совершенно бескорыстно. Зато потом и американцы бескорыстно поделились с британцами технологией глубинного брожения. Правда, известно, что со стороны американцев предпринимались попытки «выставить счёт» англичанам за это. Однако последние их быстро «осадили», заявив, что в таком случае запатентуют пенициллин и вполне окупят свои расходы на закуп технологии глубинного брожения [45; 207].
Т.е. не без недоразумений, но англо-саксонские союзники наладили сотрудничество в области производства столь нужного во время войны лекарства.
Только вот ни Британия, ни США не захотели даже за деньги поделиться прогрессивной технологией со своим русским союзником. На этом фоне поступок Чейна выглядит чрезвычайно благородно, хоть технологию СССР он продал, а не передал бескорыстно. Когда же в руках советских учёных оказалась сама технология, то пришлось и специалистов из СССР обучить, и оборудование поставить – ведь на этом тоже можно было сделать деньги, и раз скрывать уже всё равно было нечего, то британцы «подсуетились» и деньги сделали, утерев, тем самым, нос американцам в вопросах предприимчивости.
Обвинение второе. Советские разработки пенициллина были абсолютно несамостоятельны, вторичны. А потому ни Ермольева, ни СССР не имели права заявлять ни о каких своих приоритетах на этот препарат. И Советский Союз не имел никакого права гордиться своим крустозином.
«Приоритет команды английских учёных Александра Флеминга, Говарда Флори и Эрнста Чейни в его (т.е. пенициллина – И.Д.) открытии и получении был признан мировым научным сообществом, о чём говорит присуждение им в 1945 году Нобелевской премии», – пишет, например, г-жа Е.В. Шерстнева, сотрудница национального исследовательского института общественного здоровья имени Н.А. Семашко. И продолжает: «В то же время создание “советского пенициллина” являлось предметом гордости исключительно СССР. При этом для советских граждан фактологию столь важного для нашей страны события заменила талантливо написанная версия Вениамина Каверина (речь о трилогии «Открытая книга» – И.Д.).
Благодаря этому до сих пор в сознании соотечественников живёт убеждение в независимой от иностранных учёных разработке пенициллина в нашей стране… Утверждается также, что советский пенициллин оказался гораздо активнее зарубежного. С лёгкой руки советских авторов население СССР обрело уверенность в том, что хитрые союзники не поделились с нами не только рецептом изготовления, но и готовым пенициллином, и жизни наших солдат спасал исключительно пенициллин-крустозин З.В. Ермольевой» [74; 1 – 2].
Также, по мнению г-жи Шерстневой, советская Большая медицинская энциклопедия (в изданиях разных лет) о Флеминге, Флори и Чейне в связи с пенициллином говорит мало и зачем-то упоминает З.В. Ермольеву [74; 1 – 2].
С позиций наших западно-ориентированных «демоправдюков», гордиться достижениями своей страны (России, СССР) вообще, в принципе, – грех! Гордиться нам, советским людям, гражданам России, в своей истории нечем. Единственное, что мы можем делать – восхищаться деяниями «пресветлого» Запада, который есть средоточие всего лучшего на планете Земля.
Поскольку с подобной точкой зрения этих деятелей априорно согласятся далеко не все, то под свои утверждения они стремятся «подверстать» некие доказательства (как правило, малоубедительные), а коль скоро последних не оказывается, то «пускаются во все тяжкие»: нагло лгут, поливают грязью, ёрничают, презрительно «пофыркивают». Арсенал методов у этой низкопробной публики тот ещё – низкопробный.
Ну, например, можно употребить такое выражение, как «полукустарный крустозин» и потереть руки, восхищаясь своим остроумием: мол, какой удачный каламбурчик (кустарный – крустозин)! [54; 1]
Можно написать, что Флори, приехав в СССР, «из достижений… отметил искусство Галины Улановой», подчеркнув тем самым, что крустозин уступал пенициллину по всем статьям, и опять, видимо, потирая руки от своего остроумия: нет, ну как поддел «совков»! [75; 461]
Можно лживо утверждать, что Советский Союз заявлял о своих приоритетах на пенициллин, а затем, проявив «невероятную научную логику» и «глубочайшие познания», «разнести в щепки» «порождённый лживой идеологической советской пропагандой» миф. Очевидно, эти «гиганты мысли» полагают, что в Советском Союзе все были настолько идеологически-озабочены, что не могли сопоставить три даты: 1928 год (открытие пенициллина Флемингом), 1940 год (получение чистого препарата Чейном и Флори) и 1942 год (получение крустозина Ермольевой и Балезиной).
Так вот, господа «ревнители» исторической истины, гордиться достижениями своей страны и своего народа – нормальное поведение нормального человека и хорошего гражданина. Ненормальностью является как раз обратное: неуменье испытывать подобное чувство гордости; это симптом вполне определённой болезни – морального уродства.
Советские люди совершенно обоснованно могли гордиться советским пенициллином. Как препаратом и «рецептом» его изготовления делились с нами союзники (что, в итоге, поделились – никто не отрицает), читатель уже видел. В тяжелейших условиях войны наши учёные вполне самостоятельно получили препарат, провели его клинические испытания, наладили лабораторный, а затем и промышленный выпуск. И крустозин спас жизни и здоровье тысячам красноармейцев.
Ни о каких своих приоритетах на пенициллин ни Зинаида Виссарионовна Ермольева, ни Советское государство никогда не заявляли. Подобными заявлениями госпожа Шерстнева и «иже с ней», видимо, считают статьи в советских газетах второй половины 40-х годов, где сообщалось об отечественных разработках аналога англо-американского пенициллина, да малое количество информации, которое, опять-таки по мнению г-жи Шерстневой, содержится в разных изданиях советской Большой медицинской энциклопедии о роли Флеминга, Чейна и Флори в открытии и получении пенициллина.
Странная, признаться, трактовка заявления о приоритете. Получается, что Советский Союз вообще не имел права и «рта раскрыть» о работе своих учёных по пенициллиновой тематике. А коли «раскрыл», то – лгун, фальсификатор, ибо заявил о приоритете в открытии.
Ну а как всё-таки обстояло дело в реальности (а не «преломляется» в воспалённых борьбой за «историческую истину» мозгах «демоправдюков»)?
Открываем Большую Советскую энциклопедию, том 32, год издания – 1955. (Заметьте, это вариант БСЭ издания 50-х годов, а не 70-х – начала 80-х, когда Советский Союз и его элита были настолько уже «пропитаны» «западными ценностями», что принижение советского и возвеличивание западного стало уже нормальным явлением. 1955 год – это ещё «почти Сталинская» эпоха; во всяком случае, речи Хрущёва на ХХ съезде КПСС пока не прозвучало.) Находим статью «Пенициллин». Читаем:
«Пенициллин – антибиотик, получаемый из культур не-рых видов зелёной плесени – пенициллов (см.), относящихся к классу сумчатых грибов (Penicillium notatum, P. chrysogenum, P. crustosum). Антимикробные свойства зелёной плесени были обнаружены в 1871 – 1872 гг. русскими учёными В.А. Манасеиным и А.Г. Полотебновым. В 1929 г. англ. учёный А. Флеминг доказал образование плесенью Р. notatum химич. вещества, подавляющего рост нек-рых бактерий. Методика получения этого вещества, названного П., была разработана англ. учёным Х. Флори, шотл. учёным Дж. Чейн и др. в 1940 г. и была использована для получения П. в промышленном масштабе. П. – гигроскопич. порошок, хорошо растворимый в органич. растворителях…» [53; 321 – 322].
И далее о физических и химических свойствах пенициллина, его формулах, медицинском применении и т.п.
Кстати, заметим: не понятно почему у составителей БСЭ Чейн «стал» шотландцем (был выходцем из Германии; отец – еврей (выходец из России), мать – немка)? Шотландцем был как раз Флеминг, но о нём говорится как об англичанине. Ну да бог с ним. Речь сейчас не об этом.
Как сам читатель может убедиться, о З.В. Ермольевой, её разработках по пенициллиновой тематике, приоритете СССР в этом вопросе – ни слова.
Единственный допущенный «грех» – упоминание среди штаммов пенициллового грибка, из которых получают пенициллин, Penicillium crustosum (однако после Penicillium notatum и Penicillium chrysogenum). Но что уж поделаешь? Из песни-то слова не выкинешь: уж коли производили пенициллин из Penicillium crustosum, об этом надо написать. А иначе – враньё и искажение той самой исторической истины, о которой так пекутся «демоправдюки».
Да, но, может быть, что-то принципиально иное написано в статье БСЭ, посвящённой З.В. Ермольевой, может быть, там-то и заявляется о каких-то советских приоритетах? Что ж? Посмотрим. БСЭ, том 15, год издания – 1952. (Ещё Сталинская эпоха! В самом разгаре борьба с космополитизмом в науке, литературе и искусстве.) Читаем:
«Ермольева, Зинаида Виссарионовна (р. 1898) – советский микробиолог и бактериохимик, член-корреспондент Академии медицинских наук СССР (с 1945 г.). Исследования Е. посвящены гл. образом изучению холеры и различных антимикробных агентов. Она впервые выделила из организма человека светящийся холероподобный вибрион, предложила способы распознавания холерных и холероподобных вибрионов и метод быстрой диагностики холеры; разработала метод приготовления холерного бактериофага. Эти работы Е. удостоены Сталинской премии (1943 г.).
Е. изучила и впервые в мире ввела в практику (1931 г.) лизоцим – лечебный препарат, применяемый при заболеваниях глаза, уха, горла, носа. Лизоцим применяется также в пром-сти для консервирования икры и получения льняного волокна высокого качества. В 1930 г. она впервые доказала, что лизоцим является фактором естественного (физиологического) иммунитета. Е. принадлежат работы по медицинской бактериохимии. В 1942 г. она с сотрудниками получила оригинальный препарат – советский пенициллин. Вместе с сотрудниками Е. получила новые антибиотики животного происхождения (экмолин и др.); Е. созданы также первые образцы советского стрептомицина (1947 г.), предложен новый препарат пенициллина – новоциллин. Награждена орденами Ленина и «Знак Почёта» и медалями» [21; 534].
Статья приведена нами без купюр (дабы избежать обвинений в искажении фактов, неверном цитировании, «выдёргивании» из контекста и т.п.).
И что же? Где заявка на какие-то советские приоритеты в разработках пенициллина? Её нет. Зато присутствует заявление о приоритете в области работы с лизоцимом. Вот бы где «демоправдюкам» «порезвиться». Но молчат. А что тут скажешь? Ведь действительно вещество в чистом виде впервые выделила Ермольева, она же нашла ему медицинское и промышленное применение. Флеминг, открывший лизоцим, в чистом виде выделить его не смог, а потому и не нашёл практическое применение своему открытию. Отрицать данные факты невозможно.
В отношении же пенициллина статья говорит лишь о получении З.В. Ермольевой и её сотрудниками оригинального отечественного аналога западного препарата. Но разве это не так? Так. Читатель в этом уже мог убедиться.
Ёмко и в то же время коротко «символ советской веры» в «пенициллиновой проблеме» выражен академиком АМН СССР профессором И. Кассирским в статье, посвящённой истории открытия пенициллина (1964 г.):
«Надо особо подчеркнуть, что в нашей стране производство пенициллина быстро достигло широчайшего размаха. При этом было проявлено много инициативы и найдены оригинальные решения (выделено нами – И.Д.).
В этом отношении не только наша страна, но и мировая антибиотикология обязаны энтузиасту антибиотиков действительному члену АМН СССР профессору З.В. Ермольевой. После открытия Флеминга, Чэйна и Флори (выделено нами – И.Д.) З.В. Ермольева включилась в интенсивную, неустанную работу по изготовлению пенициллина. Она получила собственные штаммы этого грибка и способствовала лабораторному, а потом и заводскому производству пенициллина в нашей стране (выделено нами – И.Д.). Шла война, надо было спасать сотни тысяч раненых. З.В. Ермольева выехала вместе с бригадой учёных-медиков на фронт и там в боевой обстановке проверяла действенность советского пенициллина…» [45; 325 – 326].
Видимо, ощущая или понимая, что нападки их, обвинения в адрес Советского Союза и З.В. Ермольевой абсолютно беспочвенны, что ни наше государство, ни замечательный советский учёный З.В. Ермольева никогда не присваивали себе чужих заслуг и не объявляли о своём приоритете в открытии пенициллина, «демоправдюки» начинают утверждать, что и оригинальным-то наш пенициллин не был.
А как это сделать, когда факты говорят об обратном?
Оказывается, очень просто: попытаться доказать, что все научные данные по пенициллину СССР попросту «сошпионил».
Именно доказательству данного положения посвящена значительная часть статьи Е.В Шерстневой «Создание “советского пенициллина”».
Заметим, что выражение «советский пенициллин» в заголовке статьи её автор берёт в кавычки, «с ходу» давая, тем самым, понять, что никакого советского пенициллина попросту не было. Т.е. английский был, американский был, а вот советского не было.
Вводное положение в статье г-жи Шерстневой звучит так:
«…Продолжать изолировать советский опыт от достижений мировой науки сегодня уже бессмысленно, поскольку для исследователей открылись ранее засекреченные архивные документы, которые опровергают сценарий, предложенный в советское время, и в первую очередь именно тезис о независимости советских разработок пенициллина» 30 [74; 2].
Оказывается, руководство страны и Наркомздрав были достаточно информированы о разработках пенициллина в Англии и США, получая информацию по линии разведки.
Е.В. Шерстнева ссылается на десять единиц хранения в ГАРФ (Государственном архиве Российской Федерации) и одну единицу хранения в Научном архиве РАМН (Российской Академии медицинских наук), где содержатся справки, которыми советское руководство информировалось о работах над препаратом у союзников.
Что ж? Отрицать осведомлённость нашего правительства в указанном вопросе не приходится (ещё раз скажем «спасибо» советской разведке за её эффективную работу). Конечно же, всю информацию, касающуюся западных разработок препарата, правительство передавало учёным, работавшим над этой же тематикой.
Однако возникает вопрос: насколько полученные таким образом сведения оказывались полезны для учёных?
Сама Е.В. Шерстнева признаёт, что эти справки носили больше обще-информационный характер:
«Информационные расхождения в справках и фактические ошибки говорят о том, что написаны они разными людьми, не всегда владевшими вопросом глубоко. Вероятно, многие из них составлялись из газетных и журнальных обзоров с последующим переводом» [74; 2].
Ясно, что для руководства страны и Наркомздрава подобного рода информация чрезвычайно ценна, а вот для учёных ценность её значительно меньше. Потому-то и штамм грибка для получения пенициллина наши учёные нашли свой, и З.В. Ермольева в феврале 1944 года в речи, обращённой к западной делегации во главе с Флори, выражала надежду на получение от союзников определённых сведений по технологии производства пенициллина, и технологию глубинного брожения мы самостоятельно освоить не смогли.
Тем не менее госпожа Шерстнева, увлекшись своей «шпионской версией», идёт на смелое предположение:
«Отметим и то, что в своей монографии “Пенициллин”, изданной в 1946 г., З.В. Ермольева открыто ссылалась на работы иностранных авторов (sic! – И.Д.) и не особенно вдавалась в детали обнаружения Тамарой Иосифовной Балезиной нового продуцента – штамма Penicillium crustosum. Возможно, это неслучайно. Надо учесть, что её супруг Степан Афанасьевич Балезин, известный химик, сотрудник Государственного Комитета Обороны, занимавшийся делами военной разведки в научной сфере (в частности, Курчатовским проектом), активно участвовал и в создании советского пенициллинового производства. Так что совсем не беспочвенна существующая в наши дни версия о том, что Т.И. Балезина вовсе и не соскребла заветный штамм со стены бомбоубежища, а “взяла плесень, которая поразила культуру вредоносной бактерии, выращенной в соседней “военной” лаборатории”[12]31» [74; 4].
Другими словами, Е.В. Шерстнева намекает, и намёк её шит белыми нитками, что и штамм Penicillium crustosum был украден советской разведкой. Только вот неясно тогда, почему ни англичане, ни американцы никогда не использовали этот штамм в своих работах по получению пенициллина и в производстве препарата. Во всяком случае, сведений об этом не имеется.
Любопытно также, откуда «пошла в народ» версия о том, что штамм Penicillium crustosum был взят Ермольевой и Балезиной в соседней военной лаборатории?
Оказывается, версию «запустила»… сама Тамара Иосифовна Балезина (но только в части «соседней лаборатории», без определения «военная»). Причём рассказывала об этом она всегда обычно, буднично, без намёков на то, что «срывает покровы» «страшной тайны». Вот её рассказ:
«Устав от напрасного ожидания32, весной 1942 года я с помощью друзей стала собирать плесени. Несли самую разнообразную плесень из самых невероятных мест (в некоторых вариантах рассказа даётся “развёрнуты перечень” этих “невероятных мест”; фигурируют плесень с продуктов, деревьев, газонов, со стены бомбоубежища – И.Д.). 93-м по счёту образцом был грибок, случайно выросший в другой лаборатории на культуре микроорганизма, над которым там работали. Этот штамм был идентифицирован как “близкий к Penicillium crustosum”. Из него мы и стали получать советский препарат, который назвали “пенициллин-крустозин ВИЭМ”. Сотрудники Всесоюзного Института экспериментальной медицины (ВИЭМ) проверили антибиотик на себе, после чего передали его для клинических испытаний» [58; 3].
А вот слово «военная» присовокупили к словосочетанию «соседняя (другая) лаборатория» «ревнители» исторической истины (так они её «ревнят»!). Присовокупили и «вбросили» в Интернет. А оттуда версию про «соседнюю военную лабораторию» и позаимствовала г-жа Шерстнева. Версия оказалась очень «удачной», ибо намекала на «шпионское» происхождение «нашего» пенициллинового штамма, что вполне соответствовало такой же версии самой г-жи Шерстневой.
Кстати, интересно в связи с рассказом Т.И. Балезиной глянуть, как умеют господа «ревнители» «передёрнуть» факты. Так, г-н Шифрин, верно указывая на то, что это сама Т.И. Балезина рассказывала о находке штамма Penicillium crustosum в соседней лаборатории, говорит при этом, что исследовательница называла эту лабораторию военной [75; 461]. Как мы убедились, Тамара Иосифовна ни о какой военной лаборатории речи не вела. Выходит, М. Шифрин «позаимствовал» данную версию из Интернета. А может быть, сам её туда и «вбросил», измыслив вполне самостоятельно. Чего не сделаешь ради поиска и утверждения исторической «правды».
Госпожа Шерстнева провела большую работу, обнаружив в архивах множество информационных справок, из которых советское руководство получало сведения о работе над пенициллином у союзников (за что ей честь и хвала; говорим без иронии).
Но она не процитировала текст ни одной из справок, ограничившись весьма обобщённым пересказом содержания ряда из них. Отсутствуют в статье и указания на даты этих документов. Возникает естественный вопрос: почему? Очевидно, дело в том, что ни содержание, ни датировка данных справок не представляют никаких доказательств версии «шпионского» происхождения советского крустозина.
Лишь в одном случае г-жа Шерстнева делает исключение и приводит весьма обширный участок текста документа. Фигурирует в цитируемом отрывке и дата.
Предваряет цитирование Е.В. Шерстнева весьма торжественным заявлением:
«А вот другая архивная находка является неопровержимым доказательством причастности нашей разведки33 (выделено нами – И.Д.). Нами обнаружено несколько писем проф. Н. Бородина, доктора биологических наук, согласно легенде, находившегося в Великобритании в командировке с целью изучения производства эндокринных препаратов. Ограничимся лишь небольшой выдержкой из одного его письма, откровенно характеризующей его деятельность (выделено нами – И.Д.)» [74; 4].
Надо полагать, что другие письма профессора Н. Бородина столь откровенно его деятельность не характеризуют. Потому-то исследовательница и сосредоточилась на этом послании профессора.
Итак, она цитирует следующий текст:
«”…мне удалось сфотографировать в течение ночи совершенно секретный индекс 610 совершенно секретных работ по химии пенициллина… разумеется без ведома Флори и Чейна. …Посылаемый материал даёт полную информацию о всех работах, проделанных по химии пенициллина и его дериватов по 27.11.1945 (выделено нами – И.Д.), и является государственной тайной США и Англии”[13]34» [74; 4].
Действительно, перед нами неопровержимое доказательство деятельности профессора Н. Бородина «на ниве» научной разведки (научного шпионажа, если кому-то так больше нравится).
Только… Только какое отношение данный документ имеет к созданию З.В. Ермольевой крустозина? Н. Бородин передавал данные по состоянию на 27 ноября 1945 года. Т.е., в лучшем случае, именно в этот день их сфотографировал. Скорее же всего, сделал это позже. Ещё позже они оказались в СССР, ещё позже – у Ермольевой. При любом раскладе речь идёт о конце 1945 года (если не о начале 1946).
Напомним, крустозин выделен З.В. Ермольевой и Т.И. Балезиной в 1942 году. В 1943 году он проходил успешные клинические испытания, был налажен его весьма объёмный лабораторный выпуск. В феврале 1944 года наш крустозин «побил» оксфордский пенициллин во время сравнительных клинических испытаний. С ноября 1944 года крустозин проходил испытания во фронтовых условиях. С конца 1944 года начинается промышленный выпуск препарата. К концу 1945 года СССР уже год выпускает свой пенициллин (крустози) промышленным способом (то, что промышленный выпуск пенициллина значительно уступает количественно таковому в США, сути дела не меняет). Более того, Советский Союз к тому моменту уже официально закупил у Чейна технологию глубинного брожения.
Так вот, повторим свой вопрос: какое отношение информация, переданная профессором Н. Бородиным в конце 1945 года (в лучшем случае), имеет к созданию советского крустозина? Вопрос, как вы понимаете, риторический. Похоже, что «гора родила мышь».
Обвинение третье. Советский крустозин был хуже англо-американского пенициллина, гораздо менее эффективен. Утверждение, что крустозин показал лучшие результаты в сравнении с оксфордским пенициллином во время сравнительных клинических испытаний в феврале 1944 года – ложь советской пропаганды. «И это… враньё, – пишет М. Шифрин. – При одинаковом клиническом эффекте доза крустозина была на 10 – 15% выше» [75; 461].
Откуда подобная информация у указанного автора? Он ссылок на свои источники не даёт. Читатель же сам выше мог убедиться на основе приведённых документов, что в феврале 1944 года крустозин, наоборот, при достижении одинакового клинического эффекта с оксфордским пенициллином использовался в меньших дозах, чем последний. По результатам испытаний крустозина в полевых условиях в конце 1944 года главный хирург РККА Н.А. Бурденко счёл, что дозы отечественного и зарубежного препаратов должны быть одинаковы при сходных заболеваниях, что и нашло отражение в «Инструкции по применению пенициллина», утверждённой в мае 1945 года. Т.е. наш крустозин был однозначно не хуже западного пенициллина (а может быть, и лучше). Каковы же аргументы «ревнителей» (если фактов и документов ими никаких не приводится), когда они утверждают обратное?