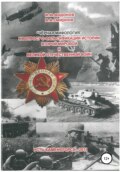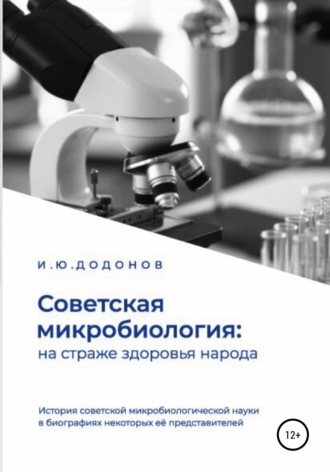
Игорь Юрьевич Додонов
Советская микробиология: на страже здоровья народа. История советской микробиологической науки в биографиях некоторых её представителей
Изучались эпидемиологические особенности ГЛПС, роль грызунов в сохранении и распространении вируса. Предпринимались настойчивые попытки выделить вирус ГЛПС. Однако раньше выделить вирус удалось южнокорейскому вирусологу Хо Ванг Ли, который и дал ему название «Ханта-вирус». Коллектив под руководством М.П. Чумакова установил антигенную специфичность штаммов вируса, циркулирующих на территории нашей страны, и провёл работу по созданию вакцины против ГЛПС.
Любопытно, что в 1949 году Михаил Петрович, «закоренелый вирусолог», предложил и возглавил комплексную программу ликвидации трахомы – инфекционного заболевания глаз, вызываемого бактериальной инфекцией. Болезнь была чрезвычайно серьёзной, приводящей просто к огромному числу случаев полной слепоты и неменьшему количеству случаев частичной потери зрения. Исследование, проведённое М.П. Чумаковым и его сотрудниками, позволило предложить эффективное средство лечения – мазь с тетрациклином. Трахома была ликвидирована по всей стране.
Послевоенные годы – время весьма быстрого карьерного роста Михаила Петровича (как мог убедиться читатель, весьма заслуженного).
В 1948 году его назначают заместителем директора по науке Института неврологии АМН СССР.
В 1949 году учёного избирают членом-корреспондентом Академии медицинских наук СССР.
Уже в 1950 году М.П. Чумакова назначают директором Института вирусологии имени Д.И. Ивановского. Михаил Петрович добился, чтобы в этот институт перевели из Института неврологии его «родной» отдел вирусных нейроинфекций. Вскоре отдел был преобразован в лабораторию полиомиелита и эндемических лихорадок.
Но столь успешное продвижение по карьерной лестнице оборвалось буквально в один миг. В 1952 году «разразилось» «дело врачей». Никакие репрессии ни самого М.П. Чумакова, ни его друзей, родственников, коллег не коснулись (всё-таки «на дворе» был не 1937 год). Однако в январе 1953 года в Институт вирусологии пришла разнарядка: сократить нескольких сотрудников (минимум трёх) с еврейскими фамилиями. Михаил Петрович, член ВКП(б) с 1940 года, был просто взбешён подобным распоряжением и заявил «разнарядчикм» в весьма резкой форме (а за словом в карман он никогда не лез и откровенно высказывал то, что думает, и «начальству» всех «мастей», и даже иностранным гостям, коли они этого заслуживали), что увольнять данных сотрудников у него нет никаких оснований, они – замечательные работники, и что он, как коммунист, совсем по-другому понимает национальную политику партии.
Последовал сначала выговор по партийной линии, затем – исключение из партии. Разумеется, воспоследовало и снятие с поста директора Института вирусологии. У Михаила Петровича были основания опасаться и более серьёзных последствий. Но обошлось…
Уже после смерти Сталина в марте 1953 года курс партии поменялся. Но ни партийное, ни научное «начальство» не спешили «реабилитировать» строптивого вирусолога.
Михаил Петрович в 1953 – 1954 годах был заведующим лабораторией эндемических лихорадок на своём «старом месте работы» – в Институте неврологии АМН СССР.
Но в 1955 году о «почти забытом» Чумакове «вспомнили» на самом высоком уровне, т.е. на уровне Советского правительства.
Дело в том, что в СССР «прорвалась» эпидемия полиомиелита.
* * *
Чтобы читателю было понятней, с какой угрозой столкнулись и человечество в целом, и наша страна, коротко расскажем об этой болезни и истории борьбы с ней.
На первый взгляд может показаться, что с полиомиелитом люди встретились только в ХХ веке, что именно в этом столетии совершенно новая болезнь обрушилась на человечество. Напрашивается даже некоторая аналогия с «испанкой»: эпидемия полиомиелита, так же, как и «испанки», разразилась в конце Первой мировой войны (в 1916 году в США началась первая большая эпидемия полиомиелита; в 1918 году там же, в США, вспыхнула эпидемия «испанки»).
Но подобное впечатление неверно, да и аналогия весьма поверхностна (основана на примерном совпадении начала эпидемических вспышек и совпадении места этого начала).
Если «испанка» и в самом деле явилась новой, ранее неизвестной разновидностью гриппа, заболевание которой очень быстро обрело характер пандемии, то полиомиелит был «давним знакомым» человечества. Что явилось действительно новым, так это массовый, эпидемический характер болезни (хотя до масштабов пандемии заболевание полиомиелитом тогда, в конце 10-х годов ХХ века, безусловно, не дотягивало).
Есть исторические данные, что полиомиелит существовал на протяжении многих тысячелетий. Очевидно, его знали ещё в Древне Египте. Барельефы некоторых египетских храмов имеют изображения людей с очень характерными «аномальными» конечностями, что заставляет медиков предполагать на барельефах изображения людей, искалеченных полиомиелитом. Археологи подтвердили подобные заключения врачей: при раскопках иногда встречаются мумии с такими изменениями костей конечностей (особенно ног), которые практически однозначно можно считать характерными именно для полиомиелита.
Интересные данные получены при раскопках в Гренландии: в слоях, относящихся к VI – V векам до нашей эры, встречаются захоронения, скелеты в которых имеют повреждения, также указывающие на полиомиелит.
Древнегреческий врач Гиппократ в одном из своих трактатов оставил описание болезни, при которой сохнут ноги, уменьшается объём мышц и наступает паралич конечностей. В этом заболевании также угадывается полиомиелит.
Однако со всей определённостью можно сказать, что на протяжении многих столетий заболевание не приобретало массовый характер. Потому-то дошедшие до нас медицинские трактаты древности и Средневековья упоминают его крайне редко. Более того, даже в медицинских книгах Нового времени о нём пишут нечасто.
Только в 1836 году было сделано первое точное описание клинической картины полиомиелита.
Название «полиомиелит» ввели в научный оборот только в 1874 году. Происходит оно от древнегреческих слов «полиос» – серый и «миелос» – мозг. Предложили такое название потому, что при смертельных случаях заболевания повреждаются именно отделы серого вещества спинного мозга.
Лишь на рубеже XIX и ХХ веков начали происходить небольшие по размерам эпидемические вспышки полиомиелита (в Скандинавских странах и США). Поскольку болезнь поражала в основном маленьких детей, её стали называть также детским параличом. Это второе название также закрепилось в медицинской литературе.
У разных людей болезнь протекала по-разному: одни умирали, другие на всю жизнь оставались инвалидами с парализованными ногами, третьи поправлялись.
В 1909 году австрийским врачам Ландштейнеру и Попперу удалось доказать вирусную природу полиомиелита (материал мозга умерших от полиомиелита лабораторных обезьян, пропущенный через фарфоровые фильтры, продолжал заражать других обезьян; отсюда был сделан вывод: носитель заболевания – вирус).
Постепенно учёные выяснили механизм действия вируса полиомиелита.
Любое наше движение происходит благодаря сигналам из головного мозга. Эти сигналы (нервные импульсы) передаются по волокнам нервной системы из головного мозга в спинной, а оттуда – к соответствующим мышцам рук, ног или других участков тела. Вирус полиомиелита, если ему удаётся проникнуть в спинной мозг, как раз и размножается в клетках проводящих путей спинного мозга. Данные клетки, в итоге, либо погибают, либо оказываются в значительной степени повреждёнными. Они теряют способность передавать нервные сигналы. И мышцы человеческого тела, не получая этих сигналов, перестают сокращаться (полностью или частично). Развивается либо слабость мышечных движений, либо полный паралич мышц (вариант зависит от количества погибших клеток нервных тканей).
Движения разных групп мышц контролируются различными участками спинного мозга: мышцы рук – клетками, лежащими на уровне шеи, мышцы ног – клетками, лежащими примерно на 30 см ниже, за мышцы дыхательной мускулатуры отвечают самые верхние отделы спинного мозга. В зависимости от того, какой отдел спинного мозга поражён полиовирусом, и развивается паралич соответствующих мышечных групп.
Чаще всего парализованными оказываются ноги. Гораздо реже наблюдается паралич мышц рук, спины, шеи, лица и дыхательных путей. В последнем случае человека ждёт мучительная смерть от удушья. Поддерживать жизнь у таких больных научились с помощью так называемых «железных лёгких» – специальных камер, в которых работу парализованных дыхательных мышц совершает перемена давления воздуха. Увы, восстановить работу повреждённых полиомиелитом клеток спинного мозга невозможно, а стало быть, человек, поражённый вирусом в такой форме, либо погибает, либо остаётся калекой на всю жизнь.
Выяснилось, что, по счастью, параличи развиваются далеко не у всех заразившихся полиомиелитом детей. Даже самые болезнетворные вирусы приводят к параличам у одного из 200 «подхвативших» их детей, менее злокачественные – у одного из 500 – 1 000. Тяжёлое течение заболевания имеет место, когда организм ребёнка по какой-то причине ослаблен (охлаждение, переутомление, борьба с другой болезнью и т.д.).
Дальнейшие исследования позволили установить, что все люди восприимчивы к полиомиелиту, практически каждый человек оказывается им инфицированным. Но у 85% инфицированных лиц болезнь протекает бессимптомно, приблизительно у 15% – как лёгкое или средней тяжести лихорадочное заболевание, и только примерно в 0,1 – 1% случаев происходит поражение центральной нервной системы (ЦНС), что и приводит к параличам.
Оказывается, вирус концентрируется в человеческом кишечнике. Это объяснило и основной путь его передачи – фекально-оральный. Именно с экскрементами вирус выделяется в окружающую среду, а оттуда тем или иным путём попадает в организм другого человека.
Но поражение ЦНС возникает только тогда, когда полиовирус из кишечника через лимфатические протоки «прорывается» в кровь. С кровью он проникает в головной и спинной мозг и начинает свою губительную работу.
Возможность подобного «прорыва» патогена вызвана понижением сопротивляемости организма по различным причинам: переутомление, переохлаждение, воздействие вредных веществ окружающей среды, борьба организма с другими заболеваниями, врождённые дефекты иммунной системы.
Полиомиелит – единственная из известных инфекционных болезней, которая не только не ослабла, не стала затухать, а как раз наоборот – усилила свой размах вследствие улучшения санитарно-гигиенических условий. Как ни парадоксально звучит, но это именно так. Можно даже сказать, что она явилась расплатой за цивилизацию.
Дело в том, что ранее неудовлетворительные санитарные условия жизни людей приводили к тому, что дети «встречались» с вирусом полиомиелита в первые же дни своего существования. (Подобная картина наблюдается и сейчас в слаборазвитых странах; поэтому чем там только не болеют, но вот эпидемических вспышек полиомиелита там нет и никогда не было.) Ребёнок неизбежно заражался им. Но, как известно, у новорождённых до полугода существует т.н. материнский иммунитет, т.е. естественный пассивный приобретённый иммунитет, который они получают от матери. В этом комплексе иммунной защиты «достаются» младенцам и противополиовирусные антитела. В результате, вирус развивался только в клетках кишечника, а если и «прорывался» в кровь, то встречал там барьер из материнских антител. При этом ребёнок становился иммунизированным к полиомиелиту на всю жизнь, хотя у него болезни и не было (точнее, она протекала бессимптомно).
Повышение жизненного уровня людей в ряде стран ничуть не изменило схемы работы материнского иммунитета у ребёнка, но привело к тому, что дети, содержащиеся в чистоте и достатке, стали «встречаться» с полиовирусом гораздо позже полугодовалого возраста, когда у них уже не было материнских антител, но при этом и собственная иммунная защита к данному заболеванию не сформировалась.
Отсюда и риск протекания заболевания в тяжёлой форме, т.е. с поражением ЦНС, отсюда и эпидемии. Конечно, на удачу для человека, даже при таком варианте «цивилизованного столкновения» с вирусом полиомиелита «срабатывало» то процентное соотношение, о котором мы писали выше: около 85% бессимптомных носителей (вирус «поселяется» в клетках стенок кишечника; иммунитет образуется); около 15% перенёсших болезнь в лёгкой или средней степени тяжести (как некую лихорадку; вирус в основной своей массе также «поселяется» в клетках стенок кишечника; иммунитет образуется); 0,1 – 1% тех, у кого поражена ЦНС.
Однако 0,1 – 1% – это тысячи и тысячи людей, в основном – детей.
Всё, о чём мы сейчас написали, было выяснено учёными не одномоментно – годы ушли на то, чтобы изучить природу полиомиелитной инфекции, схему её действия (как говорят учёные – этиологию).
Но ещё больше потребовалось времени, чтобы научиться от полиомиелита защищаться.
Первые попытки были предприняты сразу после начала эпидемических вспышек этого заболевания. Учёные заметили, что в крови заражённых полиомиелитом лабораторных обезьян образуются специфические антитела к вирусу. Кровь обезьян, которые не погибли, а поправлялись после болезни, защищала не болевших животных от полиовируса.
После этих опытов врачи в разных странах пытались использовать сыворотку перенёсших полиомиелит людей и лечить с её помощью больных или защищать контактных. Однако результаты оказались весьма странными: в одних случаях сыворотка помогала, в других – нет. Тогда объяснить это не могли, но было ясно, что сыворотка надёжной защитой от полиомиелита не является.
Между тем, болезнь продолжала расширять своё наступление.
В 1916 году в США произошла первая большая эпидемия полиомиелита. Она охватила всю территорию страны. Совершенно неожиданно болезнь «повзрослела»: впервые заболевали не только дети, но и взрослые (причём заболевали они массово, много среди них было и умерших). В течение года парализованными оказались около 27 тысяч человек, 6 тысяч человек умерли.
Очередная, ещё более масштабная, эпидемия полиомиелита прокатилась по Штатам в 1921 году. Именно в ходе этой эпидемии заболел и «обезножил» относительно молодой (тогда ему было 39 лет) перспективный политик Франклин Делано Рузвельт, баллотировавшийся на пост вице-президента страны на предстоявших президентских выборах. Только в Нью-Йорке в течение трёх месяцев погибло 2 тысячи человек, а 7 тысяч были парализованы.
В стране началась паника. Люди бежали из больших городов, а их бегству препятствовали полицейские кордоны (власти опасались разноса инфекции). Больницы отказывались принимать больных полиомиелитом из страха, что они заразят пациентов и медперсонал («полиомиелитных» «укладывали» в больницы также с помощью полиции). Карантинные и дезинфекционные мероприятия должного эффекта не давали, ещё больше усиливая страх среди населения. Было множество случаев помешательства среди матерей, дети которых скончались от полиомиелита (они отказывались отдавать трупы своих умерших детей, и полиция штурмом брала квартиры для изъятия трупов).
Словом, полиомиелит стал для США национальным бедствием. Его вспышки периодически повторялись в стране на протяжении всех 20-х и 30-х годов, унося тысячи жизней, оставляя тысячи калек.
В 1926 году Ф. Рузвельт организовал фонд для сбора средств, которые предназначались для помощи больным полиомиелитом. Это мероприятие значительно увеличило популярность Рузвельта и во многом содействовало его избранию в 1932 году президентом США.
Став президентом, Рузвельт всячески способствовал активизации деятельности фонда: в него были направлены некоторые государственные средства, развёрнута мощнейшая рекламная кампания для большего привлечения в фонд средств населения37, деньги фонда стали направляться на финансирование исследований в области изучения полиомиелита и поиска средств борьбы с ним.
Уже в середине 30-х годов в Америке предприняли две попытки создания инактивированных (убитых) вакцин. К тому времени неэффективность серотерапии и серопрофилактики стали вполне очевидны, и именно в вакцинации учёные видели единственный способ защиты от заболевания. Однако техника вакцинного дела находилась тогда ещё на довольно низком уровне (особенно, конечно, если речь шла о вирусных инфекциях), а главное – о вирусе полиомиелита было известно ещё далеко не всё. По этим причинам попытки создания противополиомиелитных вакцин в 30-х годах провалились.
Во Вторую мировую войну США вступали с неразрешённой «полиомиелитной проблемой». Да и надо сказать, что в годы войны инфекция несколько «притихла»: больших эпидемических вспышек не было.
Зато после окончания войны полиовирус с новой силой «хлестнул» по Штатам. Эпидемические вспышки стали повторяться из года в год с такой силой, что в 1947 году американский эпидемиолог Стоумен практически в отчаянии писал:
«Превращение относительно редкой болезни Гейне – Медина в эпидемический полиомиелит со всемирным распространением является, как и пандемия гриппа 1918 – 1919 гг., зловещей и неразрешимой загадкой, возникшей перед эпидемиологами в прошедшей половине столетия» [19; 1].
Действительно, было от чего отчаиваться и «хвататься за голову»: этиология (причинность) болезни во многом не ясна, как защищаться – не понятно (сыворотки неэффективны, вакцины не удаются, общесанитарные мероприятия не помогают), а болезнь, между тем, наступает. Она, и в самом деле, уже начинает приобретать характер пандемии: в годы после Второй мировой войны большие эпидемические вспышки происходят не только в США, но и в Канаде, Австралии, Новой Зеландии, ряде европейских стран (прежде всего, в странах Скандинавии и Англии). Причём ряд эпидемических вспышек в США и скандинавских странах отличался большим процентом заболеваний с тяжелейшими клиническими проявлениями, т.е. поражением дыхательной мускулатуры. Именно тогда и получили широкое применение «железные лёгкие».
С 1947 по 1953 год только в США паралитическим полиомиелитом переболело свыше 200 тысяч человек. Более 50 тысяч детей и взрослых стали полными инвалидами, а 20 тысяч заболевших погибло.
Однако в 1949 году «забрезжил свет в конце туннеля»: было совершено два открытия, которые, в итоге, «переломили» ход борьбы с полиомиелитом.
Известные американские вирусологи Д. Эндерс, Ф. Роббинс и Т. Уэллер из Гарвардского университета изобрели метод однослойных тканевых культур и предложили использовать живые клетки, размножающиеся на поверхности стеклянных сосудов, для изучения причин возникновения полиомиелита. Эти учёные показали, что материалы, взятые из кишечника больных полиомиелитом людей, содержат вирус, размножающийся в тканевых культурах и вызывающий изменения клеток вплоть до их гибели и разрушения. Процесс хорошо наблюдался под микроскопом.
Другим «прорывом» было открытие американского вирусолога Д. Бодиана, который доказал, что существует три различных типа вируса полиомиелита (а не один, как полагали ранее). Причём эти типы не создают перекрёстный иммунитет, т.е. против каждого из них в организме заражённых людей вырабатываются свои специфические антитела, которые на два других типа не действуют. Это объяснило причину неудач при испытании сывороток в качестве лечебного препарата или профилактического средства.
Опираясь на результаты исследований Эндерса, Роббина и Уэллера по выращиванию полиовируса в культурах почечной ткани обезьян, а также на открытие Бодиана, уже в 1950 году американский вирусолог Джонас Солк начал новые работы по созданию инактивированной (убитой) антиполиомиелитной вакцины.
Сейчас можно прочесть в некоторых работах, что Солк, мол, «пришёл на всё готовое». Ему и оставалось-то только «прибить» вирус полиомиелита формалином и опробовать полученную вакцину на обезьянах [75; 547]. Дескать, на рекламу своей вакцины и подсчитывание вырученных за неё барышей он потратил времени и сил куда как больше.
Конечно, всё это не более, чем «обывательские разговорчики». Спору нет: «коммерческая жилка» у Солка была (как у очень многих американцев, которые «впитывают» способность к бизнесу вместе «с молоком матери»). Да, был открыт способ выращивания полиовируса в культурах клеток почечной ткани обезьян. Да, было известно о существовании трёх штаммов полиовируса. Но работа Солку, тем не менее, предстояла огромная: требовалось адаптировать все три типа вируса к почечной ткани, вырастить их в большом количестве, отбирая те вирусы, которые наиболее активно размножались в тканевых культурах. Затем, обезвредив вирусы каждого из трёх штаммов формалином, создать из них «коктейль», который защищал бы организм одновременно от всех трёх типов полиовируса.
Эта работа заняла около двух лет. Наконец, в 1952 году вакцина была готова. Первые её испытания Солк провёл на себе, своей жене и трёх сыновьях. Вакцина оказалась безвредной (не вызывала аллергическую реакцию и прочие побочные эффекты). А главное – не приводила к заболеванию полиомиелитом (чем «грешили» неудачные убитые вакцины 30-х годов) и создавала иммунитет к вирусу полиомиелита (всех типов) у привитых.
В начале 1954 года Солк получил разрешение федеральных властей на вакцинацию 5 тысяч детей в Питтсбурге (где он проживал), что и было осуществлено уже в феврале 1954 года. Анализ показал наличие в крови у вакцинированных детей антител к полиовирусу. Наблюдение над вакцинированными велось два месяца: ничего страшного не произошло.
Тогда в апреле 1954 года последовало решение правительства на проведение более широких прививочных испытаний. На сей раз вакциной предстояло иммунизировать 650 тысяч детей в ряде штатов страны. Наблюдение над ними продолжалось год (до апреля 1955 г.). Вакцина работала превосходно: у привитых детей вырабатывался активный иммунитет – в крови находили большое количество антител против всех трёх штаммов вируса полиомиелита. При этом осуществлявшие наблюдение за состоянием здоровья детей врачи не отмечали никаких побочных явлений. Число случаев полиомиелита и смертность от него снизились в штатах, в которых была проведена вакцинация, в четыре и более раз.
Америка ликовала: наконец-то найдена защита от такого страшного заболевания! В кратчайший срок Национальный фонд борьбы с полиомиелитом получил 67 миллионов долларов пожертвований – по тем временам огромная сумма! Полученные средства позволяли провести поголовную вакцинацию всех детей в США и, кроме того, профинансировать массу новых исследований в данной области.
Однако среди общего ликования нашлась и группа учёных-скептиков. Нет, они также были рады результатам, которые показала вакцина Солка, тому, что люди получили защиту от полиомиелита. Вот только эти учёные высказывали сомнения: стопроцентную ли защиту даёт убитая вакцина? Конечно, первые результаты обнадёживали, но слишком мало времени прошло, чтобы дать вполне определённый ответ на указанный вопрос.
И ещё один нюанс смущал учёных-скептиков. Вакцина Солка вводилась посредством инъекции, вызывала образование антител в крови. А как же кишечник? Ведь было уже известно, что «основная база» вирусов полиомиелита в человеческом организме – кишечник. Приводит ли вакцина Солка к образованию антител в кишечнике? Если нет, то у привитых людей полиовирус может преспокойно продолжать «сидеть» в кишечнике и размножаться там. И тогда этот человек – скрытый носитель вируса, будет распространять его, заражая людей вокруг себя.
Были у вакцины Солка и явные недостатки: сложность и дороговизна производства, необходимость троекратной вакцинации (что при дороговизне вакцины превращалось в большую проблему), использование для производства вакцины почечной ткани обезьян, которых при той технологии производства препарата приходилось истреблять тысячами (что очень быстро поставило популяции зелёных мартышек и макак-резусов, чья почечная ткань использовалась для получения колоний полиовирусов, на грань исчезновения).
Весьма скоро учёные получили ответ на свой второй вопрос: вакцина Солка не препятствовала «спокойной жизни» вирусов полиомиелита в кишечнике привитых детей, там антител к вирусу не образовывалось. Значит, эти дети могли заражать других детей и взрослых людей, пока ещё не прошедших вакцинацию. Кроме того, стало ясно: циркуляция штаммов полиовируса в окружающей среде будет продолжаться. Болезнь будет продолжать существовать. Уменьшится её размах, болеть будут меньше, но она никуда не уйдёт и будет постоянно «собирать свою дань». Весь вопрос в том, каков будет размер этой «дани»? Т.е. проблема надёжности защиты, которую давала вакцина Солка, приобретала особую остроту.
И на указанный вопрос ответ также получили довольно быстро. Ответ нельзя было назвать абсолютно утешительным, ибо он оставлял значительную долю горечи и беспокойства.
Уже в 1955 году, в ходе начавшейся кампании массовой вакцинации в США, «грянул» «первый удар грома»: возникло 79 случаев заболевания полиомиелитом среди привитых детей. А от этих детей ещё и заразились 105 членов их семей и 20 контактировавших с ними детей. 11 человек из заболевших скончались.
Америка пережила шок! Ликование сменилось ужасом: неужто вакцина бессильна и не может защитить детей?!38
Прививочную кампанию тут же прекратили.
Специальная комиссия федеральной службы здравоохранения провела экстренное расследование. В ходе расследования выяснилось, что собственно вакцина не виновата во вспышке заболевания, виновен брак в её производстве. Фармацевтическая фирма «Каттер» случайно приготовила две серии препарата, содержавшие «недоубитый» вирус. И, несмотря на строгий контроль, эти партии вакцины почему-то поступили в продажу.
Скандал разразился страшный. И если подобный «строгий контроль» явно попадал в сферу уголовного преследования, то причина «недоубитости» вируса могла крыться как в халатности персонала (а тогда это тоже дело подсудное), так и в несовершенстве технологии производства вакцины. Оказалось второе. Выяснилось, что в вакцину иногда могут попадать маленькие комочки белка клеточных тканей, на которых полиовирусы выращивались. В этих-то комочках вирусы «спокойно пересиживают» инактивацию формалином, а попав в человеческий организм, начинают свою губительную деятельность. Солк усовершенствовал процесс фильтрации своей вакцины. Виновные, гнавшиеся за быстрым барышом, были наказаны. Вакцина реабилитирована.
В 1956 году вакциной Солка в США привили почти 60 миллионов детей.
Но тут «грянул» «второй удар грома».
В 1956 году в Чикаго случилась большая вспышка полиомиелита. 835 детей оказались парализованными. Ударом оказалось для всех, что 285 детей из парализованных были привиты вакциной Солка.
На сей раз претензий к качеству производства препарата не было. Следовательно, дело было в самом препарате, в каком-то его системном недостатке.
Случилось то, о чём и предупреждали учёные-скептики: инактивированная вакцина не даёт стопроцентной защиты привитым ею. Правда, выяснилось, что почти все заболевшие в Чикаго дети получили, вместо положенных трёх, одну или две прививки. Однако именно «почти». Были среди заболевших и привитые трижды.
Со временем удалось выяснить, что убитая вакцина предохраняет от паралитического заболевания от 60 до 80% детей, вакцинированных дважды и более39.
Америке ничего не оставалось делать, как «вздохнуть» и «смириться»: по крайней мере, заболевших будет значительно меньше, большинство детей всё-таки защитим. Ну а часть… Что ж тут поделаешь?
Однако смиряться не хотели учёные-скептики. Они считали, что полиомиелит можно победить полностью, можно защитить всех детей.
Но как?
По мнению этих исследователей, выход заключался в создании живой полиовирусной вакцины.
Скептиками были крупные американские вирусологи: Х. Копровский, Г. Кокс и А. Сэбин.
Кокс и Копровский работали в одной фармацевтической фирме – «Ледерле». Первый был директором вирусного отдела этой компании, второй – его заместителем.
Копровский, эмигрировавший из Польши с началом Второй мировой войны, стал известен благодаря своим работам, посвящённым изучению жёлтой лихорадки.
«На счету» Кокса за годы его научной деятельности создание ряда противовирусных вакцин (в основном для животных): новой вакцины против бешенства, вакцин против холеры свиней, чумы собак, гепатита собак, чумы кур.
Кокс и Копровский начали свою работу над живой противополиомиелитной вакциной за несколько лет до того, как Солк приступил к разработке инактивированной вакцины – в 1946 году.
Здесь надо заметить, что труд по созданию живой вакцины несопоставим с работой по созданию любого инактивированного прививочного препарата: первая значительно сложнее второго, гораздо более трудоёмка. Копровский в одном из своих выступлений сделал весьма остроумное сравнение: «Труд по созданию убитой вакцины нельзя сопоставить с трудом, затрачиваемым на ослабление живого вируса и превращение его в вакцинный штамм, так же как нельзя сопоставить труд, который требуется, чтобы убить корову на бойне или же вырастить из новорождённого телёнка взрослое животное» [63; 90].
Проблема заключается в том, чтобы ослабить микроб (в данном случае – вирус) в такой степени, чтобы он, потеряв свою патогенность, не утратил иммуногенность. Т.е. создать, говоря научными терминами, в достаточной степени аттенуированный штамм. Причём необходимо, чтобы штамм этот оказался устойчивым и не вернулся во втором, третьем и т. д. поколениях в дикое состояние.
Если учесть, что вирусов полиомиелита существует три вполне самостоятельных типа, то всю работу предстояло помножить на три, создавая, по сути, три вакцины, которые затем нужно было объединить в одну.
Только в 1950 году опытный экземпляр вакцины был готов. Принимать эту вакцину требовалось через рот (перорально) для выработки антител к полиовирусу не только в крови, но и в кишечнике.
Испытания вакцины Копровский и Кокс провели на себе. Добровольцами вызвались ещё несколько сотрудников их лаборатории. Всё закончилось благополучно.
Таким образом, первый образец живой вакцины против полиомиелита появился в тот год, когда Солк только начал свои работы по созданию вакцины инактивированной.
Более того, в 1951 году Копровскому удалось добиться разрешения на проведение прививки нескольким детям. Эти дети затем в течение нескольких лет находились под постоянным наблюдением: они не заболели полиомиелитом, у них не было никаких осложнений, в крови сохранялся высокий уровень антител. И, на что, собственно, и рассчитывали учёные, высокую устойчивость к вирусу приобрёл кишечник этих детей. Последний результат позволял сделать вывод, что массовое применение живой вакцины прекратит циркуляцию в природе диких вирусов полиомиелита, т.е. полиомиелит будет побеждён, исчезнет.