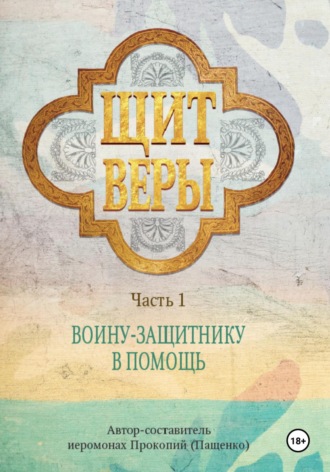
Иеромонах Прокопий (Пащенко)
Щит веры – воину-защитнику в помощь. Часть 1
Врачи были измотаны, измучены, еле держались на ногах, но делали всё, чтобы спасти.
Когда лежал на земле, санитары, разносившие воду, случайно не давали мне пить, и это спасло меня, потому что при ранении в полость живота пить недопустимо, это привело бы наверняка к смертельному исходу. Это случайность не что иное, как великий Промысл Божий.
В госпиталях врачи неоднократно говорили мне – если при ранении в брюшную полость проходило более восьми часов, а тем более если в это время раненый пил воду, смерть была неизбежна вследствие воспалительных процессов и общего заражения крови.
Помню, кончив операцию, хирург долго и удивлённо смотрел на меня и сказал, ни к кому не обращаясь:
– Подумайте! Что он вытерпел! Да это просто чудо! – и, подойдя ко мне, поцеловал в лоб. – Молодец, солдат, больше чем молодец. Знаю, всё чувствовал. Жить долго будешь. Скажу тебе – молись своему Богу.
Что-то почти прозорливое было в его словах. Думаю, для окружающих эти слова были мало значимыми, но для меня звучали как предвестники будущей жизни.
Вот так я пришёл к Богу.
Я выжил, через сутки был эвакуирован и долго лечился в тыловых госпиталях. Несколько раз рассказывал врачам, уже в госпиталях и в гражданских больницах, про операцию во фронтовых условиях, и никто, никто никогда не верил, что такая операция могла совершиться, да ещё в походных условиях и без общего наркоза. Сделали на лице ещё несколько пластических операций.
Жалею, что не смог разыскать хирурга, узнать его фамилию. Шесть месяцев пролежал в госпиталях, в 1944 году комиссия признала ограниченно годным, отправили в тыл армии, но где-то на фронте произошла заминка с наступлением, потребовались солдаты, попал опять в пехоту. Закончил войну в 1945 году лейтенантом в комендатуре небольшого немецкого городка, демобилизовался в 1946 году. Возвратился в Москву искренне верующим человеком, пересмотревшим свою жизнь.
Конечно, радости родных не было пределов, но то, что стал верующим, радовало папу и сестру не меньше, чем то, что остался жив.
* * *
Рассказ Сергея Петровича произвёл на меня огромное впечатление; несколько минут молчали. Я думала об одной из тайн Господа и великой Его милости – долготерпении, милосердии к людям и всепрощении; одновременно с этими мыслями пришла и другая: что стало с санитаркой Верой? Хотелось спросить; в то же время было неудобно, может быть, он никогда не встретил её и забыл? Но решилась спросить, вероятно, врождённое женское любопытство победило стеснительность.
– Вы после окончания войны не узнавали, куда делась Вера и что с ней?
Сергей Петрович недоумённо посмотрел на меня и сказал:
– Конечно, разыскал! Подробности о том, как она волокла меня к берегу, узнал от неё. Кстати, в рассказе упомянул об этом.
Любопытство подхлестнуло задать второй вопрос:
– Скажите, а где сейчас Вера?
Сергей Петрович улыбнулся, потом засмеялся, и в этом смехе было столько ласки и приветливости! Кончив смеяться, громко сказал:
– Вера, зайди, пожалуйста, к нам!
Я мгновенно всё поняла, готовая провалиться сквозь землю. Вера Алексеевна, жена Сергея Петровича, врач-невропатолог, с которой мы дружили уже несколько лет, была Верой-санитаркой, спасшей Сергея. Надо было догадаться об этом во время рассказа!
Человек скромный, обаятельный, старающийся каждому из друзей и знакомых сделать что-то доброе и хорошее, она никогда не рассказывала ничего о себе. Вглядевшись, увидела, словно первый раз смотрела на неё – среднего роста (совсем не маленькую) стройную женщину, чуть-чуть постаревшую – прошло двадцать восемь лет со дня боя у деревни Святой Ключ – лёгкие паутинки легли на её лицо – время безжалостно накладывает свой отпечаток на каждого из нас.
Сергей Петрович сидел на диване, смотрел на нас, как-то особенно по-доброму смеялся, а записывающий магнитофон безостановочно работал. Записи эти сделаны мной с магнитной ленты, поэтому, сохранив весь рассказ Сергея Петровича, мне пришлось в то же время многое править и редактировать, это было вынужденно.
Понимаю, что в написанном много внимания уделено военным действиям, но сократить не имела права.
С. П. Мамонтов.Из архива В. В. Быкова.
Д. С. О доверии ощущениям. Рассказ
Знамение…
Или сон нехороший просто.
Кто-то скрыл, как шарик в напёрсток,
значение…
Предчувствие…
Тревоги, как воды сточные,
о которых и думать, в общем-то,
кощунственно.
Суеверия…
Ощущения вне понимания,
и будто бы нет осязанию
доверия.
Пробуждение…
Как всегда пограничное таинство,
и при этом, конечно, случаются
наваждения…
Оторвав голову от мокрой подушки, я несколько секунд напряжённо вглядывался в темноту помещения, постоянно моргая, стараясь сориентироваться в навалившейся реальности.
Осознав же, что всё в порядке, а на соседней кровати мирно посапывает Гена, я всунул ноги в тапочки и, накинув «флиску», аккуратно выскользнул на улицу…
Раннее-раннее утро. Тишина и полнейшая статика… И только еле слышное урчание кондиционеров…
Присев на скамейку, я закурил и медленно пробежался взглядом по незатейливому «ханкалинскому» пейзажу.
Квадрат однотипных вагончиков – обшарпанные двери, окна с москитными сетками, бетонные дорожки, зелёная трава и ярко-красные розы на газоне посреди всего этого светло-голубого уныния…
Сердце потихоньку приходило к нужному ритму, и я постепенно начал успокаиваться, хотя отголоски недавнего страха надёжно ощущались где-то в глубине моего мозга…
Я даже не мог вспомнить этот сон или его обрывки, но общие впечатления говорили о том, что он был очень паскудный, и благодаря ему остался осязаемый шлейф необъяснимой тревоги.
Когда я ехал на Кавказ, мне говорили: никому не верь… Одной дорогой два раза не ходи… Слушай свой внутренний голос. Да. Я ехал в неизвестность, лишь отдалённо понимая суть происходящих здесь событий. Но внутри была и вера, что ничего страшного со мною произойти не может.
Короче, сам себе я казался очень спокойным тут. Мне ставили задачи, и я их выполнял. Потому что я человек военный и так надо… Это наш солёный хлеб. Здесь и сейчас.
И вчера на совещании у начальника отдела у меня ничего не ёкнуло, когда он мне объявил: «Утром поедете в Ингушетию с „показчиком“, проведёте видеоразведку по местам, которые он укажет. С тобою в сопровождении будут „тяжёлые“, в 6–30 встречаетесь и выезжаете».
Обычные дела.
Ингушетия, конечно, не лучшее место для поездок, тем более на двух тонированных машинах да по безлюдным улицам пригородов Назрани, но это всего лишь информация к размышлению. Значит в 6–30.
С вечера я размеренно собирался. Проверял автоматные рожки, патроны, собрал «разгрузку», приладил в поясной чехол гранаты и даже почистил «ПМ». С утра останется только одеться и выйти к машине. С умыванием минут 15. Соответственно, будильник на 6–05, и будет время на кружку кофе.
С такими мыслями я заканчивал очередной «день сурка» полугодичной командировки.
А теперь этот сон, не раньше – не позже. И вот оно это утро. И до выезда уже меньше двух часов.
«Мда-а-а.
Предчувствие?.. Неужели вот он, этот момент?.. Провидение?.. Предупреждение свыше?..
Не знаю. Ох, не готов ответить.
Во мне появилась железобетонная уверенность, что я никуда сегодня с базы не поеду.
Какая Ингушетия?.. Какой показчик?.. Нет уж, избавьте, будьте любезны».
Я мысленно видел себя звонящим командиру и говорящим ему, что у меня болит живот и, возможно, это приступ аппендицита, да мало ли что я мог ему наговорить в таком состоянии. Уж с фантазией у меня всегда всё было в порядке.
Однако окончательно проснувшись, я начал соображать, что в порядке далеко не всё, особенно совесть…
Ситуация проста, как выстрел… Даже если командир и поверит в мою историю, то, один бес, кто-то поедет из моего отделения, потому как всё спланировано и ваши «откорячки» абсолютно никому не интересны.
И этот кто-то встанет и поедет, побрюзжит, конечно, для порядка, но поедет, а что будет потом…
По моей логике, если сегодня мне уготованы какие-то абсолютно неприятные сюрпризы, то они будут совершенно определённо переадресованы моему товарищу. А, не дай Бог, если… Но о таких вещах стараются не говорить, конечно…
Ещё минут через десять я поднялся со скамьи.
Некоторым усилием воли я выровнял свои мысли, а были они о том, что у каждого своя дорога, свои надежды и оправдания, но не стоит пытаться кого-то сегодня впихнуть в мою колею. Особенно в этот тихий и, судя по всему, солнечный октябрьский день.
«Пресвятая Богородице, спаси нас!»
В 6–25 я стоял на стоянке. Собранный морально и материально и, по-моему, готовый ко всему. «Показчик» заметно нервничал и, как обычно, жаловался на свою память. Улыбчивые ребята из спецназа, прижав его своими плечами с двух сторон на заднем сиденье «десятки», буднично проинструктировали всех на случай непредвиденных ситуаций, и мы двинулись навстречу неведомому.
Более спокойной поездки по этим неспокойным местам я вряд ли припомню. Всё прошло без каких-либо затруднений и препятствий, словно «зелёный светофор» в этот день вообще не переключался.
Вечером, ступая по бетонным плитам в сторону своего вагончика, я про себя уже прокручивал будничный доклад о проделанной работе. А вот где-то в душе я немного радовался за себя, понимая, что это испытание я прошёл и сам с собою остался честен, слава Богу…
У той самой скамейки стоял весёлый гам. Сигаретный дым, вылетая из тени, растворялся в остывающем воздухе. А мне навстречу по-дружески улыбались прищуренные глаза тех, кого этим ранним утром я не решился будить.
Стихи о России и о войне
Александр Пушкин
Бородинская годовщина
Великий день Бородина
Мы братской тризной поминая,
Твердили: «Шли же племена,
Бедой России угрожая;
Не вся ль Европа тут была?
А чья звезда её вела!..
Но стали ж мы пятою твёрдой
И грудью приняли напор
Племён, послушных воле гордой,
И равен был неравный спор.
И что ж? свой бедственный побег,
Кичась, они забыли ныне;
Забыли русский штык и снег,
Погребший славу их в пустыне.
Знакомый пир их манит вновь —
Хмельна для них славянов кровь;
Но тяжко будет им похмелье;
Но долог будет сон гостей
На тесном, хладном новоселье,
Под злаком северных полей!
Ступайте ж к нам: вас Русь зовёт!
Но знайте, прошеные гости!
Уж Польша вас не поведёт:
Через её шагнёте кости!..»
Сбылось – и в день Бородина
Вновь наши вторглись знамена
В проломы падшей вновь Варшавы;
И Польша, как бегущий полк,
Во прах бросает стяг кровавый —
И бунт раздавленный умолк.
В боренье падший невредим;
Врагов мы в прахе не топтали;
Мы не напомним ныне им
Того, что старые скрижали
Хранят в преданиях немых;
Мы не сожжём Варшавы их;
Они народной Немезиды
Не узрят гневного лица
И не услышат песнь обиды
От лиры русского певца.
Но вы, мутители палат,
Легкоязычные витии,
Вы, черни бедственный набат,
Клеветники, враги России!
Что взяли вы?.. Ещё ли росс
Больной, расслабленный колосс?
Ещё ли северная слава
Пустая притча, лживый сон?
Скажите: скоро ль нам Варшава
Предпишет гордый свой закон?
Куда отдвинем строй твердынь?
За Буг, до Ворсклы, до Лимана?
За кем останется Волынь?
За кем наследие Богдана?
Признав мятежные права,
От нас отторгнется ль Литва?
Наш Киев дряхлый, златоглавый,
Сей пращур русских городов,
Сроднит ли с буйною Варшавой
Святыню всех своих гробов?
Ваш бурный шум и хриплый крик
Смутили ль русского владыку?
Скажите, кто главой поник?
Кому венец: мечу иль крику?
Сильна ли Русь? Война, и мор,
И бунт, и внешних бурь напор
Её, беснуясь, потрясали —
Смотрите ж: всё стоит она!
А вкруг её волненья пали —
И Польши участь решена…
Победа! сердцу сладкий час!
Россия! встань и возвышайся!
Греми, восторгов общий глас!..
Но тише, тише раздавайся
Вокруг одра, где он лежит,
Могучий мститель злых обид,
Кто покорил вершины Тавра,
Пред кем смирилась Эривань,
Кому суворовского лавра
Венок сплела тройная брань.
Восстав из гроба своего,
Суворов видит плен Варшавы;
Вострепетала тень его
От блеска им начатой славы!
Благословляет он, герой,
Твоё страданье, твой покой,
Твоих сподвижников отвагу,
И весть триумфа твоего,
И с ней летящего за Прагу
Младого внука своего.
1831
Клеветникам России
О чём шумите вы, народные витии?
Зачем анафемой грозите вы России?
Что возмутило вас? волнения Литвы?
Оставьте: это спор славян между собою,
Домашний, старый спор, уж взвешенный судьбою,
Вопрос, которого не разрешите вы.
Уже давно между собою
Враждуют эти племена;
Не раз клонилась под грозою
То их, то наша сторона.
Кто устоит в неравном споре:
Кичливый лях иль верный росс?
Славянские ль ручьи сольются в русском море?
Оно ль иссякнет? вот вопрос.
Оставьте нас: вы не читали
Сии кровавые скрижали;
Вам непонятна, вам чужда
Сия семейная вражда;
Для вас безмолвны Кремль и Прага;
Бессмысленно прельщает вас
Борьбы отчаянной отвага —
И ненавидите вы нас…
За что ж? ответствуйте: за то ли,
Что на развалинах пылающей Москвы
Мы не признали наглой воли
Того, под кем дрожали вы?
За то ль, что в бездну повалили
Мы тяготеющий над царствами кумир
И нашей кровью искупили
Европы вольность, честь и мир?
Вы грозны на словах – попробуйте на деле!
Иль старый богатырь, покойный на постеле,
Не в силах завинтить свой измаильский штык?
Иль русского царя уже бессильно слово?
Иль нам с Европой спорить ново?
Иль русский от побед отвык?
Иль мало нас? Или от Перми до Тавриды,
От финских хладных скал до пламенной Колхиды,
От потрясённого Кремля
До стен недвижного Китая,
Стальной щетиною сверкая,
Не встанет русская земля?..
Так высылайте ж нам, витии,
Своих озлобленных сынов:
Есть место им в полях России,
Среди нечуждых им гробов.
1831
Фёдор Тютчев
Славянам
Они кричат, они грозятся:
«Вот к стенке мы славян прижмём!»
Ну, как бы им не оборваться
В задорном натиске своём!
Да, стенка есть – стена большая, —
И вас не трудно к ней прижать.
Да польза-то для них какая?
Вот, вот что трудно угадать.
Ужасно та стена упруга,
Хоть и гранитная скала, —
Шестую часть земного круга
Она давно уж обошла…
Её не раз и штурмовали —
Кой-где сорвали камня три,
Но напоследок отступали
С разбитым лбом богатыри…
Стоит она, как и стояла,
Твердыней смотрит боевой:
Она не то чтоб угрожала,
Но… каждый камень в ней живой.
Так пусть же бешеным напором
Теснят вас немцы и прижмут
К её бойницам и затворам, —
Посмотрим, что они возьмут!
Как ни бесись вражда слепая,
Как ни грози вам буйство их, —
Не выдаст вас стена родная,
Не оттолкнёт она своих.
Она расступится пред вами
И, как живой для вас оплот,
Меж вами станет и врагами
И к ним поближе подойдёт.
1867
Александр Блок
Война горит неукротимо…
Война горит неукротимо,
Но ты задумайся на миг, —
И голубое станет зримо,
И в голубом – Печальный Лик.
Лишь загляни смиренным оком
В непреходящую лазурь, —
Там – в тихом, в голубом, в широком —
Лазурный дым – не рокот бурь.
Старик-пастух стада покинет,
Лазурный догоняя дым.
Тяжёлый щит боец отринет,
Гонясь без устали за ним.
Вот – равные, идут на воле,
На них – одной мечты наряд,
Ведь там, в широком Божьем поле,
Нет ни щитов, ни битв, ни стад.
1902
На поле Куликовом
1
Река раскинулась. Течёт, грустит лениво
И моет берега.
Над скудной глиной жёлтого обрыва
В степи грустят стога.
О, Русь моя! Жена моя! До боли
Нам ясен долгий путь!
Наш путь – стрелой татарской древней воли
Пронзил нам грудь.
Наш путь – степной, наш путь – в тоске безбрежной,
В твоей тоске, о Русь!
И даже мглы – ночной и зарубежной —
Я не боюсь.
Пусть ночь. Домчимся. Озарим кострами
Степную даль.
В степном дыму блеснёт святое знамя
И ханской сабли сталь…
И вечный бой! Покой нам только снится
Сквозь кровь и пыль…
Летит, летит степная кобылица
И мнёт ковыль…
И нет конца! Мелькают вёрсты, кручи…
Останови!
Идут, идут испуганные тучи,
Закат в крови!
Закат в крови! Из сердца кровь струится!
Плачь, сердце, плачь…
Покоя нет! Степная кобылица
Несётся вскачь!
2
Мы, сам-друг, над степью в полночь стали:
Не вернуться, не взглянуть назад.
За Непрядвой лебеди кричали,
И опять, опять они кричат…
На пути – горючий белый камень.
За рекой – поганая орда.
Светлый стяг над нашими полками
Не взыграет больше никогда.
И, к земле склонившись головою,
Говорит мне друг: «Остри свой меч,
Чтоб недаром биться с татарвою,
За святое дело мёртвым лечь!»
Я – не первый воин, не последний,
Долго будет родина больна.
Помяни ж за раннею обедней
Мила друга, светлая жена!
3
В ночь, когда Мамай залёг с ордою
Степи и мосты,
В тёмном поле были мы с Тобою, —
Разве знала Ты?
Перед Доном, тёмным и зловещим,
Средь ночных полей,
Слышал я Твой голос сердцем вещим
В криках лебедей.
С полунóчи тучей возносилась
Княжеская рать,
И вдали, вдали о стремя билась,
Голосила мать.
И, чертя круги, ночные птицы
Реяли вдали.
А над Русью тихие зарницы
Князя стерегли.
Орлий клёкот над татарским станом
Угрожал бедой,
А Непрядва убралась туманом,
Что княжна фатой.
И с туманом над Непрядвой спящей,
Прямо на меня
Ты сошла в одежде, свет струящей,
Не спугнув коня.
Серебром волны блеснула другу
На стальном мече,
Освежила пыльную кольчугу
На моём плече.
И когда, наутро, тучей чёрной
Двинулась орда,
Был в щите Твой лик нерукотворный
Светел навсегда.
4
Опять с вековою тоскою
Пригнулись к земле ковыли.
Опять за туманной рекою
Ты кличешь меня издали…
Умчались, пропали без вести
Степных кобылиц табуны,
Развязаны дикие страсти
Под игом ущербной луны.
И я с вековою тоскою,
Как волк под ущербной луной,
Не знаю, что делать с собою,
Куда мне лететь за тобой!
Я слушаю рокоты сечи
И трубные крики татар,
Я вижу над Русью далече
Широкий и тихий пожар.
Объятый тоскою могучей,
Я рыщу на белом коне…
Встречаются вольные тучи
Во мглистой ночной вышине.
Вздымаются светлые мысли
В растерзанном сердце моём,
И падают светлые мысли,
Сожжённые тёмным огнём…
«Явись, мое дивное диво!
Быть светлым меня научи!»
Вздымается конская грива…
За ветром взывают мечи…
5
И мглою бед неотразимых
Грядущий день заволокло.
Вл. Соловьёв
Опять над полем Куликовым
Взошла и расточилась мгла,
И, словно облаком суровым,
Грядущий день заволокла.
За тишиною непробудной,
За разливающейся мглой
Не слышно грома битвы чудной,
Не видно молньи боевой.
Но узнаю тебя, начало
Высоких и мятежных дней!
Над вражьим станом, как бывало,
И плеск и трубы лебедей.
Не может сердце жить покоем,
Недаром тучи собрались.
Доспех тяжёл, как перед боем.
Теперь твой час настал. – Молись!
1908
Анна Ахматова
Не с теми я, кто бросил землю…
Не с теми я, кто бросил землю
На растерзание врагам.
Их грубой лести я не внемлю,
Им песен я своих не дам.
Но вечно жалок мне изгнанник,
Как заключённый, как больной.
Темна твоя дорога, странник,
Полынью пахнет хлеб чужой.
А здесь, в глухом чаду пожара
Остаток юности губя,
Мы ни единого удара
Не отклонили от себя.
И знаем, что в оценке поздней
Оправдан будет каждый час…
Но в мире нет людей бесслёзней,
Надменнее и проще нас.
Мужество
Мы знаем, что ныне лежит на весах
И что совершается ныне.
Час мужества пробил на наших часах,
И мужество нас не покинет.
Не страшно под пулями мёртвыми лечь,
Не горько остаться без крова,
И мы сохраним тебя, русская речь,
Великое русское слово.
Свободным и чистым тебя пронесём,
И внукам дадим, и от плена спасём
Навеки.
Константин Симонов
Жди меня, и я вернусь
Жди меня, и я вернусь.
Только очень жди,
Жди, когда наводят грусть
Жёлтые дожди,
Жди, когда снега метут,
Жди, когда жара,
Жди, когда других не ждут,
Позабыв вчера.
Жди, когда из дальних мест
Писем не придёт,
Жди, когда уж надоест
Всем, кто вместе ждёт.
Жди меня, и я вернусь,
Не желай добра
Всем, кто знает наизусть,
Что забыть пора.
Пусть поверят сын и мать
В то, что нет меня,
Пусть друзья устанут ждать,
Сядут у огня,
Выпьют горькое вино
На помин души…
Жди. И с ними заодно
Выпить не спеши.
Жди меня, и я вернусь,
Всем смертям назло.
Кто не ждал меня, тот пусть
Скажет: – Повезло.
Не понять, не ждавшим им,
Как среди огня
Ожиданием своим
Ты спасла меня.
Как я выжил, будем знать
Только мы с тобой, —
Просто ты умела ждать,
Как никто другой.
1941
Иеромонах Прокопий (Пащенко). Военный синдром
Последствия физического насилия. Боевая психическая травма (военный синдром)[10]
В результате столкновения с травматическим переживанием человек иногда словно «застревает» в одном и том же дне. В этом «повторяющемся дне» Эрик Ломакс пробыл тридцать лет. Эрик был военнослужащим, попавшим в плен к японцам во время Второй мировой войны. Японцы нашли у него зарисовку железной дороги, считавшейся секретной, и посчитали, что Эрик является частью агентурной сети. Их подозрения были подогреты тем, что у военнопленных было обнаружено радио, по которому они тайком узнавали последние новости с фронта. Тот факт, что радио было настроено лишь на приём данных, но никак не на передачу, японцев ни в чём не убедил. Они начали пытать Эрика, поставив перед собой задачу получить от него информации о шпионской деятельности, которую он не вёл.
После освобождения из плена Эрик вернулся на родину. Его мучили кошмары, но он отказывался воспринимать их как серьёзную угрозу и пытался делать вид, что прошлого не было и в помине. Тем не менее семена, посеянные его мучителями, всё же проросли. Семейная жизнь Эрика была отравлена этими всходами. «Во время ссор, – писал Эрик, – я оказывал сопротивление с поистине безграничным упрямством, словно по поводу и без повода мстил и кэмпэйтаю, и всем тем охранникам… Я продолжал сражаться, когда кругом уже давно царил мир».
В своём мире, ставшем чёрно-белым, он привык закапывать правду и собственную боль, надеясь, что эта боль рассосётся. Он и его супруга не хотели, чтобы их отношения распались. Выражаясь своими словами, можно сказать, что доминанта, образовавшаяся во время пыток, включалась и во время семейных разговоров. Во время допросов Эрик настраивал себя на то, чтобы не сдаваться, и этот же стиль поведения «включался» и во время обычных разговоров с супругой.
Такая точка зрения может быть подкреплена словами самого Эрика, который привёл рефлексию одного специалиста на свою персону. Этот специалист отмечал в отношении Эрика, что ему «впервые попался пациент со столь непроницаемой физиономией, по которой невозможно прочитать мысли». Можно предположить, что доминанта, внешним выражением которой и стало нарастание на лице этой маски, сформировалась во время допросов.
Эрик не знал, что предпринять в создавшемся положении. Себя он видел типичным бывшим военнопленным, который, если и расскажет о прошлом, то только «собратьям по несчастью». «Умалчивание превращается во вторую натуру, в щит, которым прикрываются от тех лет, и это вдвойне справедливо в случае жертвы пыток». Ему понадобилось проделать долгий путь, чтобы «взглянуть воспоминаниям в глаза».
Эрик отметил в своей книге[11] участливое отношение к нему миссис Бамбер, директора «Медицинского фонда помощи жертвам пыток». Миссис Бамбер, писал он, «была воплощением участливой неторопливости, и как раз это-то произвело на меня самое глубокое впечатление. Словно у неё имелось бесконечно много времени, неограниченные запасы терпения и сострадания». Эрик был потрясён, впервые увидев, что его слова не должны утонуть в текучке повседневности, наконец-то он встретил человека, у которого нашлось на него время.
Хелен Бамбер, ещё будучи юной девушкой, выслушивала ужасные рассказы заключённых концентрационных лагерей. Она поняла, «до чего важно дать людям выговориться, насколько могучей силой обладает искусство слушать другого человека».
Со временем Эрик узнал, что переводчик, чей голос звучал во время пыток, жив. Желая отомстить, Эрик отправляется на встречу с Нагасэ, так звали переводчика. Нагасэ также мучили кошмары, он был охвачен внутренней пустотой, с которой он пытался бороться тем, что рассказывал об ошибках войны, участником которой он стал.
Прощать его Эрик был не намерен, у него созревал план мщения. Хелен Бамбер призывала Эрика не зацикливаться на идее убийства, ссылаясь на то, что «медицинская литература пестрит примерами того, как американские ветераны Вьетнама получают новые психологические травмы, столкнувшись с яркими напоминаниями о своём военном прошлом».
Во время встречи с Нагасэ Эрик не стал его убивать. Напротив, он зачитал ему заранее составленное сообщение, в котором извещал японца, что прощает его. После состоявшейся встречи он почувствовал, что «совершил нечто такое, о чём и мечтать не смел. Состоявшаяся встреча превратила Нагасэ из ненавистного врага, дружба с которым немыслима, в побратима». «Если бы, – писал Эрик, – лицо одного из моих мучителей так и осталось безымянным, если бы я не сумел увидеть, что за этим лицом тоже стоит разбитая жизнь, прошлое так и продолжало бы наносить мне бессмысленные визиты через кошмары. Я доказал самому себе, что недостаточно только лишь помнить, если это заставляет тебя зачерстветь в ненависти».
«Нельзя, чтобы ненависть была вечной», – этими словами Эрик ответил на сомнения своей супруги. Супруга во время посещения военного мемориала, указывая на количество могил, спросила, правильно ли то, что они делают (прощая Нагасэ). «Нельзя, чтобы ненависть была вечной», – реализацией этих слов на практике, во время встречи с Нагасэ, был перечёркнут травматический опыт с почти что сорокалетней историей.
Травматическая доминанта Эрика визуально представлена в фильме, созданном по одноимённому роману. В доме Эрика была специальная комната, в которой он предавался воспоминаниям по принципу «я и моё горе». Доминанта росла, крепла и… перестала существовать, как только появилась новая, бодрая доминанта. Если этого исхода к конструктиву не происходит, то человек так и остаётся в капсуле вечно повторяющегося дня.
* * *
Опыт, в чём-то близкий опыту Эрика, было дано пережить Юрию Шевчуку, лидеру группы ДДТ. Юрия во время войны в Чечне не пытали, с опытом Эрика история Юрия роднится тем, что обе истории можно включить в явление, которое называют военным синдромом (боевая психическая травма).
Юрий поехал на войну в Чечню (1994 год), чтобы поддержать ребят. Он выступал перед военнослужащими, был с ними, что называется, и в радости, и в горе. Вернулся он с войны другим человеком, и тому, что он там видел, был не рад.
Однажды ночью он подписывал бойцам полка автографы на военных билетах: «Добра, удачи». Через некоторое время ему довелось увидеть стопку подписанных им «военников» – в крови, пробитых пулями.
После возвращения из Чечни Юрий, по его собственным словам, «бухал и плакал». Подстегнули вхождение в такой тип реакции увиденные им в Москве контрастные войне картины: люди сидят в барах (а в Чечне людей убивают – «месиво»).
Друг Юрия, имевший опыт войны в Афганистане, вывез его в деревню, где и оставил его до выздоровления. Природа, лес, небо, весна… И наступила жажда серьёзной любви, и он почувствовал, что спасение – в ней. Он написал песню «Любовь», не о войне, а о любви, и эта песня спасла его.
* * *
Примечательно, что во всех приведённых случаях мы видим расширение опыта, выход опыта из плоскости военной тематики. Здесь можно привести некий образ-аналогию, комментирующий дальнейшие мысли о расширении опыта.
Травматическое переживание вызывает к жизни травматическую доминанту. Доминанта – состояние нервной системы, вызываемое к жизни вследствие возбуждения «разрыхлённого» очага в коре головного мозга. Этот очаг, словно воронка, втягивает в водоворот и «поглощает» (подчиняет своему ритму) прочие площади коры головного мозга. Но если они будут укреплены (активированы по другому поводу), то сползанию их в «воронку» будет положена преграда.
Активация корковых площадей происходит во время внимательного чтения, когда мы пытаемся соотнести прочитанное со своей жизнью, и во время реализации отношений, основанных на интересе к жизни ближнего. Если человек много читает, имеет опыт сопереживания ближним, то у него активировано большее количество нейронов по сравнению с человеком, который целиком и полностью сосредоточен на выполнении служебных обязанностей (например, военнослужащим, который кроме дисциплины и устава ничего не хочет знать: ни веры, ни культуры, ни ближних, ни того, что многие зовут эмпатией[12]). Дополнительные площади коры головного мозга, активированные вследствие чтения и эмпатии, в случае столкновения с экстремальными обстоятельствами могут переключиться на решение новой задачи.
* * *
Неким комментарием к этой мысли могут послужить данные исследований, проведённых Джорданом Графманом. Он в течение двадцати лет служил в подразделении биомедицинских исследований Военно-воздушных сил США (имеет звание капитана). В частности, Графман исследовал проникающие ранения головы. Исследуя повреждения головы, он сталкивался со случаями, когда пулями или осколками повреждались лобные доли мозга, ответственные за координацию работы других частей мозга, за фокусировку сознания на главном моменте ситуации, за формирование целей и долгосрочных решений.
Графман хотел выяснить, какие факторы более всего влияют на процесс выздоровления после получения повреждения лобной доли. «Он обнаружил, что независимо от размера раны и местоположения повреждения уровень интеллекта человека служит очень важным фактором прогнозирования того, насколько хорошо он будет восстанавливать утраченные функции мозга. Обладание более высокими когнитивными способностями – „лишним“ интеллектом – помогало мозгу лучше компенсировать тяжёлую травму». Данные, собранные Графманом, позволяют предположить, что люди с высоким интеллектом способны реорганизовать свои когнитивные способности для поддержки повреждённых областей мозга.
История Графмана и прочие подробности об исследованиях, проведённых им, приводятся в книге Нормана Дойджа «Пластичность мозга»[13], в главе 11. Примечательно, что эта глава называется «Больше, чем сумма частей». Выше отмечалось, что тот, кто пытается разрешить проблему травматического опыта, но при том остаётся в плоскости прежнего образа жизни, может так и не достигнуть желаемой цели.
Графман без конца проигрывает ситуацию на тренингах, читает книжки по психологии. Он пытается найти психологическую концепцию, опёршись на которую, он обрёл бы нечто типа математической формулы для разрешения собственной задачи.
Но цель достигается там, где человек поднимается над собой прежним, приходит к тому, что «больше, чем сумма частей». Когда человек поднимается над собой прежним, создаётся новая конфигурация опыта, которая не схватывается, как принято говорить, «рациональным дискурсом».
Кто смотрит на свою жизнь с позиций христианства, помнит о Промысле Божием, о Священной Истории, прислушивается к совести, соотносит свою жизнь со Священным Писанием, тот рассматривает ситуацию с бо́льших углов зрения. В мыслительный процесс включено больше корковых площадей, и, задействовав «мощности» этих площадей, человек может перестроить опыт патологический, патологическую доминанту.






