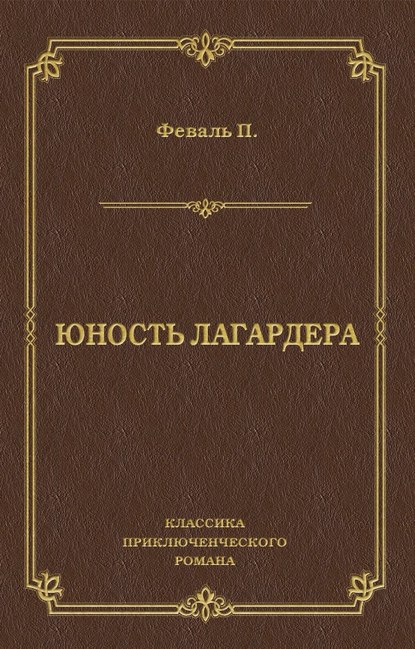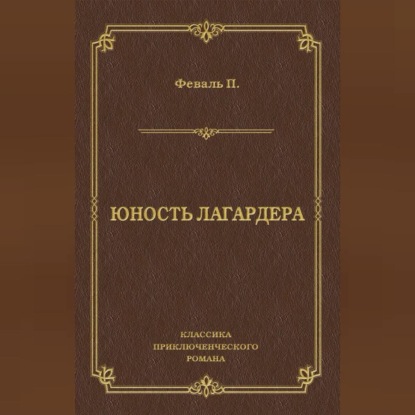Полная версия
Полная версияПолная версия:
Поль Феваль Башня преступления
- + Увеличить шрифт
- - Уменьшить шрифт

Поль Феваль
Башня преступления
Часть первая
КЛАМПЕН ПО КЛИЧКЕ ПИСТОЛЕТ
I
УБИЙСТВО КОШКИ
Крохотное запыленное окно тускло освещало захламленную, но просторную лестничную площадку. На нее выходили три обшарпанные двери, к которым вела крутая винтовая лестница с запотевшей от влаги центральной опорой. Двери были расположены полукругом.
Справа и слева от узкой лестницы виднелись две ниши, забитые деревяшками и строительным мусором, кусками торфа и вязанками хвороста.
Вечерело. С нижних этажей, а было их всего три, доносился звон бокалов и различной посуды. Густые ароматные запахи поднимались из трактира и кабаре на первом и втором этаже и накапливались вверху.
На последнем этаже было сравнительно тихо. Из большой щели под правой дверью доносился едва различимый разговор, сдобренный аппетитным запахом свежего супа. За центральной дверью была полная тишина. А за левой дверью слышалось что-то совершенно необъяснимое. Обладая даже безупречным слухом, нельзя было с уверенностью сказать: за этой ли дверью или где-то совсем рядом ритмично стучал молот. При каждом его ударе вся лестница сотрясалась.
И все же оказалось, что стучали именно за этой дверью, но звук был приглушенным.
В нише по левую руку от лестницы ничего нельзя было разглядеть, кроме наваленного там, как попало, скудного бедняцкого топлива. Слабый луч от окна пробивался сквозь вязанки хвороста и освещал как раз то место, где преспокойно нализывал себя красивый пушистый кот.
На первой двери слева была только одна табличка с номером 7.
На средней двери, кроме номера 8, была карточка, прикрепленная сургучом. На ней чернилами было выведено имя: Поль Лабр.
Третья дверь под номером 9 была как раз той, из-за которой, как казалось, доносился загадочный ритмичный стук.
Внизу часы с кукушкой пробили пять раз. Что-то зашевелилось в левой нише. Кот, который был в нише напротив, сразу же насторожился в своем укрытии за хворостом.
Разговор в комнате номер 7 стал более отчетливым, говорящие подошли к самой двери.
Она распахнулась и сразу выпустила на свободу весь аромат супа, о котором мы уже упомянули. Комната была большой, в ней было намного светлее, чем на лестнице. Посередине стоял круглый стол, накрытый скатертью, а в глубине виднелся очаг, над которым была развешена всякая кухонная утварь. На пороге появились мужчина и женщина, продолжавшие свою беседу.
Женщина была немолода. В ее простом аккуратном платье было что-то от деревенской моды, отличавшейся прежде всего особой опрятностью. В молодости женщина была, наверное, очень красивой. Выражение ее лица вселяло доверие. Суровость и доброта одновременно угадывались в облике этой женщины.
Ее собеседник, мужчина лет 35—40, был пропорционально сложен, несмотря на свой маленький рост. Его энергичное лицо казалось добродушным и настороженным, как это случается у людей, чья профессия не соответствует их характеру. Он был чисто выбрит, смотрел прямо и очень проницательно своими черными глазами из-под густых бровей. У этого мужчины с открытой чистосердечной улыбкой был типичный костюм мелкого буржуа.
– Значит, генерал в Париже? – очень тихо спросила женщина, предварительно окинув взглядом лестничную площадку. – Зачем скрывать это от меня, месье Бадуа, – добавила она, заметив нерешительность своего компаньона. – Вы же знаете, что я не болтлива.
– Знаю, мамаша Сула, что лучше вас нет никого, – ответил месье Бадуа. – Но поймите, за этим кроются такие дела, что волосы станут дыбом! Я чувствую, что Приятель-Тулонец где-то совсем рядом.
– Месье Лекок! Черные Мантии! – еще тише сказала Тереза Сула без всякого опасения, скорее с любопытством. И продолжила, добавив нежности своему голосу: – Кис-кис-кис! Этот кот становится таким же гуленой, как месье Мегень. Ну иди, иди сюда драгоценный мой!
Бадуа протянул руку мамаше Сула:
– До скорой встречи, – сказал он. – Я буду к ужину, ровно в шесть… Странно, но все женщины испытывают что-то потаенное к этим гулякам и шалопаям.
Это был явный упрек, но Тереза добродушно засмеялась, по-прежнему держа протянутую ей руку.
– Кстати, у меня есть идея насчет этого юнца с бледным лицом, – шепнула она. – У меня… была дочь, ей примерно столько же лет, сколько и ему.
Она с грустью посмотрела на центральную дверь под номером 8.
– Я абсолютно не испытываю никакой ревности по отношению к месье Полю, – засмеялся Бадуа. Он был явно в хорошем расположение духа. – Если бы в нем была эдакая искрометность, он бы далеко пошел. Но это дело с генералом сразу же поставило на нем крест… Виною тому его застенчивость, стыдливость, предрассудки. До встречи, мадам Сула. Когда я нападаю на след, меня уже не удержать!
Он медленно начал спускаться по лестнице. Мадам Сула задумалась на мгновение и задержалась на пороге своей комнаты.
– Генерал! – сказала она про себя. – Моя дочь счастлива в его доме. Я знаю, что он любит ее так же, как свою вторую дочь!
Она позвала еще раз:
– Кис-кис-кис! Гулена! Кис-кис-кис!
Но упрямый кот превосходно чувствовал себя на куче хвороста и слышать не хотел, что его зовут.
Мадам Сула вошла в комнату и закрыла за собой дверь. Пока она находилась на лестничной площадке, размеренный и глухой стук, доносившийся из комнаты номер 9, прекратился. И как только мадам Сула ушла к себе, стук возобновился.
Теперь она сидела перед очагом и смотрела на большой медный котел, в котором вовсю кипело жаркое.
– Он и не знает, что я еще жива, – подумала она. – Ну и что? Я ведь никогда ничего у него не просила.
Она достала из-под косынки маленькую коробочку и открыла ее. Там лежал портрет красавца кавалериста в форме улана со знаками отличия командира эскадрона. Под портретом было написано: «Терезе».
Мадам Сула смотрела на портрет. На словах просто невозможно передать все чувства, охватившие ее в этот момент. Но одно можно сказать определенно: это не было чувство любви.
– Они говорят, что революции все изменили в этом мире, – тихо заговорила она. – Красавец, богатый, сильный, влиятельный приезжает в бедную страну. Встречает там красавицу и отбирает у нее всю душу, покой. Он уезжает полный счастья, а она остается бедной, опустошенной. Когда же все изменится? У меня было столько нежности, столько ярости! А теперь ничего не осталось, я думаю только о дочери. Изоль счастлива в его доме. Все, что я могла бы сделать для нее, я сделала бы от всего сердца.
Жаркое сильно кипело, из котла распространялись удивительные запахи, невыносимые для пресыщенных желудков и доводящие до экстаза скромный аппетит бедных поэтов.
Мадам Сула встала и подошла к столу, чтобы поправить приборы – полдюжины тарелок, у каждой из которых стояло по бутылочке, накрытой салфеткой, сложенной колпачком.
За этим столом ждали гостей.
Кто-то постучался и вошли два завсегдатая: месье Мегень, получивший уже характеристику гуляки, и месье Шопан, во всех отношениях серьезный мужчина.
Пришло время сказать, что с самого начала повествования вы знакомитесь только с полицейскими. Мадам Сула держала дешевую столовую для господ полицейских инспекторов. Бадуа был инспектором, месье Мегень, блистательный жуир[1], был инспектором, так же, как и месье Шопан, с повадками рантье и душой бухгалтера.
Поль Лабр, пока не известный нам, был единственным человеком в этой компании, который мог увести нас от прозы жизни в мир поэтических грез.
Эта загадочная лестничная площадка находилась в доме, так или иначе связанным с различными историческими событиями. Так, мы с вами на Иерусалимской улице, в самом центре квартала, занимаемого сыскной полицией. Трактир и кабаре, откуда доносился звон бокалов, принадлежали папаше Буавену, хозяину двух домов и башни на самом берегу Сены. Ее называли башней Тардье или башней Преступления.
Комната номер 9, из которой доносился приглушенный стук, находилась на последнем этаже этой башни.
На господине Мегене был синий сюртук с черными пуговицами. Ну просто Дон Жуан, отдаленно напоминавший служащего бюро похоронных услуг. Месье Шопан был одет в наглухо застегнутый редингот военного покроя. Он был маленького роста, сухощавый, с болезненным лицом серо-желтого цвета и отличался спокойствием и очень низким голосом.
– Рад приветствовать прекрасную даму, – сказал Мегень, грациозно приподняв на два дюйма над головой свою шляпу. – Не знаю, почему вас заинтересовал генерал, граф Шанма, но могу сообщить, что его доставили из Мон-Сен-Мишеля в Париж, где он предстанет свидетелем по делу о политическом заговоре.
– Где он предстал свидетелем, – уточнил Шопан. – Суд уже начался.
– Генерал был очень добр к моей семье, – как бы вскользь заметила мадам Сула и продолжила: – Какие такие таинственные дела привели вас всех в движение?
– Ах, вот как! – возмутился Мегень. – Этот Бадуа уже успел что-то выболтать! Да нет никакого дела, ни начала, ни конца, ерунда, несколько слов, да к тому же подслушанных жандармом! А жандармы, они ведь мастера все переиначить.
Шопан рассмеялся. Всем известно, что в те времена ни о какой священной дружбе между жандармами и полицейскими инспекторами и речи быть не могло.
– Во время путешествия из Мон-Сен-Мишеля в Париж, – продолжил Мегень, – дай Бог памяти, на какой же почтовой станции… к генералу подошел какой-то мужчина в рабочей робе и что-то сказал ему. Ну, а наш бравый жандарм уловил, конечно, только обрывок фразы: «…Готрон, помеченный желтым мелом».
– Вот и угадай! – перебил Шопан. – Тут же все мудрецы из сыскной полиции бросились на поиски! «Готрон, помеченный желтым мелом»! Вот это ребус, так ребус!
– «Готрон, помеченный желтый мелом»! – повторил господин Мегень, пожимая плечами. – А может это условный сигнал?
– Или способ разделаться с Готроном? – вставил Шопан. – Кто-то хочет уничтожить Готрона.
– И вот наш драгоценный Бадуа спешит на дело! – подхватил месье Мегень. – Он везде хочет быть первым! Его осведомитель, малыш Пистолет, которому только котов душить да слоняться по городу, все утро проторчал у дворца! Рыщет наш Бадуа! А я так скажу: будь Готрон под желтым крестом или под белым соусом, мы должны правительству ровно столько, сколько оно нам дает. Нужно же уважать профессию! И главное – никогда не нервничать! Вот мое мнение.
Когда пробило шесть часов, пятеро гостей сели за стол. Два места пустовали, не было месье Бадуа и соседа из восьмой комнаты, Поля Лабра, которого уже несколько раз приглашали к столу.
На лестничной же площадке, где стало еще темней, что-то бесформенное зашевелилось в нише справа от лестницы, а в левом углублении безмятежно раскинулся кот, который к тому времени уже завершил свой туалет.
– На-ка, выкуси! – сказал кто-то скрипучим, но тонким голоском. – Чтоб я не разделался с кошкой, быть такого не может! Месье Бадуа мне ничего не даст за то, что я услышал здесь эти удары, рядом или чуть дальше, черт его знает, где это скребут. И никого, и ничего. А мне нужно двадцать су. Меш, моя албаночка, ждет меня в Бобино со своими красотками. Хоть бы любимчик мамаши Терезы пробежал! Я могу и потерпеть несколько дней, если есть настоящее дело. А так, впустую, зачем лишать себя удовольствий в моем возрасте.
Нескладная тощая фигура медленно выплыла из темноты. В сумерках уходящего дня еще можно было разглядеть под выцветшей рабочей блузой появившегося незнакомца его угловатое, костлявое тело; на его узкой голове красовалась пышная белокурая шевелюра.
Незнакомец сделал один шаг и потянулся. Это был Клампен по кличке Пистолет. Свободный, как ветер, юноша, но при деле: он работал на месье Бадуа, на трактирщиков острова Ситэ и на многих других.
Кот насторожился на своей куче хвороста. Он почувствовал врага.
Могло показаться, что Пистолет был босиком, так беззвучно обогнул он лестничную клетку. В руках он держал предмет, похожий на крючок старьевщика. Это была самоделка, он смастерил ее из толстой хворостины и гвоздя.
– Кис-кис-кис! – нежно позвал он, подражая голосу мадам Сула.
В куче хвороста послышался шорох: кот пятился, чтобы глубже запрятаться.
– Ты ни в чем не виноват, – сказал ему Пистолет. – Ни к чему волноваться. Ты даже и заметить ничего не успеешь. Я ведь выжидал, ты не можешь этого отрицать. Мамаша Сула, добрейшая душа, готова приютить любого подзаборного кота… Увы, такие вот дела. Не все коту масленица! А знаешь, какой шум бывает, когда опаздываешь в Бобино… Ни с места!
Глаза кота горели в темноте, как два уголька, и точно указывали местонахождение его головы.
О, эти великие охотники! И почти у каждого из них есть что-то от хирурга. Клампен по кличке Пистолет прицелился и нанес удар своим гвоздем. Угольки сразу потухли.
– Ну вот и все, – буркнул он. – Я же говорил, что это пустяки.
Он не успел договорить, как за дверью номер 9 послышался скрип. За несколько секунд до этого удары прекратились.
Пистолет забрался за кучу хвороста, не обращая внимания на еще теплый труп своей жертвы, и насторожился.
Дверь под номером 9 открылась и то, что увидел Пистолет, показалось ему очень странным.
В комнате было светло. Когда дверь полностью распахнулась, то на ее обратной стороне Пистолет заметил прибитый матрац.
«Чтобы не было слышно ударов кирки, – подумал он. – Не глупо!»
На пороге появился крупный мужчина. Он вышел и что-то написал на досчатой двери.
«Пишет свою фамилию, – решил Пистолет. – Потом посмотрим».
На этом все кончилось. Мужчина вернулся в комнату и задвинул засов изнутри. Но когда он разворачивался, чтобы снова войти в дверь, Пистолету удалось разглядеть его профиль. Потрясенный и несколько напуганный своим неожиданным открытием он прошептал:
– Месье Куатье! Лейтенант! Надо взглянуть, что он там нацарапал на двери своей конуры.
Вспыхнула спичка. Пистолет приблизил пламя к двери номер 9 и прочел: Готрон.
Фамилия была выведена желтым мелом.
II
УГОЛОК СТАРОГО ПАРИЖА
Клампен по кличке Пистолет задул спичку и стал размышлять.
«Эта новость уж точно заинтересует месье Бадуа», – подумал он.
Тем временем глухой шум возобновился. Теперь Пистолет уже знал, почему эти размеренные удары кирки или молота казались такими далекими. Все это – из-за матраца.
Пистолет продолжил свои размышления:
«С Лейтенантом шутки плохи. Он прикончит любого так же просто, как я разделываюсь с котами, что те даже и пикнуть не успевают. Что же он там делает этой киркой? Весь дом сотрясается. Странно, что внизу, в кабинетах, ничего не слышат. У этих всегда все продумано. Может быть, в кабинетах сейчас только друзья».
Пистолет прицепил свой крючок к помочам под блузой. Для этого охотничьего приспособления не нужно было иметь разрешения на ношение оружия.
Затем он опять погрузился в свои размышления.
«Нет уж, дудки, чтоб я не пошел сегодня вечером в Бобино, к своей Меш, албаночке! – сказав себе это, он забрал с хвороста труп несчастного кота. – Теперь-то уж двадцать су у меня в кармане!» – обрадовался Клампен.
Он ощупал со знанием дела свою жертву и прошептал:
– Потянет на целых двадцать пять су! Здоровый котяра, а шерсть-то какая шелковистая. В «Белом Кролике» его так приготовят, что милорды пальчики оближут. А месье Бадуа я и завтра успею все сказать и про Куатье, и про фамилию, которую он написал на двери, обитой матрацем.
Как фамилия-то?.. Ну как же? Ну и память у меня… Гудрон… Готрон! Только бы не забыть до завтра! Мне нужно завести записную книжку с карандашом. Я бы ее купил, да она стоит целых сорок сантимов, а то и больше. Это что ж, ни есть, ни пить, ничего Меш не платить.
Несмотря на свою простоту, одежда парижского оборванца имеет огромное количество самых различных карманов. Они набиты всякими штуковинами, правда, цена которым меньше стоимости одной поездки на омнибусе. Пистолет порылся в карманах, ища хоть какой-нибудь клочок бумаги. Но бумаги не нашлось. Пистолет поискал на полу, опять не обнаружив ничего, на чем можно было бы записать странную фамилию.
– А все-таки я нашел кусочек угля, сойдет за карандаш, – буркнул себе под нос Пистолет. – Что же я совсем дурак, что ли? Вот же карточка месье Поля. Висит здесь неизвестно для чего. Прихвачу ее с собой на спектакль, чтоб не скучала.
Скользящей, бесшумной походкой Клампен по кличке Пистолет подошел к средней двери и содрал карточку Поля Лабра. На обратной стороне он записал фамилию «Готрон».
Теперь он был застрахован на случай, если память сыграет с ним злую шутку. Он спрятал под свою блузу дохлого кота и спустился по лестнице.
Настало время удовольствий. Пистолет, покинувший свой «рабочий кабинет», шагал по улице, высоко задрав голову и держа нос по ветру.
Загнав по давно установленному курсу бедного кота одному почтенному кулинару, готовившему из котятины отличное фрикасе из кролика под винным соусом, он купил хлеба на два су и еще на два су отварной свинины. И подкрепился прямо по дороге в театр Люксембургского сада. Не будучи представителем золотой молодежи, он без помех проходил в театр: на контроле его знали как неплохого клакера.
– Моя подруга уже на галерке? – спросил он. – Мы договорились с мадемуазель Меш.
Его Меш была на галерке. Он поднялся туда. Весь вечер Пистолет поражал верхний ярус своей щедростью. Он заплатил в порядке очередности за пиво по два су, за мусс из миндального молока, за яблоки, за галету и орешки.
В кармане обносившегося кавалера мадемуазель Меш еще кое-что осталось, чтоб подать голодающему. Но это не входило в его планы, он ждал удовольствий.
После ухода Пистолета лестничная площадка, где было совершено убийство, совсем опустела. У мадам Сула продолжался ужин, в мансарде Поля Лабра было по-прежнему тихо, и только в комнате № 9 вовсю кипела работа, шум от которой становился все сильнее.
Вдруг обе ниши и винтовая лестница осветились.
Открылась средняя дверь.
На пороге стоял Поль Лабр. Он прислушивался.
Глухой стук молота сразу же прекратился.
Из этого следовало, что тот или те, кто трудился в комнате № 9, каким-то образом знали, что происходит снаружи, за их обитой матрацем дверью.
Свет, падавший из окна комнатенки Поля Лабра, освещал его длинную фигуру, застывшую на пороге. Черты его лица нельзя было разглядеть. Но элегантный изгиб его силуэта, строгость и чистота профиля позволяли предположить, что он был очень красивым молодым человеком.
Вероятно он вышел из-за шума. Полная тишина его очень удивила. Можно было также предположить, что именно этот шум отвлек его от работы, требующей тишины. Он стоял в позе поэта, творческий порыв которого может быть нарушен любым, даже незначительным шумом.
Но Поль Лабр не был поэтом.
Сначала он посмотрел в сторону комнаты мадам Сула, где спокойно ужинали ее гости. Затем его вопросительный взгляд упал на дверь под № 9. Она не была освещена, и поэтому не было видно начерченной на ней желтым мелом фамилии.
Он провел рукой по лбу и тихо сказал:
– В такие мгновения теряешь самообладание. Я думал, что у меня хватит сил, а меня всего лихорадит. Мне даже мерещится шум, которого нет.
Он снова внимательно прислушался и добавил:
– Ничего не слышно! А мне показалось, что работают каменщики, колотят по стене. Я переутомился.
И он вернулся к себе в комнату.
Комната, в которую мы входим вместе с Полем Лабром, была маленькой. Форма у нее была совершенно неправильная, в плане она походила на сдавленный полумесяц. В центре наружной стены, которая описывала дугу, находилось сводчатое окно. Оба угла были усечены чем-то вроде шкафов или перегородок.
В комнате стояла кровать, три стула, комод и секретер. Стулья были в хорошем состоянии, похоже, что их принесли из парка или церкви. Комод развалился. Секретер из вишневого дерева, потемневшего от времени и невзгод, был единственным среди этой бедности предметом, походившим на дорогую вещь. Растрескавшаяся крышка секретера, на которой рядом с маленькой ликерочной рюмочкой, наполненной чернилами, лежали какие-то бумаги и перо, была подперта тростью.
На одном из стульев валялась черная шляпа, на ножке складной кровати висели еще новые черные брюки, черный жилет и черный сюртук.
Низкое сводчатое окно с козырьком выходило на большой сад, за которым виднелись различные массивные постройки.
Вместо того, чтобы сесть за секретер, из-за которого он только что встал, Поль Лабр как-то нерешительно подошел к окну и посмотрел на улицу. Кроме зданий, стоявших справа от сада, вдали виднелась прямая, как стрела, улица.
Слева, параллельно набережной, шла стена, за которой с этажа, на котором жил Поль Лабр, открывалась крохотная часть парижского пейзажа: Сена, за ней – набережная Огюстенов, ведущая к мосту Пон-Неф, а еще дальше – Монетный двор на фоне Института.
Открывавшийся вид был обрамлен справа высоким мрачным домом, к которому вплотную примыкала стена сада.
А теперь самое время дать, хотя бы приблизительно, топографические координаты окна, освещавшего бедную комнатенку Поля Лабра. Оно выходило на тыльную сторону домов по Иерусалимской улице, там, где она сходилась с набережной Орфевр. Сад, что был внизу, принадлежал Префектуре, управлению полиции, здания которого тянулись справа до церкви Сент-Шапель.
Прямой, как стрела, была улица Арле-де-Пале.
Сама же комната Поля Лабра находилась в пристройке к известной уже нам башне на углу Иерусалимской улицы и набережной Орфевр, одной из любопытнейших набережных Парижа.
Ничего этого теперь не сохранилось. Старинные места этого квартала можно сейчас увидеть только на фотографиях из коллекции, созданной по указанию месье Буателя. Лучшие снимки до сих пор хранятся у архивариуса Префектуры.
В 1834 году, с которого начинается наша история, башня, пристройка и примыкающий дом под № 3 по Иерусалимской улице принадлежали трактирщику Буавену. Имя его было достаточно широко известно среди бесцеремонных представителей парижских низов.
Папаша Буавен, конечно, не был ни историком, ни археологом, но гордился не меньше своей старой башней, бывшей когда-то частью фортификационных сооружений дворца, чем некогда владельцы не существующего сегодня великолепного здания.
Он с гордостью показывал всем следы от бургундских ядер, оставшихся в стене башни. Правда, при этом он точно не знал, в каком веке произошел этот обстрел.
Но зато он совершенно точно знал, что Буало-Депрео родился в соседнем доме, в доме каноника. «Буало – Буавен, почти что в рифму» – любил повторять трактирщик.
Он также знал, что детство Вольтера прошло рядом от его дома, в здании, где теперь располагалась контора типографии. Как много поэтических судеб было связано с этой крохотной улицей, насчитывающей меньше 15 туазов в длину!
Он также прекрасно знал, что в его башне когда-то жили королевский судья по уголовным делам Тардье с женой, два скупца, высмеянные Буало: что они были здесь убиты и что головы несчастных были подвешены к оконной раме на втором этаже. И до сих пор башню часто называли башней Тардье или башней Преступления.
Но Буавен недолюбливал таких людей, как Тардье, королевский судья по уголовным делам, за то, что они не дают спокойно жить добродушным весельчакам.
Но кроме дома каноника, дяди Буало, и особняка, в котором вырос Вольтер, было еще кое-что, чем гордился Буавен: арка Жана Гужона[2] и, конечно, церковь Сент-Шапель. И все здесь, рядом. Трактирщик считал, что такое архитектурно-историческое соседство придавало больше респектабельности его заведению. Он всегда охотно пояснял, что названия Иерусалимской улицы и улицы Назарет пришли до нас от паломников, которые перед отправлением на Святую Землю или после возвращения оттуда имели обыкновение собираться у часовни Сен-Луи, и добавлял:
– Они умирали от жажды, эти бездельники, после своих странствий по безводной пустыне. Сколько же им нужно было подавать, чтоб утолить их жажду. Моя харчевня берет начало от крестовых походов.
К зданиям же, принадлежавшим сыскной полиции, он не испытывал ни малейшего уважения, считая их инородцами, выскочками, появившимися здесь примерно в 1610 году.
В доме Буавена находилось еще и кабаре. Оно располагалось на втором этаже башни. Посетителей всегда хоть отбавляй, и как вы сами можете догадаться, им был совершенно чужд дворцовый этикет. Мужчины с рыцарскими манерами, не признающие физического труда, да и вообще, никаких других занятий, кроме охраны местных красоток, составляли его основную клиентуру и, признаться, не пользовались уважением в обществе.
Кроме них, были и жандармы, надзиратели, мелкие канцелярские служащие, пожарники, домушники, потерявшие всякое доверие в других трактирах острова Ситэ.